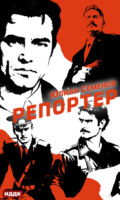Юлиан Семенов
Экспансия – III
Роумэн (Голливуд, сорок седьмой)
Клиника доктора Рабиновича была маленькой, всего два этажа; внизу лежали выздоравливающие, на втором этаже операционная и две палаты реанимации; Роумэн лежал в той, что ближе к операционной.
– Честно говоря, я не знал, что ваш друг такая важная персона, – сказал Рабинович раздраженно, отодвинув от себя большой старомодный телефонный аппарат. – Вы-то знали это, Спарк? Звонили из трех газет, все как один интересуются его здоровьем.
Спарк и Элизабет переглянулись:
– Он начал работать с режиссером Гриссаром, – задумчиво сказала Элизабет, – они затеяли какое-то суперкино, может быть, тот рассказал им о трагедии?
– Роумэн не сможет делать никакого кино... Я не знал, что отвечать прессе, пока вы не приехали... Пошли к нему, я позволяю навещать пациента в любом состоянии, допинг радости – лучшее лекарство...
В большой палате возле Роумэна сидела толстая негритянка в зеленом халате; увидев доктора, сразу же поднялась.
– Вы свободны, миссис Диббс, – сказал Рабинович. – Это друзья больного.
Когда сестра вышла, Рабинович вытащил из носа Роумэна тоненькие кислородные трубочки, отключил капельницу, из которой в вену шел физиологический раствор, и тихонько рассмеялся:
– Все, люди, здесь-то вас никто не услышит, а в карточку Пола я подшил кардиограмму Лависа, у того третий инфаркт, так что с этим все в порядке, камуфляж абсолютен.
Пол сел на кровати, кивнул на дверь:
– Сюда ненароком кто-нибудь не ворвется?
– Нет, – ответил Рабинович, – у меня штат вышколен.
– А если начнет умирать этот ваш Лавис?
Доктор почесал кончик носа:
– В вопросе есть резон, Пол. Я продумаю это дело, надо будет вмонтировать кнопку в дверь, поставлю пневматику – пройдет полминуты, пока створки распахнутся, так что лучше ляг и я воткну тебе в нос кислород, Лавис действительно должен умереть с минуты на минуту.
– Пусть живет. А я пока полежу, – усмехнулся Пол, – хотя эти игры стоят у меня поперек горла. Ты совершенно убежден, что здесь ничего не всунули мальчики Макайра?
Рабинович развел руками:
– Погляди сам: куда они могли что воткнуть? Я даже штепсели отсюда перенес в операционную, когда Грегори сказал, что инфаркт ты будешь играть у меня... И потом в клинику никто из посторонних не входит... Нет, Пол, это уже психоз, нельзя постоянно оглядываться на собственную тень.
– Умница, – сказал Пол, сунув в нос тоненькие резиновые трубочки, – щекотно, черт возьми. А вообще кислородом дышать приятно, голова делается пьяной, но по-хорошему, очень как-то звонко... Ты иди, Эд, пускай возле тела побудут близкие, нам надо побыть вместе минут пятнадцать...
– Заговорщики, – Рабинович усмехнулся, – шепчитесь, черти... Я зайду через двадцать минут, пока займусь твоей дверью.
– Моей не надо, – заметил Роумэн. – Займись дверями в операционной, это в порядке вещей, не будет бросаться в глаза... журналистам, которые так интересуются моей персоной... Они-то как раз и могут войти сюда без стука, так что подключай эту чертову капельницу.
Рабинович покачал головой:
– У тебя вместо головы счетчик, тебе не холодно жить на свете, зная заранее, что произойдет?
– Наоборот, жарко; знание предполагает избыточность движений, вот в чем вся штука.
Рабинович снова подключил капельницу, заметив:
– Тебе, кстати, это не помешает, ты играл всерьез, надо промыть кровь, алкоголь бьет по сосудам – в первую очередь. Значит, сначала я закажу пневматику в операционной, а потом уже у тебя, я верно понял?
– Ты гений, – ответил Спарк. – Понимаешь все с полуслова.
Рабинович снял очки, лицо его сделалось совершенно беззащитным, диоптрия минус восемь, глаза пепельные, в опушке длинных, девичьих ресниц.
Остановившись возле двери, он обернулся к Роумэну:
– Ты помнишь, что тебе надо играть оптимистический истеризм и хамство?
– Мне это и играть-то не надо, – вздохнул Роумэн. – Это моя сущность... Пошел вон, чертов эскулап...
Элизабет вздохнула:
– Дорогие мои шпионы, я никогда не могла предположить, что вы способны на такие длительные игры! Как не стыдно! Отчего вы меня не посвятили в дело с самого начала?
– Ты бы все провалила, – ответил Спарк. – С такими, как ты, играют втемную.
– Не сердись, сестричка, – сказал Роумэн. – Мы с Грегори старые волки, нам это не впервой, а тебя такая игра могла поломать. Слава богу, что Спарк встретил Рабиновича, это лучший выход, и прекрасно, что макайры успели оборудовать в «Президенте» вчерашний стол, – понятны звонки журналистов... Они скоро явятся сюда, вот увидишь... И это будет очередная ошибка Макайра... Теперь по делу, люди. Из Барилоче я получил очень важную информацию – это раз. Джек Эр, в случае чего, знает, что ему делать, – это два. Все, люди, идите. И навещайте меня по очереди. И пусть Элизабет не забывает приносить соки... Позвони двум-трем подругам, расскажи, что мины рвутся рядом, умирает одногодка Грегори, вот они – незарубцевавшиеся раны войны... Письмо Кристе тебе поможет написать Грегори... И всегда помни, сестра, твой дом нашпигован подслушками... Только когда Макайр... Нет, не так, – Роумэн потер лицо пятерней, – только если Макайр поверит, что мне каюк, он оставит вас в покое... И пили Грегори, все время говори ему, как надо беречь здоровье: «Смотри, что стало с бедным Полом, у нас все есть, мы обеспечены на пять лет вперед, не надрывайся на своей паршивой студии, береги себя, ты нужен детям, что я буду делать одна»...
– Фу, как противно, – сказала Элизабет. – Я никогда не смогу так говорить.
– Придумай, как можешь, – усмехнулся Спарк. – Ты порою бываешь невыносима, вот и зуди, вечером поедем купаться, все продумаем на пляже, срежиссируем, чтобы не было ляпов...
– Да уж, – попросил Роумэн, – не подкачайте, ребята...
Когда Спарки ушли, он откинулся на подушку, увидел перед собою веснушки Кристы и сладко уснул.
...Океан был тугим и ревущим, хотя ветер стих еще утром; зеленая мощь воды медленно вываливала самое себя на песок; пронзительно кричали чайки; тихо шелестела листва высоких пальм; блаженство.
Спарк разделся первым, взял Питера и Пола, мальчишки обвили его шею цепкими ручонками, и они вошли в воду.
– Осторожно, Спарк! – крикнула Элизабет. – Что-то чайки слишком громко кричат...
– А ты слышала, чтоб они кричали тихо? – Спарк раздраженно пожал плечами, потому что рядом с ними пристроилась парочка; вышли из машины, припарковавшись через три минуты после того, как Грегори притормозил; появились как из-под земли: пасут.
– Не сердись, милый, – ответила Элизабет, направляясь следом за ним. – Я понимаю, каково тебе, но и я не нахожу себе места...
– А Пол умрет? – спросил младший, названный в честь Роумэна Полом.
– Не говори ерунды, – рассердился Спарк, хотя понимал, что его слова соседям не слышны, океан таит в себе постоянный шум, не то, что море; отсюда и до Японии – вода; что-то в этом есть противоестественное, слишком уж величественное; прижал к себе мальчишек еще теснее.
После того, как их вернули домой, когда Роумэн сдался, – постоянное ощущение тревоги за детей жило в нем каждую минуту; днем, когда он сидел на студии и разбирал с режиссером и актерами мизансцену, ему виделись страшные картины; бросив коллег, Спарк мчался к телефону, набирал номер дрожащим пальцем, ощущая, как внутри все ухает и кровь тяжело молотит в висках, слышал ровный голос Элизабет, визг мальчишек, моментально успокаивался, возвращался работать; однако по прошествии часа, а то и меньше, его снова начинало мучить кошмарное видение: пустой дом, тишина, могила какая-то: зачем жить, если мальчиков нет рядом?! По ночам его мучили кошмары, он страшно кричал, не в силах разорвать душный обод сна; Элизабет трясла его за плечо, он бежал в ванную комнату, пускал воду: смывал дурной сон с кончиков пальцев сильной струей воды, свято верил, что это помогает, – то, что привиделось, ни в коем случае не сбудется, если только вовремя смыть ужас; уснуть больше не мог; утром пил самый крепкий кофе, какой только можно заварить, чтобы на студии не клевать носом; деньги платят тем, кто активен, сонных увольняют и, в общем-то, правильно делают, прогресс движут моторные люди, им и карты в руки. Иногда, возвращаясь домой, он боялся открыть дверь, если не слышал голосов; однажды приехал не в семь, как обычно, а в пять, оттого что разламывалась голова; ни Элизабет, ни мальчиков дома не было; полчаса он метался по комнатам, стараясь найти следы насилия, записку, какой-нибудь знак беды; не выдержал, позвонил в полицию; через шесть минут приехали парни; через десять минут вернулась Элизабет с мальчиками, – уезжала в магазин, пятница, надо сделать закупки на уик-энд.
После этого случая Спарк впервые подумал о враче: так дальше нельзя, постоянное ожидание ужаса, можно сойти с ума или порвется сердце: как тогда жить Элизабет, что она может, кроме как растить мальчиков и любить меня?!
Спарк понимал, что к любому врачу идти нельзя, только к другу, которому веришь; начал листать старые записные книжки, натолкнулся на фамилию Рабиновича и сразу же вспомнил человека с беззащитными, детскими глазами; правда, в очках он был другим, лицо становилось надменным и даже чуточку жестоким; на фронте, под Арденнами, потеряв очки, чуть не угодил в плен к немцам, расстреляли б в одночасье, слишком типичное лицо – с карикатур гитлеровского «Штюрмера». «Все-таки я убежал, – веселился Рабинович, – а меня за это наградили „Медалью за храбрость“; смешно, отличают тех, кто лихо бегает». Про то, как он оперировал под бомбами, не рассказывал, об этом написали в «Лос-Анджелес тайме», с тех пор его практика стала широкой, ветераны лечились только у него, даже те, которые не очень-то жаловали евреев.
К нему-то и пошел Спарк; напомнил, как до войны они, еще учась в колледжах, принимали участие в соревнованиях по бегу, рассказал о тех, кто вернулся, кто погиб, поинтересовался, не помнит ли доктор Роумэна. «А, это такой здоровый, он еще ломался пополам, когда смеялся, да?» – «Точно, у тебя хорошая память, он сейчас в „Юниверсал“, совершенно сдало сердце, а вот я потихоньку схожу с ума».
Рабинович пригласил своего психиатра, во время беседы Спарка с врачом ни разу их не перебил, молча наблюдал за тем, как коллега выписывал успокаивающие средства, а потом, когда они остались одни, заметил:
– Не вздумай принимать эту муру, Спарк. У тебя шок, понимаешь? И пилюлями тут не поможешь. Только ты сам можешь себя вылечить. Ты рассказал мне все, кроме того изначалия, которое родило в тебе страх за детей. Объясни все, тогда я дам тебе разумный совет. Кардиолог обязан быть психиатром, потому что многие сердечники после инфаркта становятся тюфяками, дребезжащими трусами... А до того, как стукнуло, были орлами, от моих советов отмахивались: бросьте пугать, доктор, жизнь дана, чтобы гудеть, – и все такое прочее... А как прижало, так сразу лапки кверху... А другие – таких, правда, меньшинство, – наоборот, пускаются во все тяжкие, все равно, мол, помирать... И к первому, и ко второму типу нужны свои ключи... У тебя была какая-то трагедия с детьми?
Спарк внимательно оглядел кабинет Рабиновича, его лицо, руки, – он был убежден, что в руках человека сокрыт характер не меньше, чем в глазах и мочках ушей, – вспомнил слова Роумэна, что о похищении никому нельзя говорить, надо лечь на грунт, полная пассивность, игра со всеми, только это гарантирует нас от горя; бить можно лишь в том случае, когда на руках полный покер, силе противопоставима только сила, закон баланса, ничего не попишешь.
– Мальчиков похищали, Эд, – тихо сказал Спарк.
– Кто? Маньяки?
– Нет, вполне нормальные люди. Деловые, воспитанные, весьма корректные... Если бы мой друг не сделал то, чего от него требовали, эти корректные люди убили бы ребятишек – сначала Питера, а потом Пола, так у них принято.
– Мафия, – понял Рабинович. – «Коза ностра»... С тех пор ты и маешься?
– Да.
– Твой друг выполнил их условия?
– Да.
– Они были удовлетворены этим?
– Иначе бы они вряд ли вернули мальчишек.
– Это все?
И после долгой паузы Спарк ответил:
– Да.
Он не мог, у него просто язык не повернулся рассказать Рабиновичу – хоть он и славный парень, таким можно верить – о разговоре с Роумэном, когда тот прилетел в Голливуд, раздавленный и смятый Макайром. «Они все знают об эпизоде в Лиссабоне, – сказал он, – все, Грегори. И я согласился на капитуляцию, и не только из-за мафиози, но и потому, что Макайр прижал меня: будешь рыпаться, Спарк загремит под суд вместе с твоей любимой. Так что все зависит от тебя: либо я буду продолжать схватку, либо, действительно, на всем надо ставить крест». – «Что твой Штирлиц?» – спросил тогда Спарк. «Он продолжает свое дело». – «Веришь в то, что может что-то получиться?» – «Да». – «В каком направлении он пошел?» – «Намерен войти в бизнес, оттуда начать осматриваться, я жду от него известия, связь оговорена: через „Твэнти сенчури Фокс“, твою Люси Фрэн, „заявки“ от „Экспериментал синема“. – „Что может опрокинуть Макайра? Если, – Спарк горько усмехнулся, – его вообще может хоть что-то опрокинуть...“ – „Информация и доказательства. Такие, которых нет ни у кого. Для этого использовать работу Штирлица, мои выходы на мафию, ну, конечно, твою помощь... Ты волен решить – остаешься или отходишь, любой твой ответ не повлияет на наши отношения, брат“. – „Я стал дико, по-животному бояться за мальчиков. Пол“. – „Я понимаю. Значит, мы будем работать вдвоем с Кристой. Давай продумаем достойную мотивировку для нашей ссоры, я не в обиде, я согласен с твоим доводом, это по-мужски“. – „Я не смогу так. Пол. Я просто сказал тебе, как мне худо. Но я не отойду. Нет, не отойду. Только расскажи мне про свой план – с самого начала и до конца. Планировать надо вместе“. – „Грегори, подумай. Посоветуйся с сестричкой. Я не тороплю тебя. Но во всех случаях мой план начинается с того, что я пускаюсь во все тяжкие, – я сломан, я начал пить, путаться с бабами, мне необходим мотивированный разрыв с Кристой, я должен дойти до предела падения... Это первая фаза. Если я буду убедителен, Макайр снимет с меня наблюдение. С тебя, понятно, тоже. Криста и Джек Эр будут работать наше дело в Европе, Штирлиц – на юге, а я – здесь, через мафию... Если, конечно, удастся. Я кладу на все про все год. Если в течение года я не получу такую информацию, которая заинтересует сенатскую оппозицию и ту прессу, которая хочет повалить Трумэна, я кончаю предприятие. Раз и навсегда. Надежда останется только одна: на время, в нем реализуются и разумные эволюции, и темные бунты“.
– Скажи мне, – спросил Рабинович, – а когда тебе особенно худо? В солнечные дни или же если моросит дождь и небо обложено тучами?
– Почему тебя это интересует?! – удивился Спарк, отчетливо вспомнив, что самые дурные предчувствия, когда он не находит себе места, случаются с ним именно в сумрачные дни или же накануне резкой перемены погоды.
– Мой вопрос целесообразен, судя по твоей на него реакции, – заметил Рабинович.
– Вообще-то, действительно, когда погода у нас хорошая, я в полном порядке.
– Значит, давай уговоримся о главном: психически ты абсолютно здоров.
Ты бугай, понимаешь? Ты здоров, как бугай... У тебя есть симптомы неадекватной реакции, но это пустяки, я дам тебе ряд советов – и все войдет в норму.
– Ты связываешь погоду с психическим состоянием человека? – Спарк удивился. – Лучше свяжи это с тем, что маленький человек в этом большом мире совершенно беззащитен...
– Зависит от человека, – отрезал Рабинович. – Купи пару пистолетов и научи жену, как нажимать на курок... Кстати, я говорю совершенно серьезно... Что же касается погоды, то я просил бы тебя записывать – это я тоже совершенно серьезно, – когда у тебя возникает этот навязчивый кошмар: в солнечный день или же если зарядил ливень... Или накануне резкой перемены погоды... Мы с тобой это вместе проанализируем... И чтобы ты не считал меня полным идиотом, я расскажу тебе ряд фактов, ты поймешь, отчего я этим заинтересовался... Смотри, Дидро, например, которого психом не назовешь, хотя Людовик был бы счастлив этому, прямо говорил: «Во время сильных ветров я чувствую, что мозг у меня не в порядке». Монтень, тоже не придурок, утверждал: «Когда погода ясная, я чувствую себя порядочным человеком». Альфьери писал в дневнике: «Я уподобляюсь барометру; большая или меньшая легкость работы всегда соответствует у меня атмосферному давлению: полнейшая тупость нападает во время сильных ветров, ясность мысли бесконечно слабее вечером, нежели утром, а в середине лета и зимы мои творческие способности живее, чем в остальные времена года. Зависимость от внешних влияний, против которых я не могу бороться, смиряет меня»... А Наполеон? Ты знаешь, что он приказывал топить у себя в комнате камин даже в июле? Не переносил сквозняков, моментально простуживался... Руссо утверждал, что летние солнечные лучи вызывают в нем творческую активность; у Вольтера топили в доме круглый год; Байрон всем писал, что боится холода, как газель; Гейне утверждал, что он потому пишет во Франции, что в Германии климат суровей и зима длинней... Мильтон говорил, что зимой его муза бесплодна; Шиллер писал Гете: «В эти печальные дни, под печальным ноябрьским небом, мне необходима вся моя энергия, чтобы поддержать в себе бодрость; приняться же за какой-либо серьезный труд я положительно не способен». А в июле сообщает старику: «Благодаря хорошей погоде я чувствую себя лучше, лирическое вдохновение, которое менее всякого другого подчинено нашей воле, не замедлило явиться ко мне»... Вот в чем штука, Спарк...
– Ты оперируешь проверенными данными?
– Абсолютно. Если бы критики, вместо того, чтобы пописывать, смогли стать историками, они бы выяснили, отчего наибольшее количество произведений, написанных Гюго, Ламартином, Беранже, падает именно на конец весны и лето. Микеланджело все свои лучшие произведения создавал с апреля по август! Гете писал, что весенние дни значат для него больше иных месяцев! Хочешь выдержку из одного поразительного письма?
– Ты и так меня ошеломил...
Рабинович удовлетворенно кивнул:
– Сейчас ошеломлю еще больше... Слушай: «С приближением зимы все привычки мои перепутались, затем болезнь довела эту путаницу до того, что я не спал ни одного часа, я помню, что писал вам, но не знаю, что именно, если вы пришлете мне письмо, я объясню вам его»...
– Но это же писал псих! – воскликнул Спарк. – Полная мешанина мыслей!
– Не торопись с выводами: это Ньютон... Так что составляй график, когда тебя прижимают видения... Если мы убедимся, что дело связано с погодой, продавай дом – и чеши на Кубу или в Майами, значит, тебе не подходит здешний климат. Это я совершенно серьезно, Спарк.
Вдоволь нанырявшись с мальчиками, Спарк вынес их на берег, бросил рядом с собой – песок за день прогревался, становясь горячим, – и позвал Элизабет; она опустилась рядом; парочка тоже спустилась к самой кромке океана.
– Все равно они ни черта не слышат, – сказал Спарк, обняв Элизабет. – Фирма теряет квалификацию. Когда мы служили в ОСС, таких глупостей никто не делал, только японцы ставили наглую слежку, да и то, если хотели испугать...
– А может быть, они именно этого и добиваются, Спарк.
– Завтра будет меняться погода, – он усмехнулся. – Мы с тобой оба подвержены климатическим и атмосферным изменениям. Рабинович – гениальный врач...
– Не сердись, милый... Можно, я задам тебе один вопрос?
– Хоть десять.
– Чего ты... Нет, я плохо начала... Чего мы все добиваемся, можешь объяснить мне толком? Мы не стали одержимы навязчивой идеей, Грегори? Посильно ли нам то, что задумывается?
– По-моему, да, милая... Я много раз задавал себе такой вопрос, и очень хорошо, что ты открыто заговорила об этом... Понимаешь, мы живем в великой стране, другой такой нет, демократия въелась в нас, мы рождены с бациллами свободы в крови... Трумэн повернул вправо, но ведь в сенате и конгрессе сидят люди, которые открыто противостоят ему, разве это не правда? «Нью-Йорк таймс» печатает разгромные статьи против администрации, пишет про то, что нацисты вновь поднимают голову, спрашивает, кто стоит за теми, кто оправдывает генералов вермахта... Но это пишут люди, которые не знают машины гитлеровцев. Ее знает Роумэн и... еще один... Досконально. Ну, и я – в какой-то мере... Если ему удастся выйти на мафию, предложить тем ребятам выгодный контракт – у него есть идея, Лиз, он набит идеями – и перетянуть их на свою сторону, если Джэк Эр и Крис смогут нащупать в Европе трассу гитлеровцев, связь между их прошлым и надеждами на будущее, если все это жахнуть в нашей прессе, – мы, выполнив свой долг перед памятью, обретем спокойствие, поверь. С силой считаются. Америка очень не любит нацистов, никому не удастся сделать нас тоталитарным государством, мы помогаем защищать нашу конституцию, – вот и все. И очень боимся реанимации гитлеризма... Если Трумэн хочет бороться с русскими с помощью бывших наци, это преступление против Питера и Пола, мы проиграем схватку, вопрос вопросов – с кем заключать блок; дьявол – плохой союзник в борьбе за божьи заповеди...
– Сэмэл смог напечатать хоть в одной лондонской газете то, что ему рассказывали ваш друг и Пол? Ты же сам говорил, что материал был сногсшибательный...
– Ты не хочешь понять, – сразу ничего не делается... И потом, тогда именно и включилась мафия...
– А сейчас, если сделать то, что задумал Пол, она выключится? – Элизабет вздохнула. – Не обманывай себя, не надо...
– Главное – верить в успех, тогда дело образуется. Если же дать себе право на трясучку, страх, сомнение, все полетит в тартарары... Вперед – и точка!
Элизабет поцеловала его в шею:
– Почему мужчины такие мальчишки, даже седые? Откуда в вас столько детского идеализма?
– Ты против того, что мы делаем?
Элизабет ответила не сразу, долго рисовала мизинцем какие-то странные фигуры на песке, потом спросила:
– Думаешь, меня не гнетут такие же кошмары, как и тебя? Я ведь теперь не оставляю мальчиков ни на секунду. У меня в ушах крик, которого я не слышала... Хотя они не кричали, их же пригласили покататься на гоночной машине папины друзья, маленькие готовы сесть в гоночную машину, даже если за рулем Люцифер.
– Как я понимаю, ты против того, чтобы мы продолжали все это дело?
– Я не смею тебе сказать так, Грегори. Я слишком тебя люблю... И уважаю... И мне страшно за Пола... И Кристу – веснушчатую нежность... Но ведь все не уместишь в одном сердце... Переубеди меня, Спарк, а то мне что-то очень страшно, особенно когда, эта парочка перебирается к нам еще ближе.
– Заплачь, – шепнул он. – Прижмись ко мне и заплачь...
– Это мне очень просто сделать...
Она ткнулась ему лицом в шею, спина ее затряслась, и он понял, что Элизабет не играет, ей очень плохо, она прекрасно держится, но ей так же плохо, как ему, а может быть, даже хуже...
Он поднялся, потрепал ее по волосам, шепнул:
– Не надо, Лиз. Вставай, милая. Пойдем, – он помог ей подняться, обнял и, прижав к себе, повел к машине; они прошли мимо парочки, не обращавшей на них внимания. – Я убежден, что его спасут, – громко заговорил Спарк. – Не верь врачам, они паникеры! Пол выстоит, он крепкий, от инфаркта умирают только слабаки, а он выстоит!
– О, Грегори, милый, ты говоришь, как мужчина! – Элизабет продолжала плакать. – А я смотрела на его лицо, он постарел на десять лет... Он седой как лунь... Такое не проходит даром...
В машине он продолжал утешать ее, – предполагал, что и здесь воткнули запись, – говорил, что поедет в Вашингтон, будет говорить с Макайром, каждый человек имеет право на ошибку, нельзя казнить своих; дома открыл ящик стола и записал в том дневничке, что вел по просьбе Рабиновича: «Завтра погода изменится».
...Погода изменилась ночью, задул холодный ветер, и пальмы гнулись стонуще, а их кроны казались разметавшимися во сне волосами женщины.
...Утром в клинику пришел режиссер Гриссар, в руках у него была корзина с фруктами и огромный термос:
– Я сварил тебе особый чай, Пол! Укрепляет мышцу сердца. Гонит соли, встанешь на ноги через неделю... Я буду заезжать к тебе через день, не грусти... Если нужны деньги – говори сразу, я готов ссудить тебя, отдавать будешь по частям.
– Неужели ты поверил, что у меня инфаркт? – Роумэн усмехнулся. – Просто перепил, а Рабинович хочет заработать на длительном лечении... Что, по-твоему, я плохо выгляжу? Приведи девку, я докажу тебе, что нахожусь в прекрасной форме...
– А я вижу! С чего ты взял, что я верю Рабиновичу? Я тебе верю, Пол. Просто ты зарос, поэтому выглядишь не так, как всегда... Ты что почувствовал, когда тебя прижало?
– Да у меня было так пару раз... Просто запекло в солнечном сплетении, дыхание зажало... Будь я трезвый, и внимания бы не обратил... Я же тогда набрался, вот и...
– Левая рука болела?
– Не то что бы болела... Какая-то стала холодная... Ну, покололо пару раз в локте, наверное, упал...
– Ты устал?
– С чего ты взял? Сиди, я тебе рад...
– Слушай, я довольно долго размышлял над нашим разговором... Вообще-то, если ты согласишься поработать с одним моим приятелем над сценарием о том, как человек сидит в тюрьме, а на самом деле воюет против наци, может получиться сценарий...
– С кем я должен работать?
– С моим сценаристом... Майклом Вэбстером, ты его наверняка встречал.
– А сколько мне будешь платить?
– Не обижу, Пол, не обижу. Мой продюсер заинтересовался, ему кажется, что в этом есть зерно... Что ты? Болит? Почему морщишься?
– Бабу хочу, вот и морщусь...
– Поспи, Пол. Самое хорошее, это поспать, если заболел. Во сне все болезни проходят. Я оставил Рабиновичу мой телефон, как будет скучно – звони, я сразу приеду, ты мне, действительно, симпатичен...
...Когда Гриссар ушел, оставив после себя тонкий аромат горьких французских духов, Роумэн лежал долго, не двигаясь, ощущая усталость, словно после длительной пробежки. Когда заглянула сестра, он попросил ее налить чая из термоса:
– Это мне принес один дружок, говорит, что сварил особый чай, который укрепляет сердце...
– Я должна показать это доктору Рабиновичу, сэр... Он следит за вашей фармакологией, я не могу разрешить вам пить то, что не он прописывал.
– Позовите его... Не надо делать из меня убогого! Я через два дня выйду к себе в «Юниверсал», мне надоело лежать здесь без толку!
– Да, да, конечно, сэр! Вы молодцом! Сейчас я приглашу доктора, одну минуту.
Рабинович пришел взъерошенный:
– Ну и дружки у... – Роумэн стремительно вытянул руку, показывая на термос, прижал палец к губам, Рабинович все понял, продолжил с еще большей яростью: – у вашего брата кинематографиста! Приносят какие-то чаи без моего разрешения, как можно, а?! Вы тяжело больны, Роумэн, ясно вам? И я запрещаю вам есть или пить что-либо без моей санкции!
– Что значит «тяжело болен»? Инфаркт?
– Не знаю... Об этом еще рано говорить... Во всяком случае, острая стенокардия! Хотите сдохнуть – извольте! Только не у меня в клинике, я престижный врач!
Роумэн показал глазами, что термос надо разбить, Рабинович и это понял сразу же.
– Я сам позвоню этому вашему надушенному другу и скажу, чтобы впредь он консультировался со мной, что вам можно пить, а что нельзя! С него еще станется принести вам виски в термосе!
Он взял огромный сосуд, поднес его к умывальнику, открыл пробку и вылил содержимое; выливал с яростью, не удержал в руках, уронил, стекло разбилось; Роумэн кивнул, попросил глазами дать ему остатки термоса, быстро разобрал, нашел то, что искал, – черненький кубик подслушки; показал Рабиновичу, тот кивнул.
– Зачем бить ценные вещи? – вздохнул Роумэн. – Человек обо мне заботится, а вы... Термос дорогой, как я теперь погляжу в глаза другу?
– Ничего, выздоровеете – купите новый.
– На какие деньги? Вы же меня разденете за ваше лечение.
– Не болейте, не будем раздевать, мистер Роумэн. Пришла миссис Спарк, но я ее к вам не пущу, на сегодня с вас хватит визитеров.
Роумэн поманил Рабиновича, тот склонился над ним: «Посмотри, нет ли на улице машины, там должны записывать мой разговор с помощью этого долбанного термоса». «Я же смотрел, – одними губами ответил Рабинович, – стоит „форд“ с двумя пассажирами, подъехали сразу же, как только пришла Элизабет». «Ну, сволочи, – шепнул Роумэн, – вот ведь обложили, а?!»
Мисс Сьюзен Джилберт,
вице-президенту
«Эксперимэнтл синема инкорпорейтэд»,
Пуэрто-Монт,
почтовый ящик 2177, Чили.
Уважаемая мисс Джилберт!
Мы с большим интересом прочитали Ваше письмо, однако не можем дать окончательного ответа, поскольку все планы на ближайшие месяцы уже находятся в процессе реализации, а перспектива на следующий год еще не до конца ясна.
Тем не менее оставляем за собой право воспользоваться Вашей любезностью. Мы намерены – в удобное для нас время – прислать квалифицированного специалиста для ознакомления с уникальным Пуэрто-Монтом и его чудными окрестностями.
Жильем и транспортом наш эксперт будет обеспечен, речь может пойти лишь о том, чтобы Вы оказали ему (ей) помощь в ознакомлении с Вашим городом и окружающими районами.
Люси Фрэн,
заместитель помощника директора
по коммерческой продукции,
«Твэнти сенчури Фокс»,
Голливуд, США.
Ночью Штирлиц прочитал письмо Роумэна, проутюжив его всего лишь один раз; строчки, написанные крутым почерком Пола, были видны отчетливо, читалось легко, без очков:
Дорогой друг!
Я соответствующим образом проинструктировал человека, который отправился в Европу.
Думаю, он найдет возможность поработать в архивах по тем позициям, которые Вы обозначили. Он и все мы приложим максимум сил, чтобы снабдить Вас материалами уликового характера (если, конечно, они сохранились) еще до начала нового тура переговоров «Дженерал электрик» с людьми Перона. Те каналы связи, которые мы оговорили на крайний случай, остаются в силе.
Теперь о том, что делаю я.
Все мои усилия направлены на то, чтобы найти «Пепе» и встретиться с его боссами, предварительно собрав нужную информацию.
Вы говорили, что Мюллер обладает ключом и шифром к сейфам, где хранятся сотни миллионов нацистских денег. Могу ли я оперировать этими суммами и вышеупомянутой фамилией, если мой план удастся и я смогу выйти на тех людей, которые нас интересуют? Если «да» – сообщите условной открыткой по известному Вам адресу. Телефоном моего друга пользоваться нельзя – по понятным Вам причинам.
Я согласен с Вами, что с Риктером беседу проводить еще рано. Убеждены ли Вы в том, что он напишет Вам те данные, которыми можно оперировать в сенате, конгрессе и в нашей прессе? Без этого нас обвинят в диффамации, – в этом смысле моя страна совершенно особая, требуются неопровержимые доказательства вины... Впрочем, я сразу вспомнил несчастного Брехта, и мне стало не только горько, но и смешно. Тем не менее учтите это соображение. Форма уликового документа должна быть абсолютной.
Я начал наводить справки о Вилле Хенераль Бельграно. Вся информация, которую можно получить, будет нами собрана и отправлена Вам.
Что касается «пустого гроба» Мюллера, то эту новость я передам в Лондон, Майклу Сэмэлу, не сейчас, а в тот момент, когда вся наша партия вступит в завершающую стадию. Коронный удар надо наносить в самом конце схватки. Сейчас еще рано. Можно спугнуть цепь.
Со своей стороны, я начал изучение материалов по делу о похищении сына летчика Чарльза Линдберга. Если появится что-либо заслуживающее внимания, вышлю. В литературе нашей страны существует довольно много версий, однако я пока не вижу, как Мюллер мог быть втянутым в это дело. Не заблуждаетесь ли Вы? Повторяю: уликовый материал, особенно в таком деле, как трагедия Линдберга, должен быть абсолютным и совершенно беспристрастным.
Если удастся доказать его причастность к трагедии Линдберга, вопрос о его возможных контактах с макайрами станет совершенно невозможным, Америка чтит своих героев...
Со своей стороны, меня интересует: не попадались ли Вам в свое время какие-либо материалы о синдикате прежде всего во время вторжения американо-английских войск в Сицилию, и особенно о нынешнем губернаторе Нью-Йорка О'Дуайере? Может быть, такого рода материалы проходили через ту службу, в которой Вы занимали столь видный пост три года назад?
Я поручил моему посланцу в Европе изучить дело о последних днях Муссолини. Мне кажется, что как раз тут можно проследить определенную связь с Мюллером. Однако это подлежит самой тщательной проверке, запасемся терпением.
Вы совершенно неправы, когда думаете, что первый нокаут выбил меня из колеи.
Я, как и Вы, убежден в необходимости продолжения борьбы против наци. В этом наш солдатский долг. Будущие поколения проклянут нас, если мы, американцы и русские, не вырвем с корнем ядовитое жало Гитлера и его последышей.
Ждите моих сообщений.
Формы связи – в случае непредвиденных изменений ситуации у Вас или у меня – остаются теми же, что мы обговорили при расставании.
Жду Ваших писем.
Каждая информация, поступающая от Вас, изучается мною самым тщательным образом.
Я благодарен Вам за то, что Вы сообщили мне о м-ре Кэйри и его сестре, столь зверски убитой бандой гангстеров. Я начал заниматься этим делом, но пока еще не знаю, пригодится ли мне м-р Кэйри в будущем. До меня дошли сведения, что он отдал себя школе, где преподает в младших классах, и церкви. Такого рода люди, как правило, зовут к всепрощению, что – в нашем общем деле – исключено.