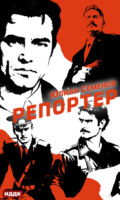Юлиан Семенов
Экспансия – III
Штирлиц, Трумэн (сенат США, сорок седьмой)
Свой «фордик» Штирлиц оставил в Кордове, возле катедрала, там, где собирались по воскресным дням местные художники – писать с натуры, обменяться новостями, продать пару пейзажей или портрет (почему-то чаще всего приносили на свой Монмартр смуглые лики индианок на фоне вигвамов).
Он понимал, что его уже ищут, поэтому еще из Буэнос-Айреса сделал два звонка в Голливуд и Нью-Йорк, получив на центральной почте два пакета из Мюнхена, отправитель – фирма «Медицина и фармакология»; заранее уговорились с Роумэном, что Джек Эр будет именно так обозначать свой обратный адрес (более всего боялся, что еще не дошли, связь с Германией была из рук вон плохой); Штирлиц молил бога, чтобы его не перехватила дорожная полиция в районе Санта-Фе или здесь, под Кордовой.
С другой стороны, он понимал, что полиция и те, кто ей советовал, прежде всего блокировали аэропорты и побережье; только безумец может отправиться в Кордову, где кишмя кишат немцы, а среди них наверняка есть те, которые прекрасно знают «объект поиска» в лицо.
Но ему было необходимо – прежде, чем оказаться в Вилле Хенераль Бельграно, – задержаться в Кордове, поскольку именно там заканчивала свой визит по стране представительная делегация «Дженерал электрик» во главе с профессором Патерсоном, – об этом дважды сообщала столичная «Кларин» и несколько раз передавала радиостанция «Магальянес», – Штирлиц постоянно читал все газеты и слушал новости – именно так он получал максимум информации; важно рассортировать сообщения по темам, отбросить шумное, пропагандистское и оставить главное – факты, сопоставить их со своим замыслом, тогда информация будет работать на тебя, а это крайне важно.
Номер своей машины Штирлиц заменил другим еще при выезде из столицы, благо номера продавались не только в мастерских, но и в антикварных лавках; автомобиль был запылен и помят, вполне сходил за старую развалюху фермера; тем не менее он допускал, что по прошествии недели и такой машиной заинтересуются; за неделю я должен управиться; больше у меня нет времени; если не выйдет – значит, все, конец; я научился проигрывать за последние два года, это будет последний проигрыш, ничего не попишешь...
Не доезжая до города, ночью еще, Штирлиц отогнал машину на проселок, расположился возле маленького пруда, достал из портфеля ножницы, обстриг волосы, бороду и усы, потом вынул станок, заправил его хорошим «золингеном» (в лавках еще продавали продукцию рейха, сорок третий год, футлярчик проштампелеван аккуратным орлом и свастикой) и побрил голову, сделавшись похожим на какого-то американского актера из второразрядных вестернов – бритая голова, лоснящиеся щеки, очки в черепаховой оправе, ни дать ни взять гастролирующий герой-любовник; смешно, конечно, игры в маскарад, прошлый век, но ведь и портье того дома, где он оставил палачей, и посетители ресторанчиков, где встречался с сенатором Оссорио, и два-три внимательных старика, которые где-нибудь сидели на лавочке, алчно высматривая все происходящее (почему старики и старухи делаются какими-то добровольными осведомителями, подумал Штирлиц, откуда такая подвижническая страсть донести и сообщить, чем это объяснимо?!), все эти люди в столице знали, что водитель «форда», снимавший апартамент напротив парка Лесама, был седым мужчиной, с седой окладистой бородой и седыми, несколько прокуренными усами. Пусть полиция ищет седого, они ж доки на точное выполнение предписаний.
В Кордове Штирлиц снял номер в пансионате на окраине: «Ищу работу, видимо, останусь здесь, совершенно замечательный город, никакого сравнения с федеральной столицей»; поинтересовался, где сейчас наиболее красивая вечерняя служба, выслушал ответ, что церковь переживает трудное время (сразу вспомнил профессора Оренью; хорошо бы навестить его, есть старики, в которых много детского, самые прекрасные люди на земле; встречая таких, понимая, что для продления их жизни ничего нельзя сделать, рождается ощущение безнадежности, собственной беспомощности и людского несовершенства; как же несправедлив творец!), и отправился в центр, дождавшись, когда зажглись фонари на улицах.
В зимних (плюс четыре градуса) сумерках лицо человека размыто, несколько ирреально, да еще если он принял иной облик; побрившись, Штирлиц сменил и костюм: кожаные штаны гаучо, белый, тонкой шерсти свитер, высокие шнурованные башмаки; поскольку люди, в жилах которых течет испанская кровь, весьма внимательны к предметам туалета, Штирлиц купил свитер в дорогом магазине; есть какая-то грань, отделяющая обычную вещь от очень дорогой; и ботинки он купил в самом престижном охотничьем магазине Байреса – английские, спецзаказ, такие могут себе позволить носить только очень состоятельные люди.
В отеле «Континенталь», где остановилась делегация из «Дженерал электрик», Штирлиц зашел в бар, заказал себе рюмку хереса и спустился вниз, в туалеты, к телефонным аппаратам.
Попросив соединить его с семьсот седьмым номером, он сказал:
– Профессор Патерсон, добрый вечер, я Ирвинг Планн, у меня к вам есть предложение, связанное с проектом энергокомплекса... Я англичанин, был связан с «Бэлл», если спуститесь в бар, я буду ждать вас у стойки, разговор займет пятнадцать минут.
Штирлиц понимал, что рискует; наверняка аппарат профессора прослушивается – американцев здесь слушают почти так же, как русских; впрочем, он видел их дипломатов, – за ними просто шли, любой контакт исключен; он стоял в лавке, напротив того отельчика, где расположилось трое русских, покупал авокадо, выбирая самые зрелые, сочные; при этом поглядывал на голубой «паккард» с дипломатическим номером; дождался, когда вышел наш; определил сразу – и по тому, как туго завязан галстук и начищены старомодные башмаки, и по тому, что был в реглане старого покроя и в странной шляпе, сидевшей на крепкой голове несколько смешно, как словно бы на ряженом; горло перехватило; никто не знает, какое это горе, когда десятилетиями не можешь говорить на родном языке; воистину высшая тайна духа – язык; казалось бы, набор слов, состоящих из звуков, выражающих буквы, ан, поди ж ты...
Московское радио – когда Штирлиц умудрялся ловить передачи радиостанции Коминтерна в Берлине – еще больше подчеркивало его трагическую отдельность от России; уезжая на уик-энд в Шварцвальд, он останавливался в доме лесничего Фридриха Хермана, гулял по аккуратным дорожкам, присыпанным песком, в громадном еловом черном лесу; люди, встречавшиеся ему, мило здоровались; если было солнечно, замечали, какое чудное выдалось воскресенье, когда шел дождь, улыбались: «прекрасно для полей»; после бурелома деловито осматривали просеки: «в конечном счете погибают только больные деревья, естественная очистка леса, не правда ли?»
Когда Штирлиц приехал в Германию, берлинцы казались ему – несмотря на инфляцию, безработицу, крайнюю политическую нестабильность – самыми доброжелательными и при этом воспитанными людьми в Европе; «доброе утро», сказанное в Шварцвальде, не было обязательным, заученным с детства приветствием, а каким-то поэтическим актом признания доброты утра; если тебе объясняли, как найти нужную тропинку, делали это с любовью к лесу и с желанием приобщить тебя к окружающей красоте; но ведь потом, по прошествии трех лет, мне так же показывали тропинки в окрестностях Веймара, совсем невдалеке от Бухенвальда, из труб которого валил серый сладковатый дым. А может быть, спрашивал себя Штирлиц, это есть нормальное отталкивание неразрешимого? Ведь раковые больные отталкивают от себя знание приближающегося конца, происходит психологическая ломка сознания; нежелательное, страшное, неподвластное ни телу, ни духу исключается, будто этого нет и в помине; может быть, нечто подобное произошло и с немцами, когда народ понял безысходность положения? Нет, ответил он себе, слепая любовь подталкивает родителей к тому, чтобы находить любые оправдания ужасным поступкам детей; это чревато; я лишен такой привилегии, когда думаю о феномене немецкого народа. Поляки и югославы первыми в Европе поняли безысходность своего положения, но ведь они начали борьбу против того, что было объективным злом. Отчего же немцы так легко смирились со злом? Легко ли, переспрашивал он себя. Не мне судить. Нацизм предполагает тотальную закрытость. Такая категория, как откровенность, исключается из общежития. Никто не верит никому. Начинается двойная жизнь: на службе, в университете, трамвае и «убане» – говорят одно, думая при этом совершенно другое; дома страшатся детей, и не потому, что не верят им, но лишь опасаясь, что несмышленые малыши повторят что-то крамольное в киндергартене (деталь: в Аргентине детские садики так и называются – «киндергартен», первые были созданы немцами); воспитательница обязана сообщить об этом. А что последует? Увольнение? Превентивный арест? Каторга? Крематорий? Уровень крамолы определяет местное отделение гестапо; народный имперский суд есть крайняя мера, как правило, дорога на эшафот...
Но почему, уж в сотый раз спрашивал себя Штирлиц, даже в июле сорок четвертого, когда Красная Армия стояла на границах Восточной Пруссии, а союзники вторглись в Нормандию, когда конец был очевиден, когда продукты нормировались самым жестким образом, бомбежки стали ежедневными, почему же и тогда, когда нация могла сбросить Гитлера, – после покушения прошло три часа, во время которых люди имели возможность выйти на улицы городов и проголосовать массой против диктатора, – все, наоборот, старались перещеголять друг друга в изъявлении чувства рабской преданности параноику с бесцветными глазами? Неужели размытая чехарда правительств, определявшая политическую ситуацию в Германии после Версаля, породила в народе алчную тягу к власти непререкаемо сильного, который не позволяет перечить себе и слово которого – истина в последней инстанции?
А может быть, возражал себе Штирлиц, дело тут не в народе, а в тех государственно-правовых традициях, привычных людям? После феодальной раздробленности пришли Бисмарк и кайзер, которые приучили дедов и отцов тех немцев, которые истошно орали «хайль Гитлер!», что лишь избранник, мессия, может объединить нацию, дав ей таким образом спасение от окружающих ее врагов. Действительно, концепция возникновения германского государства построена не на сообществе личностей, обладающих конституционным правом на мысль и поступок, но на идее «вражеского окружения», которое единственно виновато во всех внутренних неурядицах, – до тех пор, пока не будет разгромлено и поставлено на колени. Перекладывание вины за экономические провалы и социальные катаклизмы на других дает резерв безнравственной власти, цепляющейся за те привилегии, которые она, эта абсолютистская власть, гарантирует охранительному, разбухшему, стремящемуся удержать «орднунг» фискально-надзирающему аппарату принуждения...
Веймарская республика – при всех ее издержках – была неожиданностью для немцев. Но, с одной стороны, они не привыкли к такому размаху свобод, и, с другой – социал-демократическое правительство не решилось на социально-экономические реформы, которые бы позволили не тысячам, а миллионам включиться в демократический эксперимент. Двойственность и трусливая непоследовательность мстят реанимацией прошлого. Но при этом оно, это прошлое, обрезает еще более страшные, уродливые и неодолимые формы: обращение к нации как к панацее от социальных зол и было той фишкой, которую Гитлер бросил на зеленый стол истории; «немецкость», «германский дух», «арийская общность» – эти термины, понятные обывателю, подмяли; быть частью общего легче, чем отстаивать – ежедневно и ежечасно – свою самость, личностную независимость, право на мысль и действие; господи, как же слаб человек на этой земле, как норовит он сбиться воедино и вычленить из своих рядов того, кто возьмет ответственность, провозгласив то, что угодно – на данном этапе – услышать всем?!
...Профессор Патерсон подошел к Штирлицу, – тот стоял у стойки один, время ужина, из ресторана сюда переберутся позже, часам к девяти, – протянул руку, назвал себя, сказал, что тронут звонком коллеги, и сел на высокий вращающийся стул.
– А если мы отлучимся на двадцать минут? – спросил Штирлиц. – Вся документация у меня в машине, я ее заберу, и мы вернемся, чтобы вместе проглядеть ее здесь?
Профессор взглянул на часы:
– Не опоздать бы на ужин...
– Ужин кончается в одиннадцать, Кордова – самый испанский город Аргентины, здесь едят поздно... В крайнем случае, приглашу вас в хорошую парижжю, гарантирую отменное мясо.
Когда они вышли на улицу, – гостиница была в самом центре – Штирлиц аккуратно проверился, не пасут ли американца, нет, все вроде бы чисто, пригласил его свернуть в переулок и там передал ему портфель.
– Профессор, здесь, – он кивнул на дорогой, еще довоенный карээновский портфель малиновой лайковой кожи, – ряд материалов, с которыми надо ознакомить сенат Соединенных Штатов... Посмотрите документы... Прочитайте мое обращение в сенат, – к сожалению, я подписал его псевдонимом, там объяснено, отчего я вынужден поступить так, – поглядите мое открытое письмо президенту Трумэну... Распорядитесь этими бумагами так, как это обязан сделать человек, которому дорог престиж Америки. Покажите документы людям Рузвельта – бывшему вице-президенту Уоллесу, Моргентау... Портфель не оставляйте без присмотра, хорошо? В городе работают самые приближенные ученые Гитлера, их крепко охраняют как местные власти, так и люди СС, – они умеют охранять, это я вам говорю, мне доводилось бывать в рейхе... Я позвоню вам через час... Если вас заинтересует то, что я вам передал, скажите, что вы удовлетворены, тогда я буду знать, что меморандум попадет по назначению... Если же все это покажется вам ерундой, скажите, что вы уже легли спать... И сожгите бумаги, ладно? У меня есть копии, буду искать другие пути, чтобы сообщить миру о происходящем здесь, никаких претензий. До свиданья...
И, свернув во дворик, Штирлиц быстро вышел на другую улицу.
Он сел в подошедший автобус и отправился на окраину, в темноту, только там чувствовал себя более или менее спокойно.
...Через час позвонил Патерсону; тот снял трубку после первого же гудка, видимо, сидел у аппарата:
– Слушайте, Планн, это же черт знает что такое! Я не верю глазам!
– Не понял, – усмехнулся Штирлиц: понесло профессора, конец конспирации, – не понял, – повторил он сухо. – Вы удовлетворены или нет?
– Что?! Ах, да, ну, конечно! Это ужас! Настоящий ужас!.. Я не мог себе и представить такого! Теперь скажите мне вот что...
Штирлиц опустил трубку на рычаг. Простите меня, профессор Патерсон; если вы начнете выяснять детали, портфель у вас уведут; его и так скорее всего уведут, если вы начнете обсуждать содержимое с коллегами, но ведь вы возглавляете патентное бюро концерна, вы научены конспирации не хуже, чем я, вы умеете охранять свои секреты так же надежно, как и тайная полиция. Неужели вы так растерялись, прочитав о профессоре Танке, Руделе, о новых моделях штурмовиков, которые строят здесь, в Кордове, гитлеровские ученые, и про Риктера, и про тайну острова Уэмюль, и про виллы нацистов на Жао-Жао, что возле Барилоче, и про атомный проект, который набирает силу с каждым днем? Впрочем, я бы на вашем месте тоже начал задавать вопросы. У любого здравомыслящего человека отвиснет челюсть, прочитай он те документы, что лежат в портфеле, но только бога ради, профессор, потерпите до той минуты, пока самолет не приземлится в Штатах, там начинайте задавать вопросы, да и то надо знать – кому и где... И не забудьте про Уоллеса, про Моргентау, про тех, кто был с Рузвельтом, пожалуйста, не забудьте, профессор...
Той же ночью Штирлиц уехал в горы по направлению к Вилле Хенераль Бельграно, вылез в маленькой деревушке, нанял проводника и ушел в горы, – теперь надо ждать...
...Политические решения далеко не всегда продиктованы логикой. Симпатии, расчет, эмоции, пристрастия, скрытые пороки, память о прошлом, страх, влияние жены (матери, отца, брата, сестры, сына, дочери, ближайшего друга), давление разнонаправленных сил – дипломатии, которая видит свою задачу в том, чтобы решить конфликт мирными средствами с наибольшей выгодой для страны; армии, которая постоянно хочет опробовать самое себя в открытом столкновении; банков, заинтересованных в расширении рынков; промышленности, страшащейся конкурентоспособности «соседей-врагов», – все это и составляет тот комплекс, в котором вызревает жесткая однозначность государственного акта.
Профессор Патерсон, – портфель держал в руках, не расставался с ним ни на мгновение – вернувшись домой, сразу же отправился к генеральному директору концерна; материалы, переданные Штирлицем, были изучены в исследовательской группе; затем Патерсон отправился в Гарвард, подключились социологи и экономисты, занимавшиеся проблемой иностранного проникновения на Юг американского континента; затем, после того, как были получены развернутые заключения специалистов, состоялась встреча руководства концерна с генералитетом Пентагона: материалы об атомной бомбе повергли военных в ярость; вопрос о том, что работы в Барилоче и Кордове проводились нацистскими учеными, титулованными высшими званиями СС, награжденными наиболее престижными наградами третьего рейха, удостоенными званий «лауреатов премии имени Адольфа Гитлера», хранившими золотые значки почетных членов НСДАП, как-то и не занимал тех представителей администрации, которые познакомились с сенсационной документацией.
Сообщение, запущенное в правительственные учреждения, не имеет права заглохнуть, раствориться, исчезнуть; самое трудное – запустить, дальше в действие вступает некий закон потока; бумага становится хозяином людей; информация подчиняет себе политиков, подсказывая необходимость тех или иных блоков и внутриадминистративных коалиций.
Прежде чем запросить Центральную разведывательную группу, генералитет Пентагона, усмотревший в организации сообщества, замыкавшегося не на конгрессе или сенате, а непосредственно на президенте, нарушение баланса, провел консультацию с героем тихоокеанской битвы генералом Макартуром. Сделано это было не случайно, ибо в Вашингтоне знали яростную нелюбовь легендарного генерала к разведке. «Мы, – говорил Макартур, – страна свободы, нам не нужны шпионы, потому что каждый имеет право носить огнестрельное оружие для защиты собственного достоинства; сто восемьдесят миллионов, объединенных одним чувством собственного достоинства, являют собою непобедимый народ, готовый сражаться за свободу до конца; только тоталитаризму нужны шпионы, чтобы следить; мне это отвратительно; промышленность даст мне новые самолеты, которые проведут аэрофотосъемку сил противника, а подводные лодки, подкравшись к вражеским берегам, запишут те разговоры, которые ведут офицеры противника на палубах своих крейсеров, – вот и вся разведка!»
Необходимость консультаций с Макартуром диктовалась и тем еще, что он был именно тем военачальником, который санкционировал атомный удар по японскому агрессору, – начавшаяся критика его приказа была крайне обидна: «На войне как на войне, ради спасения жизни одного американского солдата я был готов сжечь всю Японию».
Макартур, выслушав коллег, пришел в ярость:
– Запросите шпионов! Президент вменил им в обязанность следить за миром! Чем же они, интересно, занимаются?!
Военный и военно-морской атташаты США в Аргентине, запрошенные Пентагоном, частично подтвердили полученные профессором Патерсоном сведения, однако сообщили, что «военные весьма надежно охраняют свои секреты; фамилии Танка, Руделя, Риктера не есть вымысел, эти люди интересуют нас уже в течение полутора лет, однако до сего времени ни одна из наших комбинаций по подходу к ним не увенчалась успехом».
Когда Пентагон провел совещание с заместителем государственного секретаря, сообщив ему все те сведения, которые были доставлены профессором Патерсоном, шифровки из военного атташата, заключения исследовательских центров, анализ рокфеллеровского банка «Чейз Манхэттэн», было принято решение срочно запросить данные в Центральной разведывательной группе; это не могло пройти мимо Белого дома.
Десятиминутная встреча Штирлица с Патерсоном на улицах вечерней Кордовы обретала контуры события государственной важности: появление атомного оружия в Аргентине могло повести к политическому кризису на латиноамериканском континенте.
Начальник Центральной разведывательной группы потребовал от руководителей ведущих подразделений представить ему соответствующие доклады, дав на эту работу сутки, – президент затребовал информацию для принятия немедленного решения.
Когда Макайр ознакомился с копиями документов профессора Патерсона, он сразу же понял: Штирлиц. Это работа Штирлица и Роумэна.
Перед тем как садиться за справку, он позвонил Даллесу; тот знал о случившемся из своих источников; являясь членом совета директоров института по международным отношениям в Нью-Йорке, который объединял финансистов, политиков, наиболее талантливых исследователей, работавших в авангардных отраслях науки, так или иначе связанных с обороной, крупнейших промышленников и директоров наиболее престижных газет, радиостанций и журналов, он уже знал, что вся сеть немцев, работающих на американскую разведку, засвечена; неожиданностью для него было то, что Перон форсирует работы по созданию атомного оружия; после некоторой растерянности, с которой он не сразу справился, пришло решение: «что ж, чем хуже, тем лучше; давление на Аргентину даст возможность привести к власти управляемого человека; пришло время заново разыгрывать фашистские симпатии Перона».
– Боб, сегодня и завтра я совершенно закрыт, – ответил Даллес, поняв, что отныне контакты с Макайром нецелесообразны. – Я обещал брату, что проведу с ним эти дни. Что-нибудь случилось? У вас встревоженный голос. Что произошло?
– Произошло, Аллен, мне очень нужен ваш совет...
– Через три дня я к вашим услугам, – ответил Даллес, зная, что директор ЦРГ дал Макайру – как и остальным руководителям ведущих подразделений – всего сутки для разработки справок. – Неужели дело не терпит?
– Совершенно не терпит, Аллен. Я бы просил вас, очень просил найти для меня хотя бы полчаса.
– Да хоть три, – Даллес хохотнул, – но только через три дня. Счастливо, Боб.
И, положив трубку, подумал: «С кем бы мне сейчас следовало увидаться, так это именно с Роумэном».
Связавшись с директором ФБР – «другом-врагом» Гувером, договорился пообедать; этот бульдог найдет иголку в стоге сена; Роумэн не иголка, он нам нужен, неужели все же Макайр неспроста привез сюда этого агента абвера с сорок третьего, неужели он у них в руках?!
Совещание, которое Трумэн собрал у себя в Овальном кабинете, было кратким; присутствовали его помощник по вопросам разведки адмирал Сойерс, адмирал Леги и военно-морской министр Форрестол.
Будучи газетчиком, Трумэн на этот раз не тратил время на многочасовые обсуждения проблемы с аппаратом; в прессе, где все еще была сильна рузвельтовская тенденция, его критиковали за то, что военная администрация в Германии освобождает из тюрем немецких генералов, германская военная промышленность вступила в прямые (хоть и негласные) переговоры с американскими промышленниками и финансистами, работа Комиссии по антиамериканской деятельности стала притчей во языцех, «нацизм реабилитирован, прямой вызов духу Потсдама и Ялты», скандал с Пендергастом-младшим, который совершенно запутался со своими мафиози, грозил сделаться достоянием прессы; левые в Европе травили его за поддержку реакционных политиков, переживших немецкую оккупацию; Восточная Европа настаивала на выдаче гитлеровских военных преступников, скрывшихся на Западе и в Латинской Америке; информация профессора Патерсона давала возможность одним ударом прихлопнуть двух зайцев.
Трумэн был резок и – что всех поразило – стремителен в своем решении:
– Необходимо, чтобы завтра же наш посол посетил Перона. И потребовал немедленной выдачи всех нацистских преступников – список приложите, – которые нашли убежище в Аргентине. Сообщения об этом обязаны появиться в завтрашних вечерних газетах. Естественно, в первую очередь удар должен быть нанесен против немцев, связанных с атомным проектом Перона. Пусть ваши люди позаботятся о том, чтобы кампания в прессе была широкой и нагнеталась день ото дня: Америка была, есть и будет бастионом антинацизма! Вопрос об атомной бомбе Перона пока открыто не ставить! Если мы изолируем его нацистских атомщиков, это затормозит работу и даст возможность поработать разведке. Поработать, а не поболтать!
Через день в газетах Соединенных Штатов началась кампания против гитлеровцев, окопавшихся в Аргентине: «Америка требует немедленной выдачи нацистских палачей!»
После беседы с американским послом Перон отправил полковника Гутиереса на встречу с русским дипломатом; выслушав личного представителя президента, московский посланец ответил:
– Сеньор Гутиерес, моя страна выступает против атомного оружия, вам это прекрасно известно. Однако мы никогда не возражали против исследований в области мирной атомной энергетики. Мы полагаем, что это служит прогрессу, а не войне. В этом смысле моя страна готова к кооперации с любым государством, – если мы получим заверения, что расщепленный атом будет служить делу энергоснабжения промышленности и сельского хозяйства, но не рычагом в военно-политическом шантаже, – о каком бы уголке земного шара ни шла речь...
Прослушав последние известия (в здешних туристских избушках были надежные «Блаупункты»), Штирлиц попросил проводника открыть бутылку «агуа ардьенте», щедро расплатился, сказал, что в услугах Хосе Эухенио (так звали парня) больше не нуждается, уснул, как только голова коснулась подушки; наутро был на окраине Виллы Хенераль Бельграно.
Устроившись на опушке леса, он наблюдал в бинокль этот маленький поселок с семи утра до шести вечера: типичная Бавария; только отели построены как концлагеря, точно такие же вышки, только вместо аппельплаца бассейн; Мюллера узнал сразу, хотя тот тоже изменил внешность – борода, усы, очки в толстой оправе (он знал, что я ношу черепаховую, не оттого ли заказал такую же?), одет в традиционный альпийский костюм; впрочем, большинство мужчин в таких же костюмах (неужели еще не слышали радио? Или ничего не боятся?).
Штирлиц проследил путь Мюллера, вместе с другими тот вошел в костел; господи, он же неверующий, всегда потешался над попами; хотя здесь нельзя быть атеистом, Перон этого не поймет.
Спрятав бинокль в футляр, сунув его в портфель, где лежали пистолет и две запасные обоймы, Штирлиц поднялся с земли, отряхнул колени от искрошенной листвы и хвойных иголок, улыбнулся Клаудии, которая по-прежнему была рядом, спустился в поселок, вошел в церковь, осторожно прошел по полупустому, гулкому залу, присел на скамью, – место за Мюллером пустовало – положил ему руку на плечо и шепнул:
– Хайль Гитлер, группенфюрер...
Не оборачиваясь – только плечо закаменело, – Мюллер ответил:
– Рад вас слышать, Штирлиц...