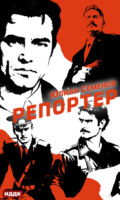Юлиан Семенов
Экспансия – III
Кому он врет, подумал Бэн, себе или мне? А может, он верит в то, что говорит? Десять лет все приближенные талдычат ему эти слова, почему бы и не разрешить себе уверовать в них? Один миллион испанцев он расстрелял, два миллиона пропустил через концлагеря, десять процентов населения задавлено страхом, конечно, они готовы его славить, лишь бы не очутиться в Карабанчели6. Смешно: как, оказывается, просто создать иллюзию народной любви – побольше пострелять и надежно посадить за решетку, остальные станут овечками. Найти бы таких людей, как Франко, в Латинской Америке! Так ведь нет, индейская кровь, индейцы лишены страха, первородный грех свободолюбия...
– Генералиссимус, ваши друзья ждут немедленных массовых манифестаций народа против вмешательства Совета Безопасности во внутренние дела Испании...
– Я не боюсь интервенции, – ответил Франко. – Да вы на нее и не решитесь, конгресс будет дискутировать, потом сенат, пройдет год, в это время Сталин войдет в Париж и вы пришлете сюда свои танки, потому что фашистская Испания окажется последним бастионом демократии на европейском континенте...
– Речь идет не об интервенции, – ответил Бэн. – Мы думаем включить Испанию в число государств, наравне с Турцией, Грецией, Италией, которым будет оказана самая широкая экономическая помощь... Я обязан поделиться с вами конфиденциальной информацией: генерал Маршалл готовит план, который вдохнет жизнь во все страны Западной Европы. Расцвет Запада будет противопоставлен карточной системе Востока...
Через три дня с раннего утра сотни тысяч мадриленьяс начали стекаться на Плаца де Ориенте; даже площадь была выбрана алькальдом Мадрида Моррено Торесом не без умысла: народ поддерживает своего генералиссимуса на восточной площади, Испания, таким образом, заявляет себя бастионом Запада; здесь генералиссимус и обратился к нации:
– Ни одна сила в мире не имеет права вмешиваться во внутренние дела страны! Это вызов великим принципам демократии и свободы, которым всегда следовала, следует и будет следовать Испания! Мы никому не позволим разрушить наше единство и наше общество всеобщего благоденствия! Никто и никогда не сможет забрать у нас ту свободу, которую мы завоевали в смертельной схватке с мировым коммунизмом!
Восторженный рев толпы, крики «Франко, Франко, Франко!» продолжались несколько минут; через час все радиостанции мира передали сообщение об этом фантастическом митинге в поддержку каудильо: полмиллиона человек продемонстрировали свою верность «диктатору свободы и национального возрождения».
Через три дня Франко выступил в Сарагосе; на митинг было рекомендовано прийти шестистам тысячам человек; впрочем, подавляющее большинство пришло добровольно – даже те, которые всего десять лет назад носили на груди портреты Дурути и Ларго Кабальеро; ах, память, память!..
– Мы должны сказать прямо и без обиняков, что живем в мире, который находится на грани новой войны, – провозгласил Франко. – Вопрос лишь в том, чтобы точно просчитать наиболее выгодный момент для того, чтобы ее объявить!
Через несколько дней сенатор О'Конски внес предложение об оказании экономической помощи Франко и развитии с Испанией торговых и культурных отношений; по всем европейским столицам прокатились мощные демонстрации протеста: «Два миллиарда долларов на развитие фашизма – позор Белому дому!»
Франко принял группу экспертов из Парижа; посмеиваясь, спросил:
– Когда ваше правительство снимет санкции против моей страны? Когда вы откроете границы? Или коммунистический подпевала де Голль получил приказ из Кремля продолжать слепую антииспанскую политику? Долго ли он ее сможет проводить? Мы же отныне союзники Соединенных Штатов, хотят того в Париже или нет...
...Когда Бэн улетал в Нью-Йорк, его провожал адмирал Кареро Бланко, самый доверенный друг генералиссимуса, не скрывавший и поныне своих симпатий к Гитлеру: «Это был великий стратег, великий антикоммунист, великий антимасон... Если бы не его чрезмерная строгость против евреев, он бы поставил разболтанные европейские демократии на колени». Бэн поинтересовался: «А Россию?» Кареро Бланко убежденно ответил: «Он был слишком мягок со славянами. Там была необходима еще более устрашающая жестокость. Пройдет пара лет, и вы убедитесь в правоте моих слов... И еще: евреи играли большую роль в противостоянии фюреру, они занимали большие посты в Кремле... Если бы Гитлер гарантировал им свободу, Россия бы распалась, как карточный домик, русские не умеют управлять сами собой, им нужны иностранные инструкторы, неполноценная нация». Бэн посмеялся: «А как же объяснить феномен Толстого, Чайковского, Гоголя, Прокофьева, Менделеева?» Кареро Бланко не был готов к ответу, эти имена ему были плохо известны, однако он усмехнулся: «Поскребите этих людей и увидите, что русской крови в них практически не было». Бэн рассердился: «А в Эль Греко была испанская кровь, адмирал?!»
...Уже возле трапа самолета (Бэн летал на новеньком «Локхиде») Кареро Бланко сказал:
– Полковник, ваши люди почему-то оберегают некоего русского агента в Аргентине – очень высокого уровня и достаточно компетентного... Нам не известны ваши планы, вы нас в них не посвящаете, но вполне серьезные люди, конструирующие внешнеполитические аспекты государственной безопасности, – а ей грозит большевизм, и ничто другое, – считают, что далее рисковать нельзя... Этот человек должен быть нейтрализован...
– Кого вы имеете в виду? – удивился Бэн.
– Некоего Макса Брунна, полковник. Он служил в мадридском филиале ИТТ, а теперь находится где-то в Аргентине...
– В первый раз слышу это имя, адмирал, – ответил Бэн. – Спасибо за информацию, я переговорю с моими друзьями...
Кристина (Осло, сорок седьмой)
Вернувшись в дом родителей, где пахло сыростью и торфяными брикетами, первые два дня Кристина пролежала на широкой кровати; она подвинула ее к окну, чтобы был виден фьорд; цветом вода напоминала бритву, прокаленную в пламени, – серо-бурая, с тугим, нутряным малиновым высветом; было странно видеть, как по этому металлу скользили лодки; доверчивость их хрупкой белизны казалась противоестественной.
...В магазинах продукты продавали еще по карточкам, хотя помощь из Америки шла ежедневно; хозяйка соседней лавки фру Йенсен, узнав Кристину, посоветовала ей обратиться в магистрат; на рынке она смогла купить несколько ломтиков деревенского сыра, булочку и эрзац-кофе; этого ей хватило; она сидела, подложив под острые лопатки две большие подушки, пила коричневую бурду и размышляла о том, что ей предстоит сделать в понедельник.
«Слава богу, что я купила в аэропорту сигареты, – вспомнила она, – здесь это стоит безумных денег». Глоток кофе без сахара, ломтик сыра и затяжка любимыми сигаретами Пола – солдатскими «Лаки страйк» – рождали иллюзию безвременья; несколько раз Криста ловила себя на мысли, что вот-вот крикнет: «Па!» Это было ужасно; иллюзии разбиваются, как зеркало, – вдрызг, а это к смерти, с приметами и картами нельзя спорить.
В воскресенье Криста достала стопку бумаги из нижнего ящика шкафа, оточила карандаш, нашла папку, в которой отец хранил чертежи, и снова устроилась возле окна, составляя график дел на завтрашний день; отец приучил ее писать рядом с каждым намечаемым делом – точное, по минутам, – время: «Это очень дисциплинирует, сочетание слов и цифр символизирует порядок, вечером будет легче подвести итог сделанному».
Своим летящим, быстрым почерком она записала:
9.00 – магистратура, карточки, работа, пособие.
9.45 – юрист.
11.00 – университет, лаборатория, докторантура.
12.15 – редакция.
13.15 – ланч.
14.00 – телефонная станция, оплата включения номера.
15.00 – страховка.
15.30 – поездка в порт, на яхту.
16.30 – куда-нибудь в кино, до 21.00.
Но все равно в десять я буду дома, подумала она, в пустом доме, где жива память о том, чего больше никогда не будет; а без прошлого будущее невозможно...
Криста взяла с тумбочки Библию; перед сном мама обычно читала несколько страниц вслух, будто сказку Андерсена, порою пугаясь того, что слышала; Криста открыла «Песнь песней» и, подражая матери, стала шептать, скорее вспоминая текст, чем читая его:
– Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей; смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, прекрасная моя возлюбленная, выйди! Голубица моя в ущелии скалы под кровом утеса! Покажи мне лицо твое, дай услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо приятно. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвету. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему; он пасет между лилиями. Доколе день дышит прохладою и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселинах гор. На ложе моем ночью искала я того, кого любит душа моя, искала его и не нашла. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям и буду искать того, которого любит душа моя; искала я его и не нашла...
Криста слизнула со щек слезы острым, кошачьим языком (почему у всех женщин одинаковые языки? У мужчин... У Пола он лопаточкой, желтый от курева), поднялась, быстро, как-то даже лихорадочно оделась и вышла на улицу; не бойся, сказала она себе, ты живешь в свободном городе, здесь нет немцев, нет комендантского часа, иди, куда хочешь, иди в центр, сядь в кафе и закажи себе чего-нибудь выпить, ведь иначе не уснуть, нет ничего страшнее привычки, как ужасно, когда любовь делается привычной...
В аптеке на углу улицы Грига старенькая бабушка в хрустящем халате и с серебряными, несколько даже голубоватыми волосиками, прижатыми к черепу сеточкой, продала ей снотворное: «Оно очень легкое, утром вы не ощутите усталости, милая девушка, но лучше все же к нему не привыкать»...
В кафе было полно людей, отчего-то больше всего моряков; Криста слышала шум, смех, пьяные разговоры, музыку; это еще ужаснее – присутствовать на чужих праздниках: вроде как на собственных поминках...
Вернувшись домой, она завела будильник и приняла две таблетки, но уснула только под утро...
В приемной магистратуры ей выдали талон номер «двенадцать», сказали, что ждать придется не менее получаса: «Простите, бога ради, но сейчас масса работы, начинается бум, люди едут из провинции, огромное количество дел».
Чиновник, принявший ее, поклонился довольно сухо, извинился, что не может угостить чаем, дефицит, и предложил изложить дело, которое волнует милую фрекен, по стадиям: «Так мне будет удобнее составить подробную картину, женщины слишком экспансивны, за чувствами теряется сухой прагматизм бюрократической логики».
– Я вернулась из Соединенных Штатов... Уехала отсюда осенью прошлого года, потеряла право на карточки...
– Вы приняли американское гражданство?
– Нет, нет... Мы... Я не успела...
– Где вы работали ранее?
– Я заканчивала докторантуру.
– Я прочитал ваше заявление... Вы дочь профессора Кнута Кристиансена?
– Да.
– У кого вы учились?
– У профессора Дорнфельда.
– Он умер.
Криста схватилась подушечками пальцев (они у нее выгибались, словно у китаяночки) за вмиг побелевшие щеки:
– Сердце?!
– Нет, профессор добровольно ушел из жизни. В прощальном письме он отметил, что не хочет умирать, разочаровавшись в людях окончательно, «пусть со мной уйдет хоть капля доверия»...
– А в чем... Почему это случилось? Когда?
– В мае этого года... Кто-то написал в газету, что профессор коллаборировал с Квислингом7... А он хлопотал за арестованных учеников и коллег... И во имя этого действительно сделал два заявления на радио, которые, при желании, можно расценить как лояльные по отношению к оккупантам... Да, это очень горько, погиб ни в чем не повинный человек... Кто был – в ваше время – ассистентом профессора, фрекен Кристиансен?
– Господин доктор Персен.
Чиновник ловким жестом снял трубку, бросил ее на плечо, раскрыл справочную книгу, набрал номер, поприветствовал доктора Йенсена, ответил на его вопрос по поводу подключения дополнительных номеров на телефонной подстанции («Видимо, в конце этого месяца ваша просьба будет удовлетворена»), а затем поинтересовался, как быстро может быть получена справка о фрекен Кристиансен: «Да, да, она вернулась; нет, она у меня; не премину; благодарю вас; значит, мы можем выдать фрекен карточки? Она по-прежнему считается вашим докторантом? Благодарю вас, это очень любезно с вашей стороны, я надеюсь, что завтра справка будет у меня на столе, вы же знаете, как нас мучают проверки, ничего не попишешь, еще год с продуктами будет сложно, до свиданья».
Чиновник поднял на Кристину глаза – очень усталые, видимо, сильно близорук, однако, судя по всему, очки не носит; рубашка довольно старая, несколько даже застиранная, воротничок подштопан:
– Ну, вопрос хлеба насущного мы с вами решили, фрекен Кристиансен, это главное. Карточки вам выпишут в комнате номер три, я позвоню, когда вы туда пойдете. Вы сказали, у вас три вопроса... Пожалуйста, второй.
– Я бы хотела просить помочь мне с работой...
– Хм... Это прерогатива биржи... Впрочем, какую работу вы имеете в виду?
– Я должна подрабатывать, пока не защищу диссертацию... Я готова на любую работу...
– Физическую?
– Если речь пойдет об уборщице или ночном стороже, я согласна...
– Я бы посоветовал вам зарегистрироваться в очереди на посудомоек в ресторанах, особенно привокзальных, это сэкономит вам массу денег... Я постараюсь сделать все, что могу, но вам придется выполнить необходимую формальность, это окно номер два, на первом этаже. Третье, пожалуйста.
– Я слыхала, что семьям погибших от рук гитлеровцев полагается пособие...
– А разве вы не получали?!
– Нет... А сейчас мне придется платить за включение телефона, за отопление, воду... Это большие деньги... Мне достаточно неловко просить о пособии, но выхода нет... Когда я устроюсь на работу, можно будет отказаться...
– Пособие дается единовременно... Сколько вам было лет, когда погиб ваш отец?
– Я была совершеннолетней...
– Чем вы занимались?
Кристина почувствовала, как кровь прилила к щекам:
– Я... Я тогда... училась...
– Хорошо, тут нам не обойтись без справок: о вашем отце и о вас...
– Мама тоже погибла...
– Разве она работала?
– Нет. А это влияет на дело?
– Если бы она также занимала какой-то пост, пособие могло быть большим процентов на двадцать... Только не обольщайтесь по поводу суммы, фрекен Кристиансен, это небольшие деньги... Впрочем, на то, чтобы расплатиться за отопление, воду и телефон, вам хватит. Это все?
– Да, благодарю вас, вы были очень добры...
– Это моя работа, не стоит благодарности... И, пожалуйста, попросите в ходатайстве кафедры приписать, что вы не были замечены в коллаборанстве с нацистами, это крайне важно для всего дела: не смею вас более задерживать, до свиданья.
Господи, какое же это счастье говорить на своем языке, подумала Кристина, выйдя из магистратуры; все дело заняло двадцать девять минут; продуктовые карточки на лимитированные товары были уже готовы, когда она вошла в комнату номер три; всего семь минут пришлось подождать в очереди, где ставили на учет ищущих работу; порекомендовали сегодня же посетить главного повара ресторана в отеле «Викинг» господина Свенссона: «Он будет предупрежден, но, пожалуйста, не употребляйте косметику и оденьтесь как можно скромнее».
Адвокат, доктор права Хендрик Мартенс послушно перевернул кресло – так, чтобы на лицо не падали солнечные лучи, заметив при этом:
– Однако и в свете яркого солнца вы так же прекрасны, как в тени, фрекен Кристиансен.
– Благодарю вас за комплимент, господин доктор Мартенс.
– Это не комплимент, а чистая правда... Я к вашим услугам...
– Господин доктор Мартенс, я хотела бы обратиться к вам сразу по двум вопросам... Первое: мой отец погиб в гестаповской тюрьме. Он был арестован неким Гаузнером. Ныне, как я слыхала, этот Гаузнер проживает в Мюнхене и работает в организации некоего доктора Вагнера... Словом, оккупационные власти знают его адрес, он сотрудничает с ними. Я бы хотела выяснить, кто отдал Гаузнеру приказ на арест моего отца, профессора Кристиансена, кто расстрелял его и кто отправил маму в концлагерь, где она и погибла. Второе, – заметив, как адвокат подвинул к себе листки бумаги, чтобы начать записывать данные, необходимые при начале дела, Криста напористо, без паузы заключила, – и немаловажное заключается в том, что у меня сейчас нет наличных денег для уплаты расходов... Однако если вы возьмете на себя труд продать мой дом на берегу Саммерсфьорда и, возможно, нашу яхту, то, думаю, вопрос с оплатой ваших трудов в Мюнхене отпадет сам по себе...
– Вы единственная наследница? Никто не может предъявить претензий на имущество?
– Нет, нет, я одна...
– Замуж не собираетесь? – улыбнулся адвокат. – Муж вправе претендовать на определенную часть суммы...
– Я замужем, господин доктор Мартенс.
– Необходимо согласие вашего мужа, чтобы я начал дело о продаже собственности. Попросите его заглянуть ко мне или написать коротенькое письмо, я его заверю здесь же, у меня есть гербовая печать, не зря плачу налоги правительству.
– Мой муж живет в Соединенных Штатах.
– Но он скоро вернется?
– Не очень скоро. У него бизнес, он не волен распоряжаться своим временем.
– В таком случае он должен прислать телеграмму, заверенную его юристом. Вы сможете организовать это?
– Конечно. Я закажу телефонный разговор, объясню ему суть дела, и телеграмма будет отправлена в течение суток... Но я ставлю второй пункт разговора в зависимость от первого, господин доктор Мартенс. Согласны ли вы взять на себя дело о преследовании лиц, виновных в гибели моих родителей?
– Вы понимаете, конечно, что это не слишком дешевое дело? Необходима поездка в Мюнхен... Не знаю, куда еще... Все это оплачивает клиент, то есть вы. Это большие деньги... Вы намерены потребовать компенсацию от господина... Простите, я не успел записать имя...
– Гаузнера. И тех, кто стоит за ним, господин доктор Мартенс.
– Каковы должны быть... Словом, сколько вы хотите с них получить?
– Я бы хотела услышать ваше предложение.
– Сколько лет было вашему отцу, когда он погиб?
– Сорок семь.
– Ах, какой ужас! Совершенно молодой человек, профессор, светило... Вы помните его годовой заработок?
– Нет, я никогда этим не интересовалась... Честно говоря, меня не интересуют деньги... Они очень интересуют гаузнеров и их начальников... Вот я и хочу ударить их по больному месту... С волками жить – по-волчьи выть.
– Могу ли я предложить вам чашку чая?
– Да, благодарю, у меня еще есть время...
Адвокат вышел в приемную, попросил пожилую машинистку с невероятно длинным, каким-то даже волнистым носом приготовить две чашки чая, вернулся за свой стол и, потерев хорошо ухоженным пальцем переносье, заметил:
– Я понимаю всю безмерность вашего горя, фрекен Кристиансен, но ведь Германия уже понесла возмездие... Страна в руинах... Правительство повешено в Нюрнберге... Я боюсь, вы затратите много денег, но компенсации – я имею в виду материальную сторону вопроса – не получите... Они банкроты, им нечем платить...
– Но ведь я смогу привлечь их к суду? Если вы их найдете, если вы соберете данные в наших архивах, а они сохранились, как я слыхала, мы сможем обратиться в суд? Меня удовлетворит процесс против мерзавцев...
– Фрекен Кристиансен, я сочувствую вашему горю, поверьте... Но сейчас времена изменились... Опасность с Востока делается реальной... Тенденция не в вашу... не в нашу пользу... Увы, единственную силу, которая может спасти цивилизацию от большевистского тоталитаризма, Запад видит именно в Германии... Если постоянно пугать человечество ужасом немецкого национал-социализма, мы можем оказаться беззащитными... Нет, нет, если вы настаиваете, – адвокат увидел в глазах Кристы нечто такое, что заставило его резко податься вперед, он захотел положить руку на ее пальцы, стиснувшиеся в жалкие, худенькие кулачки, – я приму ваше дело, не сомневайтесь! Выдвигая свои контрдоводы, я думаю в первую очередь о вас, о ваших интересах!
Секретарша принесла чай, повела своим гигантским носом над чашками, тряхнула черной челкой и отчеканила:
– Непередаваемый аромат: «липтон» всегда останется «липтоном».
– Я полагаю, – сухо заметил адвокат, – вы приготовили три порции? Угощайтесь в приемной, фрекен Голман, я знаю, как вы неравнодушны к настоящему чаю.
– О, благодарю вас, господин доктор Мартенс, вы так добры...
Секретарша кивнула Кристе, не взглянув на нее (ненависть к красавицам в женщинах неистребима), и, ступая по-солдатски, вышла из кабинета; бедненькая, подумала Криста, как ужасно быть такой уродинкой; она обречена на одиночество; нет ничего горше, чем жить без любви; хотя можно придумать идола, по-моему, она уже придумала – влюблена в своего шефа, у нее глаза плывут, когда она глядит на него.
– Чай действительно прекрасен, – сказала Криста, хотя «липтон» был почти без запаха, в Голливуде такой сорт даже не продавали, в основном чай поставлял Китай, феноменальный выбор, сортов тридцать, не меньше, да еще Латинская Америка; все-таки, когда всего слишком много – плохо; приходится долго думать, что купить, одно расстройство.
– Это подарок британского капитана... Случился несчастный случай, он сшиб велосипедиста, я принял на себя защиту, все уладил миром, ну и получил презент: картонную упаковку «липтона», – пояснил адвокат Мартенс.
– Я начну диктовать те фамилии, которые мне известны?
– Вы все же решили начать это дело?
– Да.
– Хорошо, я готов записывать... Не угодно ли сначала выслушать мои условия?
– Я их принимаю заранее, вы же лучший адвокат города...
– Так говорят мои друзья. Если вы повстречаетесь с недругами, вам скажут, что я бессовестный эксплуататор человеческого горя, рвач и коллаборант...
– Но вы не коллаборировали с нацистами? – Криста закурила мятую «Лаки страйк», сразу же увидев постаревшее лицо Пола близко-близко, так близко, что сердце сжало тупой болью.
– Каждого, кто не сражался в партизанских соединениях, не эмигрировал в Лондон и не сидел в гестапо, поначалу называли коллаборантами, фрекен Кристиансен. Это бесчестно, а потому – глупо. Я продолжал мою практику при нацистах, это верно. Я не скрывал у себя британских коммандос, но я защищал, как мог, людей, арестованных гитлеровцами. В условиях нацизма понятие «защитник» было аморальным... Если человек арестован, значит, он виноват и подлежит расстрелу или медленному умиранию в концлагере. А я оперировал законом, нашим, норвежским законом... Слава богу, в архивах гестапо нашлась папка с записью моих телефонных разговоров, это спасло меня от позора, – за коллаборантами они не следили... Да, у меня в доме бывали чины оккупационной прокуратуры, я угощал их коньяком и кормил гусями, чтобы они заменили моим подзащитным гильотину каторгой, – хоть какая-то надежда выжить... Я хотел приносить реальную пользу моему несчастному народу, и я это делал... Мне больно обо всем этом говорить, но вы можете поднять газеты, – я обратился в суд против тех мерзавцев, которые меня шельмовали... В начале войны они сбежали в Англию, занимались там спекуляцией, за деньги выступали по радио, призывая к восстанию и саботажу, а я, оставшись на родине, защищал саботажников и спасал их от гибели... Я выиграл процесс, фрекен Кристиансен, в мою пользу свидетельствовали те, кого я спас... Кстати, клеветали на меня люди моей же гильдии, адвокаты, они потеряли позиции в правозащитных органах за время эмиграции, – вопрос денег и клиентуры, понятно и младенцу...
– В каких газетах был отчет о процессе?
– Во всех. Да, практически, во всех... Если хотите, я покажу вам. У меня это хранится, хотя, честно говоря, каждый раз начинается сердцебиение, когда пересматриваешь все это...
– Я была бы вам очень признательна, господин доктор Мартенс...
– Вы можете взять с собою копию, потом вернете.
– Спасибо... Перед тем, как я начну диктовать вам фамилии...
Адвокат мягко улыбнулся:
– Перед тем, как вы начнете диктовать фамилии, я все же обязан сказать свои условия... Возможно, вас не устроит мой тариф... Я дорогой правозащитник... Словом, вы будете обязаны выплатить мне – в случае успеха нашего дела – пятую часть той суммы, которую вам перечислят из Мюнхена. Понятно, вы оплачиваете мои расходы по поездкам в американскую зону оккупации, перепечатку необходимых документов, телефонные переговоры и аренду транспорта. Полагаю, сумма может вылиться в три, а то и четыре тысячи долларов. Естественно, я не включаю сюда деньги, которые вам придется внести в суд, – если дело дойдет до процесса, – для вызова свидетелей, их размещения в отелях и питания, это еще две, три тысячи... Боюсь, что расходы съедят значительную часть тех денег, которые мы выручим за ваш дом...
– У меня есть и яхта...
– Я понимаю. Но ведь вместо дома вам надо купить какую-то квартиру? Словом, я ознакомил вас с моими условиями. Они вполне корректны... Если бы дело не было связано с мщением нацистам, я бы запросил больше.
– Я согласна... То есть я позвоню вам вечером, когда прочитаю отчет о вашем процессе... Это будет окончательное согласие... Но я хочу, чтобы вы собрали материалы, уличающие не только Гаузнера, он, мне кажется, был из военной контрразведки, но и гестаповцев, начиная с группенфюрера Мюллера, он отдавал приказы на казнь.
– Как мне известно, он погиб при осаде Берлина.
– Он погиб, но его заместители остались. Словом, меня интересуют материалы о карательном аппарате Гитлера, – пусть это будет стоить не четыре тысячи, а восемь, я пойду на это.
– Муж – в случае нужды – сможет помочь вам?
– Он американец, а это – мое дело, господин доктор Мартенс, это норвежское дело...
– В таком случае, это дело не ваше, а наше... Я тоже норвежец... Диктуйте, я весь внимание...
В редакции «Дагбладет» Кристину направили в отдел новостей; в большой комнате стояло восемь столов, по два телефона на каждом, в промежутке между ними – пишущие машинки, треск и крик: содом и гоморра, как можно работать в таких условиях?
– С кем я могу посоветоваться? – спросила Криста высокого, худого, как жердь, парня в свитере с рваными локтями, что сидел за машинкой, но не печатал, а, тяжело затягиваясь, жевал сигарету, пуская к потолку упругую струю дыма; он не сразу выпускал табачный дым, сначала было чистое дыхание, и лишь потом появлялось голубое, быстро темневшее облачко; Криста представила, какие у него черные легкие; бедный парень, такой молодой, через год начнет кашлять, как старик; слава богу, Пол не вдыхает так глубоко, ему важно держать в руках сигарету, поэтому у него такие желтые пальцы.
– О чем вы хотите посоветоваться со мной? – спросил парень, внезапно скосив на Кристу бархатные, с игрою, глаза, – конь на гаревой дорожке.
– О нацизме, – усмехнулась женщина. – Компетентны?
– Нет, это не по моей части, – ответил журналист. – Обратитесь к Нильсену, он дока.
– Где он?
– У нас он бывает редко, работает в кафе «Моряк», на набережной, и живет там же, на втором этаже... Если хотите – могу проводить. Как у вас, кстати, вечер?
– Занят, – ответила Криста и вышла из редакции – давящей, но в то же время какой-то по-особому веселой, полной шального треска машинок, гомона голосов и пронзительных звонков десятка телефонов.
Нильсен оказался стариком с копной пегих – то ли седых, то ли выгоревших на солнце – волос, в легком свитере и американских джинсах; обут, тем не менее, был в модные мягкие туфли, они-то и рождали некоторое отчуждение между ним и посетителями кафе, которые и говорили-то вполголоса, стараясь не помешать асу журналистики, легендарному партизану и диверсанту, сидевшему здесь с раннего утра и до закрытия; отсюда – не убирая со стола рукописей – он уходил в редакцию и на радио, сюда возвращался на обед, поднимался к себе в мансарду, чтобы поспать среди дня (привычка с времен молодости, когда служил моряком на торгашах); никто не смел подходить к его рабочему месту; хозяйка, фру Эва, была счастлива такому знаменитому завсегдатаю, деньги брала за месяц вперед, но сущую ерунду, реклама стоит дороже.
...Выслушав Кристину, не перебив ее ни разу, не задав ни одного уточняющего вопроса, Нильсен достал из кармана своих широких джинсов трубку-носогрейку, набил ее крупнорезаным табаком, медленно, с видимым наслаждением раскурил и только после того, как сделал две крутые затяжки (явно молодой конь из отдела новостей взял у него манеру затягиваться, отметила Кристина, один стиль, хотя тот курит сигареты), наконец, поднял бездонно-голубые, совершенно юношеские глаза на женщину:
– Таких историй, как ваша, я знаю тысяч пять, милая моя... Нацизм рождает типическое, только свобода хранит образчики сюжетной индивидуальности... Чего вы хотите добиться вашей борьбой? Человечество мечтает забыть нацизм. Страшное всегда норовят выкинуть из памяти. Люди рвутся на концерты джазов и музыкальные вечера, где можно всласть натанцеваться... Если бы вы были писателем – это я понимаю! Нацизм – пища для интеллектуала, есть обо что точить свою ненависть, каждый художник ненавидит жестокость и конформизм; тоталитарное государство Гитлера было воплощением именно этих двух качеств; думаете, сейчас мало дерьма, в условиях многопартийной демократии?! О-го-го! Но ведь я не ее браню, любимую... А прошлое... Всегда удобно бранить прошлое... Вы называли людей в Испании и Португалии, которые вроде бы продолжают дело Гитлера... Доказательства? Факты? А вы уверены, что, если я отправлюсь туда, – хотя вряд ли, слишком дорого стоит билет, – они сразу же откроют мне правду?
– Они вздрогнут, – ответила Кристина. – Они – как пауки. А когда паук вздрагивает, видно трясение всей паутины...
– А у вас есть лаборанты, которые станут наблюдать за трясением паутины? Я допускаю, что она существует, но сколько вы наберете Дон Кихотов, которые готовы на драку? С силой можно бороться только силой. Она есть у вас?
Криста согнула руку, кивнула на плечо:
– Вот мои мускулы.
Нильсен усмехнулся, лицо его подобрело, сделавшись старым и дряблым. Отчего к старости люди делаются добрее, чем в зрелые годы, подумала Кристина, это закономерность, интересно бы посчитать, стыковавшись с биологами, они без нас, математиков, ответ на этот вопрос не дадут.
– Выпить хотите? – спросил Нильсен. – Выбор скуден, но наливают до краев.
– Мне надо в университет, там неудобно появляться пьяной.
– Кристиансен – ваш отец?
– Да.
– Мы пытались его отбить... Его доцент готовил операцию, мы хотели отбить вашего отца, когда его возили на машине из тюрьмы на допрос в гестапо, все было на мази, но потом забрали доцента, дело полетело кувырком...