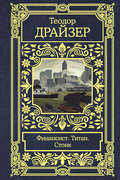Теодор Драйзер
Дженни Герхардт
Глава II
Душа Дженни – как ее описать? Бедняцкая дочь, которой предстоит теперь носить из стирки одежду выдающегося гражданина Коламбуса, была созданием столь чутким, что не передать словами. Иные существа рождаются на свет и обретают бренную плоть, сами того не осознавая, а затем вновь покидают ее, даже не подумав пожаловаться. Но, пока живы, они обитают в истинной стране чудес, жизнь их бесконечно прекрасна, они изумленно ступают по ней, словно по райскому саду. Открыв глаза, они видят перед собой идеальный, благополучный мир. Деревья, цветы, целый мир звуков и красок. Для таких людей все это – их собственное драгоценное наследство. Если бы никто вокруг не твердил: «Мое! Мое!», они так бы и шли вперед, сияя, с песнью, которую, хочется верить, рано или поздно услышит вся земля. Песнь эта – песнь добра.
Однако, запертые в материальном мире, подобные существа почти неизменно становятся аномалией. Этот другой мир, мир плоти, в которую вплетены гордыня и алчность, смотрит слепыми глазами и видит очень мало. Скажи кто, как замечательно глядеть на облака, ответом будет проповедь против безделья. Захочет кто долго слушать шум ветра, мешать ему не станут, но прихватят оставшиеся без присмотра пожитки. Если целиком посвятить себя так называемой неодушевленной природе, манящей к себе с нежностью слишком уж совершенной и оттого не менее чуткой, небрежение дурно скажется на теле. Руки действительности вечно тянутся к таким людям – и вечно хватают, и жадно тянут к себе. Слишком уж легко они попадают в рабство.
Дженни как раз и была подобной душой в мире действительности. С самого раннего детства ее поступками руководили доброта и жалость. Если Себастьян падал и сильно ушибался, она, выбиваясь из сил, тащила его на себе к мамочке. Если Джордж жаловался на голод, она готова была отдать последний кусок. Не один час провела она, укачивая младших братьев и сестер перед сном, сперва добросовестно напевая колыбельную, потом сама уже в полудреме. Едва начав ходить, Дженни почти сразу сделалась главной помощницей матери. Что-то отмыть или испечь, сбегать за чем-нибудь или приглядеть за малышами: все эти заботы ложились на ее плечи. Жалоб от нее ни разу никто не слышал, хотя она часто задумывалась над тем, как нелегко ей приходится. От остальных такого не требовалось, это она понимала. Знакомые девочки жили в куда большем достатке, Дженни тянуло к ним, но сочувствие к семье заставляло довольствоваться тем, что есть. Ясным днем, выглянув из окошка кухни, она мечтала отправиться гулять на луга. Красивые очертания и оттенки природы затрагивали струны ее души. Иной раз она и в самом деле отправлялась гулять с Джорджем и другими детьми, уводя их к зарослям густого орешника – ведь за ним простирались поля, там была тень и бил родник. Пусть она сама и не могла того сформулировать, но душа ее откликалась на все это, ее радовал каждый звук, каждый шорох, столь прекрасными они были.
Когда издали доносился негромкий, мягкий зов лесной голубки, этой летней феи, она вслушивалась в него, склонив голову, и душевное очарование падало серебряными каплями прямо ей в сердце.
Если ярко светило солнце, пронизывая тени своим великолепным сиянием, Дженни наслаждалась этим зрелищем; ноги сами несли ее туда, где свет казался золотым, и она с инстинктивным благоговением шагала по священным коридорам меж деревьев.
Чувствовала она и цвет. Чудесные краски, переполняющие закатное небо, глубоко ее трогали и снимали с души любой груз.
– Как здорово было бы уплыть куда-нибудь прочь вместе с облаками, – сказала она однажды с детской непосредственностью.
В тот момент Дженни сидела вместе с Джорджем и Мартой под сенью обнаруженных ею зарослей дикого винограда.
– Здорово-то здорово, вот только где ты там лодку возьмешь, – усомнился Джордж.
Дженни, подняв лицо к небесам, смотрела на дальнюю тучку – алый остров в серебряном море.
– А вот представьте себе, будто там, как на острове, живут люди, – предложила она.
Душой она уже была там, наверху, и райские тропки успели привыкнуть к ее легкой походке.
– Смотри, пчелка летит, – сказал Джордж, приметив поблизости шмеля.
– Да, – сказала Дженни мечтательно, – летит домой.
– А дом у всех есть? – полюбопытствовала Марта.
– Почти у всех.
– И у птиц тоже? – спросил ее Джордж.
– Да, – ответила она, сама почувствовав, сколь поэтично это звучит, – птицы всегда возвращаются домой.
– И у пчелок? – нетерпеливо спросила Марта.
– Да, и у пчел.
– И у собак? – вмешался Джордж, как раз приметивший неподалеку на дороге ковыляющего куда-то песика.
– Конечно, ты ведь и сам это знаешь!
– И у мошек? – не унимался Джордж, глядя на стайку крошечных насекомых, бойко выписывавших в закатном свете причудливые спирали.
– Да, – вновь сказала Дженни, сама себе не очень-то веря. – Прислушайся.
– Ого-го! – недоверчиво воскликнул Джордж. – Хотел бы я знать, какие дома у мошек!
– Прислушайся, – мягко повторила она, сделав рукой знак, чтобы он замолчал.
Был тот блаженный час, когда звуки призывающего к вечерней молитве колокола словно благословляют уходящий свет. Издалека доносился негромкий звон, и сама природа, как показалось заслушавшейся Дженни, тоже умолкла. На зеленой траве перед ней скакала короткими прыжками красногрудая малиновка. Жужжала пчела, позвякивал коровий колокольчик, а подозрительный хруст неподалеку означал, что на разведку выбралась осторожная белка. Изящная ручка Дженни застыла в воздухе, а она все слушала, пока последние негромкие ноты, переполнявшие ее сердце, не растаяли вдалеке. Тогда она поднялась на ноги.
– Ах! – произнесла она, заламывая пальцы в муке поэтического экстаза. В глазах ее застыли чистые слезы нежности. Волшебное море чувств внутри нее готово было выйти из берегов. Такова уж была душа Дженни.
Глава III
Джордж Сильвестр Брандер, сенатор от штата Огайо, был человеком исключительных качеств. В нем самым причудливым образом сочетались изощренная готовность не упустить своего и способность к сочувствию, подобающая истинному представителю своих избирателей. Родился он в южном Огайо, там же вырос и получил образование, если не считать тех двух лет, когда он изучал право в Колумбийском университете, и времени в Вашингтоне, ушедшего на расширение кругозора и дальнейшее совершенствование. Не отличаясь мудростью в смысле абсолютного понимания сути вещей, Брандер, однако, мог считаться ученым человеком. Он знал гражданское и уголовное законодательство не хуже любого из жителей своего штата, хотя никогда не посвящал себя судебной практике с тем упорством, которое многим иным принесло заслуженную известность. Он хорошо разбирался в корпоративном праве, но был слишком человечен и расположен к людям, чтобы решиться посвятить ему жизнь. Сенатор успел сколотить состояние и имел вдоволь возможностей значительно его приумножить, будь он готов заглушить голос совести, но это ему никогда не удавалось. Он обожал рассуждать о том, как поступать правильно. Любил звучные фразы, посредством которых изливал на благодарных слушателей целую бурю своих чувств и мыслей применительно к этой священной теме, однако никогда не мог достичь нужной ясности рассуждений, чтобы понять, следует ли он сам собственным принципам. Дружба порой вынуждала его на такие поступки, от которых добропорядочный рассудок предпочел бы благоразумно уклониться. Скажем, во время последних выборов Брандер поддержал одного кандидата в губернаторы, хотя тот, как он сам прекрасно понимал, не обладал качествами, которые можно было с чистой совестью считать достойными. Но ведь и друзья поддержали! Не мог же он игнорировать заверения друзей. Они ручались за этого кандидата, так с чего бы ему сомневаться? В этом он и находил утешение.
Аналогичным образом сенатор был повинен в ряде сомнительных – а в одном или двух случаях и вовсе неприличных – назначений на должности. Иногда этого требовали его личные интересы, иногда – общие с претендентом друзья. При особенно острых уколах совести он пытался приободриться излюбленной фразой: «Чего в жизни не бывает!» Бывало, хорошенько все обдумав в одиночестве в своем кресле, он вскакивал на ноги именно с этими словами на устах. Безусловно, совесть в нем еще не умерла. Способность же к состраданию с годами все укреплялась.
И этот человек – трижды избиравшийся в конгресс от округа, в который входил Коламбус, и уже дважды становившийся сенатором – до сих пор не был женат. В молодости у него случилось весьма серьезное увлечение, и в том, что оно ни к чему не привело, его вины не было. Возлюбленная не сочла нужным его дождаться. На то, чтобы обрести положение, достаточное для содержания семьи, у него ушло слишком много времени.
Высокий, широкоплечий, не худой и не толстый, для своего возраста Брандер выглядел впечатляюще. Жизнь, полная ударов судьбы и тяжких потерь, оставила на нем отпечаток, способный вызвать сочувствие у человека с воображением. Простые люди считали его приятной личностью, а коллеги-сенаторы – человеком хоть и не самого великого ума, но вполне достойным.
Присутствие его в данный момент в Коламбусе объяснялось тем, что его политическое хозяйство пришло в определенный упадок и требовало внимания. Позиции его партии в законодательном собрании штата в результате последних выборов пошатнулись. Он мог набрать достаточно голосов, чтобы вновь избраться в сенат, но, чтобы объединить сторонников, требовались весьма кропотливые политические манипуляции. Амбиции имелись не у него одного. Добрых полдюжины потенциальных кандидатов с превеликой радостью заняли бы его место. Обойти его они вроде бы не должны, думал сенатор, в крайнем случае можно попробовать убедить президента назначить его куда-нибудь послом. Впрочем, и это требовало партийных консультаций и раздачи многочисленных обещаний.
Можно подумать, что в подобных обстоятельствах человек способен удовольствоваться уже имеющимся, принять логику жизни и позволить миру идти собственной дорогой. Но такие люди существуют разве что в теории. Брандера, как и прочих его сотоварищей, вело чувство неудовлетворенности. Ему еще столько всего хотелось свершить! Вот он – пятидесяти лет от роду, достойный, уважаемый, даже весьма выдающийся с точки зрения окружающих и при этом холостой. Трудно было удержаться, чтобы время от времени не взглянуть на себя со стороны и не задуматься над тем, что о нем и позаботиться-то некому. Роскошные апартаменты иной раз казались ему удивительно пустыми, а собственная персона – все более малоприятной.
Среди тех мужчин, с кем он водил дела, у многих были очень милые жены. И жены эти, без сомнения, много значили для своих мужей. Самые замечательные и благоустроенные домохозяйства, которые Брандеру доводилось встречать, основывались как раз на таких прочных союзах. Вокруг некоторых знакомых прямо-таки толпились веселой и радующей сердце гурьбой сыновья, дочери и племянники с племянницами, тогда как он сам всегда был в одиночестве.
«Пятьдесят! – нередко думал он, оставаясь наедине с собой. – И один, совершенно один».
Этим субботним днем, который сенатор проводил у себя в номере, его потревожил стук в дверь. Он предавался размышлениям о том, как напрасны все его политические усилия в свете того, сколь преходящи и жизнь, и слава.
«Как много мы сражаемся, просто чтобы сохранить положение, – размышлял он. – И как мало все это будет для меня значить всего через несколько лет».
Поднявшись на ноги и распахнув дверь, он обнаружил за ней Дженни. Она надоумила мать, что лучше прийти пораньше, а не в понедельник, с целью произвести благоприятное впечатление усердием в стирке.
– Прошу, заходите, – произнес сенатор и, как при первой их встрече, галантно шагнул в сторону, освобождая проход.
Дженни вошла, ожидая сразу же услышать похвалу за скорость выполненной работы, однако сенатор даже внимания на это не обратил.
– Ну, юная леди, – сказал он, когда она опустила сверток с бельем на стул, – как ваши дела нынче вечером?
– Замечательно, – отозвалась Дженни. – Мы подумали, что лучше будет вернуть вам одежду сейчас, а не в понедельник.
– О, это было совершенно ни к чему, – ответил Брандер, походя отметая прочь то, что ей казалось столь важным. – Можете здесь, на стуле, и оставить.
Дженни помедлила какое-то мгновение и, придя к выводу, что даже не полученная ею оплата – еще не повод, чтобы задерживаться, собралась уже уходить, но сенатор ее остановил.
– Как ваша матушка? – вежливо поинтересовался он, отчетливо вспомнив семейные обстоятельства посетительницы.
– У нее все в порядке, – просто ответила Дженни.
– А ваша сестренка? Выздоравливает?
– Доктор полагает, что да, – сказала Дженни, и сама сильно переживавшая за младшенькую.
– Присаживайтесь, – продолжал он светским тоном, – мне хотелось бы с вами побеседовать.
Девушка шагнула к ближайшему стулу и села.
– Кхм! – продолжал он, слегка прокашлявшись. – Так что же с ней такое?
– Корь, – ответила Дженни. – Мы сначала боялись, что она умрет.
Брандер тем временем разглядывал ее лицо, и ему показалось, что он видит перед собой нечто в крайней степени достойное сочувствия. Убогая одежда девушки и ее изумленное восхищение его положением заметно подействовали на сенатора. Дженни вновь заставила его ощутить то же, что и в прошлый раз, – сколь многого он успел достичь на пути к комфорту. И то верно, высоко он сумел подняться!
Не осознавая, что любое существо, пусть даже совершенно обыденного происхождения, должно обладать немалым внутренним потенциалом, раз способно вызвать в нем подобные чувства, он продолжал беседовать, угодив в ловушку и в известном отношении под контроль не осознаваемой ей самой силы. В некотором смысле Дженни стала магнитом, а он – куском металла, но ни тот, ни другая этого не понимали.
– Что ж, – произнес сенатор после секундной паузы, – прискорбно слышать такое.
Сказано было совершенно разговорным тоном. Он не испытывал даже одной сотой тех чувств, которые все это вызывало в Дженни. Та словно бы увидела перед собой мать с отцом в состоянии напряжения и тревоги, которые они сейчас переживали. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы промолчать в ответ, не давая волю эмоциям, затаившимся внутри нее столь близко к поверхности. Сенатор, впрочем, это заметил. Коснувшись рукой подбородка, он добавил в непринужденной манере, как это свойственно юристам:
– Ну, теперь-то ей, само собой, лучше. Сколько лет вашему отцу?
– Пятьдесят семь, – был ответ.
– А он как, выздоравливает?
– Да, сэр. Уже поднялся на ноги, только выходить из дома ему пока что нельзя.
– Кажется, ваша матушка говорила, что он стеклодув?
– Да, сэр.
Брандеру было прекрасно известно, что эта местная отрасль индустрии в настоящее время пребывает в депрессии. Это даже сделалось одной из тем последней избирательной кампании. Похоже, дела у них и вправду плохи.
– А что другие дети? Все ходят в школу? – спросил сенатор.
– Ну да, сэр, конечно, – ответила Дженни, слегка запнувшись. Ей было очень стыдно признать, что сестре пришлось бросить учебу по причине отсутствия обуви. Но и лгать оказалось неприятно.
Сенатор еще какое-то время поразглядывал Дженни, потом, осознав, что у него нет достойной причины и далее ее задерживать, встал и подошел к девушке. Достав из кармана тоненькую стопку купюр, он отделил одну и протянул ей.
– Возьмите и передайте матушке, что я разрешаю ей использовать эту сумму по своему усмотрению.
Дженни приняла деньги со смешанными чувствами, даже не рассмотрев номинала купюры. Рядом с ней стоял важный человек, роскошь его номера кружила голову, и Дженни едва осознавала, что делает.
– Спасибо, – сказала она, после чего добавила: – А в какой день лучше приходить за стиркой?
– Ах да, – ответил он, – в понедельник. Вечером по понедельникам.
Она вышла, а он в задумчивости затворил за ней дверь. Сенатор чувствовал к этим людям необычный интерес. Бедность в сочетании с красотой определенно произвели на него эффект. Усевшись в кресло, он предался приятным раздумьям, вызванным ее приходом. Отчего бы ему не помочь этим людям? Отчего бы поближе не познакомиться с обладательницей такой очаровательной головки?
В этих раздумьях Брандер провел сначала четверть часа, потом половину, потом еще и еще. Сенатор мысленно видел перед собой низенький домик, свой собственный безрадостный номер и милую девушку, несущую ему связку белья сквозь тьму мрачного ноябрьского вечера.
– Надо бы разузнать, где они живут, – решил он наконец и, очнувшись от мыслей, поднялся на ноги.
В последующие недели Дженни регулярно заходила к нему забрать одежду. По понедельникам, а также по вечерам субботы, она появлялась перед могущественным сенатором, и ее чистые красота и невинность неизменно его радовали. Он обнаружил, что ему все больше хочется с ней разговаривать; вернее сказать, говорил, как и в первый раз, преимущественно он сам, но со временем ему удалось изгнать из ее мыслей робость и страх, из-за которых ей было в его присутствии столь неуютно. Ее очарование главным образом и заключалось в полном отсутствии фальши.
В числе прочего на помощь в этом смысле пришло то, что Брандер начал звать ее по имени. Началось это с третьего визита, и с тех пор он произносил это имя очень часто, сам того не замечая.
Вряд ли можно утверждать, что делал он это по-отечески, поскольку сенатор мало к кому испытывал схожие с родительскими чувства. Он ощущал себя молодым и не очень понимал, отчего время с таким упорством меняет его телесно, тогда как его дух и вкусы остаются постоянными. Разговаривая с этой девушкой, он иной раз чувствовал себя совершенным юнцом и даже задавался вопросом, не видит ли Дженни в нем эту молодость и не радует ли она ее.
Что же до Дженни, она восхищалась положением этого мужчины, а подсознательно – и им самим, поскольку никого столь привлекательного еще не встречала. Все, чем он обладал, было замечательным, все, что он делал, – благородным, вежливым и свидетельствующим об уважении. Из какого-то отдаленного источника, вероятно, от своих немецких предков, она унаследовала способность понимать и ценить подобное. Жить полагается именно так, как живет он. Следует окружать себя красивыми и изящными предметами. Больше же всего ей в нем нравилась способность быть щедрым.
Отчасти на это ее отношение подействовала мать, в которой благодарность возобладала над рассудком. К примеру, когда Дженни принесла домой десять долларов, миссис Герхардт оказалась вне себя от счастья.
– Ах, я и не знала, что он дал так много, – сказала при этом Дженни, – пока не вышла за дверь. Он просил тебе это отдать.
Приняв деньги, миссис Герхардт неуверенно зажала их между сложенных ладоней и словно наяву увидела перед собой высокую фигуру сенатора, мужчины благородных манер, не забывшего про нее.
– Что за прекрасный человек, – проговорила она. – И сердце у него золотое.
Весь вечер и весь следующий день мать Дженни раз за разом повторяла, какой хороший это, должно быть, человек и какое у него доброе сердце. Когда дошло до стирки, она чуть было не протерла одежду до дыр, поскольку ей казалось, что обычных усилий будет недостаточно. Герхардту ничего говорить не стали. Его отношение к неотработанным деньгам было столь суровым, что даже в их нынешнем печальном положении она вряд ли уговорила бы его их принять. Соответственно, миссис Герхардт ничего ему и не сказала, просто потратила все на хлеб и мясо, причем покупала еду в таких небольших количествах, что свалившегося на них богатства так никто и не заметил.
В Дженни теперь тоже отражались чувства матери к сенатору, и она, испытывая благодарность, уже не так стеснялась с ним разговаривать. Они сдружились настолько, что сенатор даже подарил ей небольшую, обтянутую кожей рамку для фотографии со своего комода, поскольку ему показалось, что Дженни смотрит на нее с восхищением. При каждом визите он находил повод ее задержать и вскоре обнаружил, что при всей юной непосредственности в глубине души она испытывает осознанное отвращение к собственной бедности и стыд оттого, что приходится нуждаться. Брандер начал откровенно ее за это уважать, но при виде ее бедного платья со стоптанными туфлями все же задумывался, как бы ей помочь и при этом не обидеть.
Время от времени его посещала идея проследить за ней до дома и самому увидеть, в каком положении находится семейство. Он, однако, был сенатором Соединенных Штатов, а семья, по всей вероятности, жила в очень бедном районе. Брандер решил не торопиться и прикинуть, как может быть воспринято его там появление. Подобные мелочи, если речь идет о публичной персоне, весьма важны. Враги всегда готовы его подловить и что-нибудь состряпать. В связи с этим визит пришлось отложить.
В начале декабря сенатор на три недели вернулся в Вашингтон, причем для миссис Герхардт и Дженни его отъезд явился полной неожиданностью. За стирку он платил им самое малое два доллара в неделю, а несколько раз – по пять. Вероятно, ему даже не пришло в голову, какую брешь в их финансах пробьет его отсутствие. В результате им снова пришлось экономить. Герхардт, здоровье которого заметно поправилось, принялся искать работу на какой-нибудь фабрике и, не найдя ничего, раздобыл пилу с козлами и ходил теперь по домам, предлагая напилить дров. Спрос на его услуги был небольшой, однако, работая со всем усердием, он приносил домой два, а иногда и три доллара в неделю. Вместе с заработком миссис Герхардт и тем, что давал Себастьян, этого хватало на хлеб, но мало на что еще.
Острее всего они ощутили собственную бедность, когда настала веселая праздничная пора. На Рождество немцы любят ярко украшать свое жилище. Именно в это время года среди них особенно проявляются крепкие семейные узы. Они обожают дарить малышам игрушки и подарки, греясь в собственных воспоминаниях о радостях детства. С приближением Рождества Герхардт-старший нередко задумывался обо всем этом за пилкой дров. Чем ему порадовать Веронику после долгой болезни? Он был бы рад подарить каждому из детей по прочной паре обуви, сыновьям – теплые шапки, девочкам – изящные капоры. Игрушки и конфеты тоже прежде дарились детям каждый год. Он с ужасом представлял снежное рождественское утро, когда стол не окажется завален всем тем, чего так жаждут их юные сердечки.
Что до миссис Герхардт, ее чувства проще вообразить, чем описать словами. Они были столь остры, что она даже не могла заставить себя заговорить с мужем об этом кошмарном моменте. Она отложила было три доллара в надежде накопить еще и купить телегу угля, положив тем самым конец ежедневным походам бедного Джорджа на угольный склад. С приближением Рождества она, однако, решила отказаться от затеи с углем и потратить деньги на подарки. Герхардт-старший тоже утаил – даже от нее – пару долларов, желая явить их на свет в критический момент вечером перед Рождеством и утешить супругу.
Правда, когда долгожданный день наконец настал, особой радости он не принес. Весь город купался в праздничной атмосфере. Продуктовые и мясные лавки были увиты остролистом, сияющие витрины магазинов игрушек и кондитерских переполнены всем тем, без чего уважающий себя Санта-Клаус и не подумает отправиться в дорогу. Семейство Герхардтов все это видело. Родители – с беспокойством и мрачными мыслями о нужде, дети – с самым живым интересом и плохо скрываемыми надеждами.
Герхардт раз за разом повторял в их присутствии:
– Иисус-младенец последнее время совсем обеднел. И подарков у него вряд ли много найдется.
Только никакой ребенок, пусть даже из самой бедной семьи, не способен в такое поверить. Каждый раз, произнося эти слова, Герхардт заглядывал детям в глаза, но, наперекор всем предупреждениям, ожидание горело в них столь же ярко, что и прежде.
Рождество в этом году пришлось на вторник, но уже в понедельник уроков в школе не было. Отправляясь на работу в отель, миссис Герхардт напомнила Джорджу, что надо бы принести побольше угля, чтобы хватило и на Рождество. Тот немедленно отправился за добычей с двумя младшими сестрами, только угля в этот день отчего-то было совсем мало и на то, чтобы наполнить корзинки, уходила уйма времени, поэтому к вечеру они едва набрали обычную дневную норму.
– Сходили вы за углем? – первым делом спросила миссис Герхардт, вернувшись вечером из отеля.
– Да, – ответил Джордж.
– На завтра нам хватит?
– Да. Должно бы хватить.
– Ну-ка, пойдем посмотрим.
Взяв лампу, они отправились к сараю, где хранился уголь.
– О боже! – воскликнула она, увидев запасы. – Тут же совсем мало! Нужно принести побольше.
– Вот еще, – поджал губы Джордж. – Не хочу я идти. Пускай Бас сходит.
Бас, который вернулся домой ровно в четверть седьмого, уже возился у себя в спальне, умываясь и одеваясь, чтобы отправиться в город.
– Нет уж, – возразила миссис Герхардт. – Бас весь день работал. Так что ты иди.
– Не хочу, – скорчил гримасу Джордж. – Или пусть он сходит со мной.
– Ну-ка, – сказала она, только сейчас поняв, как все непросто, – чего ты так упрямишься?
– Не хочу идти, и все, – ответил мальчик. – Я сегодня три раза уже ходил.
– Хорошо. Значит, завтра будем сидеть без огня, и что тогда?
Они вернулись в дом, но совесть не позволила Джорджу посчитать вопрос решенным.
– Бас, пошли со мной, – бросился он к старшему брату, едва оказавшись внутри.
– Куда это? – откликнулся Бас.
– За углем.
– Нет, – возразил брат, – это вряд ли. Да и зачем я тебе там?
– Коли так, то и я не пойду, – заявил Джордж, упрямо тряхнув головой.
– А чего ты раньше не сходил? – строго спросил его брат. – У тебя целый день был!
– Так я ходил, – ответил Джордж. – Только мы ничего не набрали. Я ж не могу набрать угля там, где его нету!
– Значит, плохо старался, – заявил франт.
– Что тут у вас такое? – спросила Дженни, которая по просьбе матери на обратном пути зашла в лавку, а теперь обнаружила дома надувшегося от злости Джорджа.
– Бас со мной за углем не хочет идти!
– А разве вы днем не набрали?
– Набрали, – ответил Джордж, – но мама говорит, что мало.
– Я пойду с тобой, – сказала ему сестра. – Бас, ты с нами?
– Нет, – с безразличным видом отозвался молодой человек, – не пойду. – Он уже завязывал галстук, и все это ему порядком надоело.
– Там нет угля, – пожаловался Джордж, – разве что с вагонов поскидывать. Так ведь там и вагонов не было!
– Были вагоны! – воскликнул Бас.
– Не было!
– А что я тогда сейчас видел, когда через пути шел?
– Значит, их только что пригнали.
– Ну вот они там и стоят, сам можешь убедиться.
– Все, хватит спорить, – сказала Дженни. – Берем корзинки и пошли, пока совсем не стемнело.
Остальные дети, обожавшие старшую сестру, похватали угольные принадлежности, Вероника – корзинку, Марта с Уильямом – по ведру, а Джордж – большую корзину для одежды, которую они с Дженни, наполнив, могли нести вместе. Бас, тронутый желанием сестры помочь и некоторым уважением, которое к ней питал, выступил с предложением:
– Слушай, Джен, давай поступим так. Отправляйтесь с малышней на Восьмую улицу и ждите там рядом с вагонами. Я тоже через минуту подойду. Когда буду там, всем делать вид, что вы меня не знаете. Просто скажите: «Мистер, не могли бы вы скинуть нам немного угля?» Я тогда влезу на вагон и сброшу столько, чтоб вам хватило. Все меня слышали?
– Хорошо, – сказала Дженни, очень обрадовавшись.
– Но только чтоб никто не подавал виду, будто меня знает, ни один, всем ясно?
– Ага, – ответил Джордж с безразличным видом. – Марта, пошли.
Они вышли наружу, в снежную ночь, хотя темно не было – из-за снега и лунного света, сочившегося сквозь пушистые облака, – и направились к железнодорожным путям. На пересечении улицы с обширным железнодорожным депо стояло множество недавно загнанных туда вагонов, доверху загруженных каменным углем. Дети сбились в кучку в тени одного из вагонов. Пока они стояли там, поджидая брата, подошел «Особый вашингтонский» – длинный изящный состав, где было даже несколько новомодных вагонов с общим залом. Огромные застекленные окна сияли, из-за них выглядывали утонувшие в комфортабельных креслах пассажиры. Поезд прогрохотал мимо, дети инстинктивно отступили подальше.
– Ничего себе длина! – воскликнул Джордж.
– Хотел бы я на таком работать, – вторил ему Уильям.
Одна Дженни ничего не сказала, хотя сама мысль о путешествиях и комфорте подействовала на нее больше остальных.
На расстоянии появился Себастьян, шагавший упругой мужской походкой и всем своим видом показывавший, что относится к себе очень серьезно. Он отличался столь особенными решительностью и упрямством, что, не выполни сейчас дети его требования, он намеренно прошел бы мимо.
Марта, однако, все восприняла верно и пропищала детским голоском:
– Мистер, будьте так добры скинуть немного угля!
Себастьян резко остановился, уставился на них, будто впервые увидел, и, воскликнув: «Отчего нет?», взобрался на вагон, откуда с примечательной сноровкой сбросил им более чем достаточно кусков угля, чтобы наполнить корзинки, после чего, не желая задерживаться в плебейском обществе, быстро пересек сеть рельсов и пропал из виду.
Следом за ним, впрочем, стоило им с верхом наполнить корзины и оттащить их к тротуару, появился другой джентльмен, на этот раз настоящий, в цилиндре и издали заметном плаще-безрукавке, которого Дженни сразу же узнала. Это был собственной персоной достопочтенный сенатор, только что вернувшийся из Вашингтона в предвкушении безрадостного Рождества. Он прибыл с экспрессом, привлекшим ранее внимание детей, и решил удовольствия ради прогуляться до отеля пешком с небольшим чемоданчиком в руках. Подойдя ближе, он заподозрил, что видит перед собой Дженни, и замедлил шаг, чтобы присмотреться.
– Это вы, Дженни?
Та, еще раньше его заметившая, воскликнула: «Да это же мистер Брандер!», выпустила ручку корзины со своей стороны и, наказав детворе немедленно направляться домой вместе с добычей, заторопилась в противоположном направлении.
Сенатор двинулся следом, окликнув ее несколько раз по имени, но быстро потерял надежду ее догнать. Вдруг осознав простой детский стыд Дженни и отнесясь к нему с уважением, он остановился и решил вместо того развернуться и последовать за детьми. Он был человеком мягким и благородным и потому вполне понял суть происходящего. Сенатор вновь почувствовал то, что всегда ощущал рядом с этой девушкой, – то, сколь далеко они стоят друг от друга на социальной лестнице. Быть сенатором здесь и сейчас, когда дети вынуждены собирать уголь, уже кое-что значило. А завтра-то что за радость их ждет? Он сочувственно брел следом, причем походка его постепенно обретала легкость, и наконец увидел, как они входят в калитку невысокого домика. Сенатор пересек улицу и замер, укрытый слабой тенью покрытых снегом деревьев. В дальнем окошке домика горел желтый свет. Вокруг все было белым-бело. Из сарая доносились детские голоса, и в какой-то момент сенатору показалось, что он узнает силуэт миссис Герхардт. Какое-то время спустя через боковую калитку скользнула еще одна темная фигурка. Сенатор догадался, кто это. Он был тронут до глубины души и прикусил губу, чтобы сдержать дальнейшие эмоции. Резко развернувшись, он зашагал прочь.