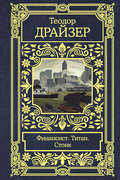Теодор Драйзер
Дженни Герхардт
Он жестом пригласил ее усесться в своем кресле под яркой лампой, а сам поспешил наружу.
Распорядок дел, связанный с отправлением уголовного правосудия в Коламбусе, был ему неплохо известен. Он был знаком с шерифом, лично ответственным за окружную тюрьму. С судьей, который назначил штраф. На то, чтобы написать записку, в которой он просил судью отменить штраф на основании незапятнанной репутации молодого человека, и отправить ее с посыльным к тому домой, ушли какие-то пять минут. Еще десять минут – чтобы лично дойти до тюрьмы и попросить своего приятеля-шерифа немедленно выпустить парнишку.
– Деньги вот, – сказал он. – Если штраф с него снимут, просто вернете мне. А сейчас пусть выходит.
Шериф был только рад оказать услугу. Он заторопился в подвал, чтобы лично за всем проследить, и вот изумленного Баса выпустили прямо в ночь, даже не позаботившись объяснить, что послужило тому причиной.
– Все в порядке, – сказал ему тюремщик. – Ты свободен. Беги домой и больше ни на чем таком не попадайся.
Бас, не переставая удивляться, двинулся своей дорогой, а бывший сенатор вернулся в отель, размышляя о том, как быть далее. Понятно, что отцу Дженни ничего не сказала. Визит к Брандеру стал для нее последней надеждой. И сейчас она ждет его возвращения в номере.
В жизни мужчин случаются кризисы, когда они колеблются с выбором между строгим следованием закону и долгу либо иной линией поведения, гарантирующей больше возможностей для личного счастья. Причем даже не всякий раз очевидно, в чем именно заключаются сложности. Сенатор понимал, что Дженни сейчас в его власти. Он знал, что сделать ее своей, пусть даже в качестве жены, будет непросто из-за ослиного упрямства ее отца. Другую сложность представляло собой общественное мнение. Допустим, он открыто объявит ее своей, что тогда скажут люди? В принципе, Дженни – взрослая женщина. И однако есть в этом нечто такое, чего толпа при всем желании даже не заподозрит. Он даже не знал, что именно: пожалуй, та глубина эмоций, не взятых еще под контроль интеллектом – или нет, лучше даже сказать, опытом, – какой только может вожделеть мужчина. Но это нечто крепко держало его, подобно магниту. И мощно влекло к себе.
«Что за девушка, – думал он, – что за девушка».
Весь в раздумьях о том, как ему поступить, Брандер добрался до отеля и до своего номера. Войдя, он был заново поражен ее красотой и, что было даже важней, притягательностью ее личности. В ее фигуре, освещенной лампой под абажуром, чудился могущественный потенциал.
– Ну-с, – сказал он, пытаясь хранить спокойствие, – я позаботился о вашем брате. Его выпустили.
Дженни поднялась с кресла.
– Ах! – воскликнула она, сцепив пальцы и протягивая к нему руки. На глазах у нее показались слезы благодарности. При виде их он поспешно шагнул к ней.
– Дженни, бога ради, не плачьте! Вы ангел! Вы само милосердие! Вы и так уже стольким пожертвовали, а тут еще слезы!
Он привлек ее к себе, и тут вся продиктованная возрастом осторожность его покинула. В душе его смешались сейчас потребность – и ее свершение. Наконец-то, вопреки всем потерям, судьба дала ему то, чего он больше всего желал, – любовь и женщину, которую можно любить. Он крепко сжал ее в объятиях и принялся целовать, снова и снова.
Английский писатель Джефферис сообщил нам: для того, чтобы создать идеальную девушку, требуется сто пятьдесят лет. «Совершенство это происходит из всего того волшебства, что сокрыто в земле и в воздухе. Из южного ветра, вздохнувшего полтора столетия назад над всходами пшеницы; из аромата высокой травы, что колышется над медоносным клевером и смеющейся вероникой, под ее покровом прячутся зеленушки, туда не залетает пчела; из оплетенных розами изгородей, жимолости и лазурных васильков там, где желтеющие колосья толпятся в тени зеленых елей. Вся сладость игривых ручейков, где ирисы хранят в себе солнечный свет, вся красота лесной чащобы, весь вольный простор поросшего тимьяном холма – повторенные трижды по сотне лет.
Сто лет первоцвета, колокольчиков, фиалок; пурпурной весны и золотой осени; солнца, дождя и утренней росы; бессмертной ночи; неизменного ритма времени. Хроника, никем не записанная, да и можно ли описать подобное: разве кто-то в силах сохранить память о лепестках, столетие назад опавших с розы? Полет ласточки под крышу – триста раз – вдумайтесь! И вот она является, а мир тоскует о ее красоте, как о давно отцветших цветах. Семнадцать лет – но ее прелесть родом из дальних веков. Оттого в любой страсти столько печали».
И вот, если вам дано понять и оценить триста раз повторенную красу колокольчика; если сердце ваше трогали розы, или музыка, или багряные рассветы и закаты; если вы знаете, что любая красота преходяща, но вам доверено подержать все это в руках, пока мир не ускользнул на своем пути далее, – неужели вы откажетесь?
Глава VIII
Нельзя утверждать, что в голове у Дженни в тот момент имелось ясное осознание случившегося – всех социальных и телесных последствий ее новых отношений с сенатором. Она не была еще знакома с тем потрясением, которым перспектива материнства, пусть даже при самых благоприятных обстоятельствах, оборачивается для обычной женщины. Ошеломительное пробуждение настигает тех, кто еще не обдумал этой возможности, не решил, что время созрело и час настал, много позже. Сейчас же она была исполнена удивления, изумления, неуверенности – и в то же время ощущала всю красоту и удовольствие этого нового состояния. Брандер, что бы он сейчас ни совершил, был человеком добрым и как никогда к ней близким. Он любил ее. И говорил об этом убежденно и убедительно. Новые отношения обещали и перемены в ее общественном положении. Жизнь должна была теперь радикально измениться – уже изменилась. Бывший сенатор не уставал повторять, что страсть его не знает предела.
– Послушай, Дженни, – сказал он, когда ей пора было уходить, – не нужно, чтобы ты переживала. Чувства меня победили, но я обязательно на тебе женюсь. Твоя натура меня просто покорила. Однако сейчас тебе лучше пойти домой. Никому ничего не говори. Только брата предупреди, если еще не поздно. Будь спокойна, а я очень скоро на тебе женюсь и заберу тебя оттуда. Это хоть сейчас можно устроить, только я не хочу играть свадьбу здесь. Но я еду в Вашингтон и туда тебя вызову. А пока, – он полез в бумажник и достал оттуда сто долларов, практически все, что имел при себе, – возьми вот это. Завтра я еще пришлю. Не забывай – ты теперь моя девушка. Ты мне принадлежишь.
И он ласково ее обнял.
Дженни вышла в ночь, размышляя. Конечно же, он сдержит слово. Перед ней открылись возможности жизни очаровательной и комфортной. Ох, а если он еще на ней и женится?.. Она отправится в Вашингтон – так далеко! Отцу и матери больше не придется тяжко работать. Она будет им помогать. И Басу с Мартой тоже – она просияла, представив себе, сколько помощи сумеет оказывать.
Проблема с этим миром в том, что дела в нем нелегко устроить так, как хочется человеку. Ночное время, незнание – а возможно, уже и знание – о происходящем ее родителей, буря, которая неизбежно случится, когда Герхардт узнает, что она ходила к сенатору и осталась допоздна, то важное, потаенное, существенное новое обстоятельство, о котором она и рассказать не сможет, – все это таким грузом легло ей на душу, что, дойдя до дома, она уже чувствовала себя совершенно несчастной. Брандер проводил ее до самой калитки и даже предложил, что зайдет сам и все объяснит, но, поскольку свет в доме не горел, оба подумали, что, быть может, Герхардты не слышали, как вернулся Бас – дверь Дженни за собой не запирала, да и у Баса были ключи. Вот только если он, не подумав, запер дверь, как ей теперь попасть домой?
Дженни скользнула вверх по ступенькам и толкнула дверь. Не заперто. Она задержалась на мгновение, чтобы жестом показать это своему возлюбленному, и вошла в дом. Тишина. Проскользнув в свою спальню, она услышала ровное дыхание Вероники. Потом направилась в комнату Баса и Джорджа. Бас растянулся на своей кровати, будто спал. Но, когда она вошла, спросил:
– Это ты, Дженни?
– Да.
– Где ты была?
– Послушай, – прошептала она, – ты папу с мамой видел?
– Да.
– Они знают, что я выходила?
– Мама знает. Велела мне не спрашивать. Так где ты была?
– Ходила к сенатору Брандеру за тебя просить.
– Вот оно что. А то мне не сказали, почему выпускают.
– И ты никому не говори, – взмолилась она. – Не хочу, чтобы кто-то знал. Сам понимаешь, какое у папы мнение на его счет.
– Ладно, – согласился Бас. Но ему было интересно, что же подумал бывший сенатор, что именно сделал, как она его упросила.
– Да он ничего не рассказал, – пожала она плечами. – Просто пошел и сделал так, чтобы тебя выпустили. А как мама догадалась, что я ушла?
– Не знаю.
Она была так рада возвращению Баса, что погладила его по голове, не переставая, однако, думать про маму. Итак, она знает. Ей придется рассказать – но что именно?
Тем временем мать появилась в дверях спальни.
– Дженни, – прошептала она.
Дженни вышла к ней.
– Зачем ты пошла к нему? – спросила ее мать.
– Мама, я иначе не могла. Нужно было что-то решать.
– И что ты там столько времени делала?
– Он хотел со мной поговорить, – уклончиво ответила Дженни.
Мать устало и беспомощно смотрела на нее.
– Все в порядке, мама, – попыталась Дженни ее приободрить. – Завтра я все тебе расскажу. Иди спать. Он не догадался, почему Баса выпустили?
– Нет, он не знает. Думает, может, решили, что штрафа он все равно не заплатит.
Дженни ласково погладила мать по плечу.
– Иди спать.
Теперь она думала и поступала так, словно разом повзрослела на несколько лет. Она чувствовала, что помощь сейчас нужна не только ей самой, но и матери.
В последующие дни Дженни пребывала в состоянии мечтательной неуверенности. В мыслях она постоянно возвращалась к случившимся драматическим событиям – раз за разом, снова и снова. Не было особой сложности в том, чтобы сообщить матери, что сенатор опять говорил о женитьбе, что он ручался, вернувшись из Вашингтона, прийти и забрать ее, что он дал ей сто долларов и обещал больше – но вот рассказать об остальном она не могла. Слишком запретная тема. Остаток обещанных ей денег прибыл с посыльным на следующий день: четыреста долларов наличными и письменный совет положить их в местный банк. Бывший сенатор также объяснил, что уже выезжает в Вашингтон, но обязательно вернется или же пошлет за ней, а пока что будет ей писать. «Не падай духом, – писал он, – впереди тебя ждут лучшие времена».
У миссис Герхардт подобная щедрость – и то, что она могла бы означать – вызвала определенные сомнения, но с учетом прежних поступков Брандера и объявленного вслух намерения жениться все выглядело мало-мальски правдоподобно. Дженни никогда раньше не лгала и не скрытничала. Сейчас она тоже казалась матери вполне откровенной. Правда, иногда ее заставляла волноваться определенная грусть в настроении дочери. Раньше за ней такого не замечалось.
Для Дженни же настали великолепные дни, ведь она все время ожидала новостей, непредсказуемых, словно сказки «Тысячи и одной ночи». Брандер уехал, судьба ее фактически повисла на волоске, но поскольку она сохранила всю свою юную чистоту и даже простоту помыслов, она ему верила, и даже печаль иногда ее покидала. Он пошлет за ней. В воображении ее сменяли друг друга миражи дальних стран и замечательных сцен. В банке у нее хранилось целое богатство, больше, чем она когда-либо мечтала, и она могла оказывать из этих денег помощь матери. Естественное девичье предвкушение счастья все еще довлело над ней, и потому она тревожилась меньше, чем стоило бы в таких обстоятельствах. Она сама, ее жизнь, будущие возможности – все застыло на готовой качнуться чаше весов. Все могло обернуться замечательно, а могло и не лучшим образом, но неопытная душа не ожидала полной катастрофы, пока она не грянула.
Каким образом разум в столь неопределенной ситуации способен сохранять относительное спокойствие – одно из тех чудес, объяснение которым таится в природной доверчивости юного духа. Люди так редко способны сохранить восприятие, свойственное молодости. Чудо, однако, не в том, что кому-то удается сохранить, а в том, что кто-то вообще исхитряется его утратить. Разберите на части весь мир, изъяв оттуда присущие юному возрасту нежность и способность восхищаться – что вообще останется? Отдельные зеленые ростки, изредка проникающие сквозь бесплодную почву вашего материализма, отдельные летние видения, пролетающие перед глазами зимней души, получасовые перерывы в долгих бесплодных раскопках – лишь в них закаленному ветерану открывается та вселенная, в которой юное сознание живет постоянно. Справедливость во всем; широкие поля и свет над холмами; утро, день, ночь; звезды, птичьи трели, круги на воде – все это детское сознание наследует естественным образом. Взрослые же зовут это поэзией, а те, кто совсем закоснел, – фантазиями. В дни юности и для них все было естественным, однако юное восприятие ушло, и они утратили способность видеть.
В поступках же Дженни все проявлялось лишь в слабо выраженной грусти, присутствие которой чувствовалось во всем, что она делала. Будь то стирка, шитье, прогулки с братьями и сестрами, она все время была чуть грустна, словно лесная голубка. Иногда она удивлялась, что писем до сих пор нет, но сразу вспоминала, что он упомянул отъезд на несколько недель, а значит, те шесть, что уже прошли, – не так уж и много.
Достойный бывший сенатор тем временем в отличном настроении явился на встречу с президентом, совершил ряд приятных светских визитов и собирался уже навестить на пару дней своих друзей в их мэрилендском поместье, когда у него слегка поднялась температура, так что ему пришлось провести несколько дней в номере отеля. Он испытывал определенную досаду оттого, что слег именно сейчас, но не подозревал в своей хвори ничего серьезного. Потом врач пришел к выводу, что сенатор подхватил заразную разновидность брюшного тифа, последствия которого заставили его совершенно забыть о времени и сильно изнурили. Все уже думали, что он начал выздоравливать, когда, всего через шесть недель после расставания с Дженни, с сенатором внезапно случился сердечный приступ, и он больше не приходил в сознание. Дженни находилась в блаженном неведении о его болезни и даже не обратила внимания на напечатанные жирным заголовки газет, извещавшие о смерти сенатора, пока вечером домой не вернулся Бас.
– Взгляни-ка, Дженни, – сразу сказал он, войдя. – Брандер умер.
В руках у него была газета, и на первой странице было набрано крупными буквами:
КОНЧИНА БЫВШЕГО СЕНАТОРА БРАНДЕРА
Безвременная смерть славного сына Огайо.
Умер от сердечного приступа в отеле «Арлингтон» в Вашингтоне. Полагали, что он восстанавливается от брюшного тифа, однако болезнь победила. Вот основные вехи его выдающейся карьеры.
Дженни пораженно уставилась на заголовок.
– Умер? – воскликнула она.
– Так в газете написано, – ответил Бас тоном человека, сообщающего весьма увлекательную новость. – Сегодня в десять утра.
Дженни, трепеща и почти того не скрывая, взяла газету и вышла в соседнюю комнату. Там, стоя у окна, она еще раз перечитала сообщение, словно в трансе от тошнотворного чувства ужаса.
В сознании вертелась лишь одна мысль: «Он умер», потом до ее слуха донесся голос Баса, излагающего тот же самый факт Герхардту. «Да, умер», – услышала она и еще раз попыталась осознать, что это значит для нее.
Судьба нанесла Дженни столь тяжкий удар, что полного осознания так и не произошло. Способность человеческого мозга к переживаниям ограниченна. Ее буквально оглушило, и в этом состоянии Дженни не могла толком ощутить ни горя, ни боли.
Она все еще стояла у окна, когда в комнату вошла миссис Герхардт. Она слышала, что сказал Бас, и видела, как Дженни вышла из комнаты, но после ссоры с Герхардтом из-за сенатора выказывать интерес к новости было бы неосторожно, и она отправилась взглянуть, как там Дженни. Об истинном состоянии дел она даже не догадывалась, ее волновало, как Дженни переживет потерю, вызванную внезапным крушением надежд. Женой посла ей уже не быть, и от всего влияния человека, который был к ним так добр, не осталось и следа.
– Разве не ужас? – сказала она с неподдельной скорбью. – Столько всего собирался сделать, а вышло помереть.
Она сделала паузу, ожидая услышать слова согласия, но, обнаружив Дженни необычно безмолвной, продолжала:
– И все же я бы на твоем месте не переживала. Что теперь поделаешь? Он много всего собирался для тебя сделать, но ты об этом не думай. Тут все кончено, ничего не поделать.
Она сделала еще паузу, Дженни вновь не откликнулась, и ее мать решила, что слова напрасны, Дженни просто хочет побыть одна, так что она вышла из комнаты.
Дженни так и стояла, но теперь, когда истинное значение новости стало оформляться в последовательные мысли, начала осознавать весь ужас своего положения, всю свою беспомощность. Когда мать ушла, она отправилась в спальню и присела на краешек кровати, откуда в гаснущем вечернем свете ей было видно бледное несчастное лицо, взирающее на нее из небольшого зеркала. Неуверенно на него взглянув, она прижала руки ко лбу и уронила голову на колени.
«Мне придется уйти из дома», – подумала она и стала со всей храбростью отчаяния решать, куда именно.
Тем временем позвали к ужину, и она, чтобы не подавать виду, вышла из спальни и присоединилась к семье. Вести себя естественно было чрезвычайно тяжело. От миссис Герхардт не укрылось, с каким усилием Дженни прячет свои чувства. Герхардт тоже заметил, что дочь необычно тиха, но даже не заподозрил, какие глубины переживания за тем скрываются. Бас же был слишком занят собственными делами, чтобы на кого-то обращать внимание.
В последующие дни Дженни непрерывно обдумывала сложности своего положения, задаваясь вопросом, что ей теперь делать. Деньги у нее были, это правда, но ни друзей, ни опыта, ни места, куда можно отправиться. Она всю жизнь провела в семье. Пока длилось это ее состояние, она начала временами ощущать непонятный упадок духа, словно вокруг таились безымянные и бесформенные ужасы, преследуя ее и угрожая. Однажды утром, проснувшись, она почувствовала неодолимое желание расплакаться, с тех пор это чувство накатывало на нее кстати и некстати, а неспособность скрывать его привлекла внимание миссис Герхардт. Та стала отмечать перепады в ее настроении, однажды, войдя в комнату, обнаружила, что у дочери мокрые глаза, и это подвигло ее на очень сочувственные, но настойчивые расспросы.
– Ты просто обязана мне сказать, что с тобой, – попросила она, сама чрезвычайно расстроенная.
Дженни, для которой сознаться поначалу казалось невозможным, наконец поддалась сочувственному материнскому напору, фатальное признание прозвучало, и миссис Герхардт застыла на месте, на какое-то время онемев от горя и не в состоянии вымолвить ни слова.
– Ах, это все из-за меня, – сказала она наконец, поглощенная бурно нахлынувшим чувством вины. – О чем я только думала?
Всевозможные последствия этого скорбного открытия оказались слишком многочисленны и слишком прискорбны, чтобы их перечислять. Мать переживала: как бы все скрыть? Чего ждать от мужа? Брандер, соседи, ее добрая, милая Дженни – все это одно за другим стремительно мелькало в ее мыслях. Чтобы Брандер предал доверие ее дочери – такое представлялось невозможным.
Некоторое время спустя миссис Герхардт вернулась к незаконченной стирке и стояла над корытом, полоща белье и рыдая. Слезы текли по ее щекам и капали в грязную воду. Время от времени она прерывалась и хваталась за угол фартука в попытке осушить глаза, но эмоции вскоре снова их наполняли.
Когда первое потрясение миновало, к ней явилось яркое осознание надвигающейся опасности, которое всегда сопровождается необходимостью как следует подумать. Вот только рассуждать миссис Герхардт в подобной ситуации была неспособна. Она думала и думала, но все затмевала необходимость рассказать мужу. Он не раз заявлял, что если кто-то из его дочерей поступит так, как кое-какие известные ему персоны, он укажет ей на дверь. «Под моей крышей такому места не будет!» – восклицал он при этом.
Теперь, когда до греха и взаправду дошло, он наверняка сдержит слово. Разве он Брандера не выгнал? Зачем ему такие, как она или как Дженни, когда он узнает, что они общались с сенатором после всех его предупреждений, да еще со столь ужасными последствиями? Сама же Дженни увильнуть даже не пыталась.
– Я так боюсь твоего отца, – часто говорила Дженни мать в этот период ожидания. – Не представляю, что он скажет.
– Может, мне лучше уйти из дома? – предложила дочь.
– Нет, – ответила мать, – ему пока что знать не нужно. Подождем.
Сложность этой ситуации тем, кто несведущ в подробностях, нельзя ни объяснить, ни даже обрисовать. Во всем Коламбусе миссис Герхардт не знала никого, к кому могла бы отправить Дженни, если отец откажется терпеть ее в доме. Конечно, город – не деревня, но все равно, куда бы Дженни ни перебралась, поднявшаяся волна слухов докатится и дотуда. На деньги Брандера она сумеет прожить, но где? Поразмыслив, она решила все-таки признаться мужу и надеяться на лучшее.
Наконец настал день, когда ожидание сделалось невыносимым, и миссис Герхардт отправила Дженни на долгую прогулку с детьми, надеясь, что успеет все рассказать мужу до их возвращения. Все утро она мялась, страшась любого подходящего момента, и в итоге позволила ему уйти спать, так и не поговорив с ним. После полудня она не пошла на работу, поскольку не могла так вот уйти, оставив дело неоконченным. Герхардт встал в четыре, но она все еще колебалась, прекрасно понимая, что Дженни вот-вот вернется и вся тщательная подготовка пойдет впустую. Почти наверняка она бы так и не решилась, если бы сам Герхардт не завел разговор о внешнем виде Дженни.
– Она выглядит нездоровой, – сказал он. – Похоже, с ней что-то приключилось.
– Ах, у Дженни произошло несчастье, – начала миссис Герхардт, изо всех сил сражаясь со своими страхами, и решила любой ценой положить им конец. – Я не знаю, что делать. Она…
Герхардт, который только что вывинтил дверной замок, чтобы его починить, опустил на стол руку с отверткой и остановился.
– Это ты о чем? – спросил он.
Миссис Герхардт уже сжимала в ладонях фартук, поддавшись своей привычке его скручивать, нервничая. Она попыталась призвать достаточно храбрости, чтобы все объяснить, но страх и отчаяние победили, она подняла фартук к глазам и расплакалась.
Герхардт уставился на нее и поднялся на ноги. Лицом он чем-то напоминал Кальвина – довольно острые черты и желтоватая кожа, следствие возраста и постоянной работы под дождем и ветром. Если он сильно удивлялся или злился, в глазах загорался огонек. Будучи чем-то обеспокоен, он зачастую отбрасывал рукой волосы со лба и почти непременно начинал расхаживать по комнате. Но сейчас он выглядел встревоженным и пугающим.
– Что ты такое говоришь? – спросил он по-немецки жестким и напряженным голосом. – Случилось несчастье… неужели кто-то… – Герхардт запнулся и вскинул вверх руку. – Почему ты молчишь? – воскликнул он.
– Я и подумать не могла, – продолжила миссис Герхардт, донельзя перепуганная, развивать собственную мысль, – что с ней такое может случиться. Такая хорошая девочка была. Ах, как же он мог ее испортить? – заключила в итоге она.
– Разрази меня гром! – заорал Герхардт, давая выход буре чувств. – Я так и знал! Брандер! Ага! Этот твой благородный человек! Ты ей позволяла из дома по ночам выходить, на коляске кататься, по улицам разгуливать – и вот чем кончилось. Я так и знал. Силы небесные!..
Он оставил драматическую позу и принялся бешено расхаживать по узенькой комнате, от одной стены к другой, как загнанный в клетку зверь.
– Испортить! – восклицал он. – Испортить! Ага! Выходит, он ее испортил!
Он внезапно остановился, будто его дернули за веревочку. Произошло это в точности напротив миссис Герхардт, которая отступила к столу рядом со стеной и стояла там, белая от ужаса.
– А теперь умер! – заорал Герхардт, как если бы до сих пор о том и не подозревал. – Умер!
Сжав ладонями виски, словно в страхе, что его мозг не выдержит, Герхардт стоял перед ней. Казалось, издевательская ирония ситуации жжет его мысли огнем.
– Умер! – еще раз повторил он, так что миссис Герхардт, опасаясь за его рассудок, еще больше вжалась в стену, мысли ее сейчас были более заняты стоящей перед ней трагической фигурой, нежели причиной его мук.
– Он собирался на ней жениться, – взмолилась она неуверенно. – И женился бы, коль не умер.
– Женился бы! – снова возопил Герхардт, которого звук ее голоса вывел из транса. – Женился бы! Самое время о том порассуждать! Женился бы! Вот ведь собака! Гори он в аду, псина! Господи! Надеюсь… надеюсь… не будь я только христианином… – Он сцепил ладони и затрясся как осиновый лист при одной мысли о том ужасе, которого был готов пожелать для души Брандера.
Миссис Герхардт, неспособная более переносить эту бурю яростных эмоций, ударилась в слезы, но муж-немец лишь отвернулся, его собственные чувства были сейчас слишком сильны, чтобы ее пожалеть. Он снова зашагал взад и вперед, кухонный пол трясся под его весом. Некоторое время спустя разразившаяся катастрофа вышла на новый виток, и он опять оказался перед женой.
– Когда это случилось?
– Я не знаю, – ответила миссис Герхардт, слишком перепуганная, чтобы сказать правду. – Сама только на днях выяснила.
– Врешь! – возбужденно воскликнул он, сам почти не осознавая, сколь жестоко его обвинение. – Ты ее всегда покрывала. Это ты виновата в том, что с ней стряслось. Если бы ты меня послушалась, нам сейчас и заботиться было бы не о чем.
Герхардт отвернулся, в мысли его проникло смутное осознание нанесенного им страшного оскорбления, однако чувства в нем все еще преобладали над рассудком.
– Отлично же вышло, – продолжал он, адресуясь уже сам себе. – Отлично. Сын угодил в тюрьму, дочь шляется по улицам и стала мишенью для сплетен, соседи не стесняются указывать на проступки моих детей, а теперь она еще и позволила этому мерзавцу ее испортить. Господи, не понимаю, что нашло на мое потомство!
Он остановился, весьма опечаленный последней мыслью, и сменил тон речи на более жалобный, а предмет – на самоуничижение.
– Не знаю, как так выходит, – причитал Герхардт. – Я стараюсь, стараюсь! Каждый вечер молю Бога, чтоб не дал мне сделать дурного, и все напрасно. Работаешь, работаешь. Руки, – он вытянул перед собой ладони, – от работы уже все в мозолях. Всю жизнь я стремился быть честным человеком. А теперь… теперь… – Голос его сорвался, какое-то мгновение казалось, что он готов разрыдаться. Вместо того его вдруг охватил сильный гнев, и он вновь набросился на жену.
– Ты всему причина! – воскликнул он. – Единственная причина! Делала бы, как я сказал, ничего б не случилось. Но нет, тебе нужно по-своему. Пускай она гуляет! Пускай!! Пускай!!! Нужно же ей чем-то заняться. Ну, вот теперь у нее будет занятие. Гулящей она сделалась, вот что. Ступила на прямую дорогу в ад. Вот и пусть по ней идет. Пусть идет. Я умываю руки. С меня достаточно.
Герхардт сделал движение в сторону своей небольшой спальни, но, не дойдя до двери, вернулся обратно.
– Пускай мерзавец подавится той работой! – объявил он, вспомнив о собственной роли в прискорбном развитии событий. – Лучше на улице от голода сдохну, чем принимать что-либо от этой собаки. Моя семья будто проклята сделалась.
Он еще какое-то время продолжал в том же духе, демонстрируя собственные слабости и страсти, как вдруг подумал о Дженни применительно к будущему. Миссис Герхардт давно этого ожидала, едва в силах переносить острое нервное напряжение. Однако шок от прозвучавших наконец слов меньше от того не стал.
– Пусть уходит! – воскликнул он со всей силой своих эмоций. – Под моей крышей ей не место! Сегодня же! Сейчас же! Я ее больше на порог не пущу! Я ей покажу, как меня позорить!
– Ты ведь не выгонишь ее этой же ночью на улицу? – взмолилась миссис Герхардт. – Куда ей идти?
– Сегодня же! – повторил он. – В эту самую минуту! Пусть ищет, где ей теперь жить! Тут ей не нравилось. Пусть проваливает. Посмотрим, как ей там понравится.
Похоже, он нашел в том определенное удовлетворение, поскольку несколько успокоился и теперь лишь монотонно и молча расхаживал по комнате, время от времени давая выход только отдельным коротким восклицаниям. Минута тянулась за минутой, он снова начал задавать вопросы, попрекать миссис Герхардт, поносить Брандера и все больше утверждать себя в своем мнении и решении относительно Дженни.
В половине шестого, когда заплаканная миссис Герхардт приступила к своим обязанностям по приготовлению ужина, Дженни вернулась. Как только открылась дверь, ее мать вздрогнула, понимая, что буря сейчас разразится с новой силой. Дженни была к тому готова – если бледный и унылый вид можно считать достаточной подготовкой к тому, чего следовало ожидать.
– Вон с глаз моих! – вскричал Герхардт, увидев, как она входит в комнату. – Ни часу больше в моем доме! Не желаю тебя отныне видеть. Вон!
Дженни стояла перед ним бледная, немного дрожа, и молчала. Вернувшиеся с ней дети застыли рядом в испуганном изумлении. Вероника и Марта, обожавшие сестру, начали плакать.
– Что случилось? – спросил Джордж, разинув рот от недоумения.
– Пусть она уходит, – вновь объявил Герхардт. – Не желаю ее видеть под своей крышей. Хочет быть гулящей – пускай, но здесь ей места нет. Собирай вещи, – добавил он, вперив в нее взгляд.
Дженни шагнула к спальне, а дети принялись громко плакать.
– Тихо! – повелел им Герхардт. – Отправляйтесь в кухню.
Выгнав туда детей, он с упрямым выражением лица проследовал за ними.
Дженни, представлявшая, чего ожидать, была к тому отчасти готова. Собрав свои нехитрые пожитки, она в слезах принялась укладывать их в принесенный матерью чемодан. Накопившиеся у нее мелкие девичьи безделушки остались на своих местах. Она поглядела на них, но, подумав о сестренках, решила не брать с собой. Марта и Вероника, очень за нее переживавшие, хотели направиться в спальню, где она собиралась, но отец приказал им остаться на кухне. Дженни пережила ужасный час, в течение которого, казалось, все ее бросили.
В шесть вернулся домой Бас и при виде странно нервозного сборища на кухне поинтересовался, что случилось. Герхардт, преисполненный мрачной решимости, безрадостно на него посмотрел, но ничего не ответил.
– Да что такое? – не унимался Бас. – Чего вы тут расселись и ждете?
Герхардт уже приготовился с речью, но миссис Герхардт, почти не скрывая слез, прошептала: