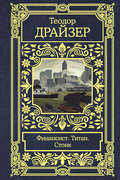Теодор Драйзер
Дженни Герхардт
Главный универсальный магазин в городе содержал некто Мэннинг, верный сторонник Брандера, гордившийся их знакомством. Этим вечером сенатор явился к нему в контору, где вовсю кипела бурная деятельность.
– Мэннинг, – сказал он, – не могли бы вы сегодня вечером кое-что для меня предпринять?
– Конечно же, сенатор, конечно же, – ответил торговец. – Давно вернулись? Рад вас видеть. Непременно готов помочь.
– Приготовьте, пожалуйста, все, что нужно для Рождества на семью из восьми человек – отец, мать, шестеро детей. Елку, продукты, игрушки – ну, вы меня поняли.
– Конечно, сенатор, конечно.
– О цене не беспокойтесь. Главное, чтобы всего хватило. Я дам вам адрес. – Сенатор взял блокнот, чтобы его написать.
– С превеликим удовольствием, сенатор! – воскликнул Мэннинг, которого происходящее тоже весьма впечатлило. – С превеликим удовольствием. Вы всякий раз столь щедры!
– Будет вам, Мэннинг, – сказал сенатор без особой радости, поскольку что-то ответить было нужно. – Заказ отправьте немедленно, счет пришлете мне.
– С превеликим удовольствием, – все, что смог ответить пораженный и всецело одобряющий происходящее торговец.
Сенатор вышел, но потом, вспомнив про родителей, посетил также портного и сапожника, где, сообразив, что о размерах может лишь гадать, сделал заказы с возможностью обмена. Закончив свои труды, он вернулся в номер.
– За углем ходят, – крутилось у него в голове. – И о чем я только думал? Больше нельзя про них забывать.
Глава IV
Желание убежать, которое испытала Дженни, вновь увидев сенатора, было вызвано тем, что она считала своим позором. Ей было стыдно даже подумать, что он, так хорошо к ней относящийся, застал ее за столь низким занятием. Как свойственно девушкам, она была склонна воображать, что его к ней интерес зависел от чего-то куда более высокого.
Когда Дженни наконец добралась домой, другие дети уже сообщили миссис Герхардт о ее бегстве.
– Чего это ты? – спросил Джордж у сестры, не успела она войти.
– Ничего, – ответила она, однако тут же повернулась к оказавшейся рядом матери и сообщила: – Там был мистер Брандер, и он нас заметил.
– В самом деле? – негромко воскликнула ее мать. – Значит, он вернулся. А зачем ты сбежала-то, дурочка?
– Ну, я не хотела, чтобы он меня там видел.
Миссис Герхардт не могла не посмеяться над замешательством дочери и рассказами других детей о ее бегстве, хотя втайне понимала ее чувства и разделяла их. Очень жаль, думала она, что почтенный сенатор все это видел.
– Ну, может статься, он тебя не узнал, – сказала она.
– О нет, узнал, – прошептала Дженни. – Он меня три или четыре раза по имени окликнул.
Миссис Герхардт лишь покачала головой.
– Что там у вас стряслось? – спросил Герхардт, показавшись в дверях. Весь этот разговор он слышал из соседней комнаты.
– Ах, ничего особенного, – ответила мать, которой совсем не хотелось объяснять, сколь много теперь для них значила личность сенатора. – Когда дети ходили за углем, их напугал какой-то мужчина.
Беспокойство ясно отразилось на лице Герхардта, но сказать ему было нечего. Жаль, что на долю его детей выпало подобное, однако что тут поделаешь? Увидев, что остальные смеются над случившимся и склонны рассматривать все как веселое приключение, он тоже улыбнулся.
– Может быть, скоро мы и сами купим угля, – добавил он.
Еще ближе к вечеру доставили рождественские подарки, и вся семья пришла в крайнее возбуждение. Ни Герхардт, ни его жена не могли поверить собственным глазам, когда перед их домом остановился фургон и жизнерадостный приказчик принялся заносить все внутрь. Все попытки его остановить или убедить, что он ошибся адресом, оказались напрасны, оставалось лишь с совершенно естественной радостью взирать на растущую кучу коробок.
– Не беспокойтесь, – уверенно объявил приказчик. – Я прекрасно знаю, что делаю. Здесь живет семейство Герхардт, так? Значит, все правильно.
Миссис Герхардт кружилась по дому, всплескивая руками от возбуждения, и время от времени издавала что-то вроде:
– Ну разве не замечательно?
Сердце Герхардта тоже готово было растаять при мысли о щедрости неведомого благотворителя; он был склонен приписывать ее широте души владельца местной фабрики, который его знал и хорошо к нему относился. У миссис Герхардт, готовой расплакаться, были свои подозрения насчет истинной личности дарителя, но она молчала. Дженни же инстинкт точно подсказал, кто за всем стоит.
На следующий день после праздника Брандер повстречал в отеле мать семейства – Дженни осталась дома, чтобы присмотреть за хозяйством.
– Здравствуйте, миссис Герхардт! – сердечно воскликнул он, протягивая руку. – Как ваше Рождество, удалось?
Бедная миссис Герхардт разнервничалась и попыталась было глянуть на него с должной признательностью, но из этого ничего не вышло. Ее глаза тут же наполнились слезами.
– Ну что вы, – похлопал он ее по плечу, – не нужно плакать. И не забудьте сегодня забрать у меня стирку.
– Конечно же, сэр, – воскликнула она и хотела много чего еще добавить, но он уже ушел.
С этого дня Герхардт постоянно слышал о замечательном сенаторе из отеля, который очень вежлив и много платит за стирку. Со свойственной немцу-рабочему наивностью он был склонен верить, что столь высокопоставленное лицо и качествами должно обладать самыми возвышенными.
Дженни тоже думала о сенаторе даже еще лучше, чем прежде и в дополнительных поощрениях тому явно не нуждалась.
В ней начал сейчас проявляться тот идеал женственности, те формы, которые ни одного мужчину не способны оставить равнодушным. Уже было заметно многое из того, что позднее в жизни станет великолепной материнской статью. Она и сейчас уже была близка к совершенству, отлично сложенная и для девушки довольно высокая. Если обрядить ее в юбку со шлейфом, какие носят модницы, она составила бы прекрасную пару рослому, подобно сенатору, мужчине. Взгляд ее был поразительно чист и ярок, кожа светлая, зубы белые и ровные. К тому же Дженни была умна, или скорее даже разумна, и отличалась наблюдательностью. Чего ей недоставало, так это образования и той уверенности, которую понимание своей крайней зависимости достичь не позволяет. Увы, сейчас ей приходилось носить белье из стирки и принимать как благодеяние любую мелочь.
Теперь, когда она дважды в неделю появлялась в отеле, сенатор Брандер встречал ее с непринужденной вежливостью, на которую она отвечала взаимностью. Он приглашал ее разглядывать безделушки, которыми был уставлен его номер, делал небольшие подарки для нее самой или для ее братьев и сестер и разговаривал с ней в манере столь естественной, что чувство благоговения, вызванное огромным неравенством между ними, в конце концов исчезло, Дженни стала видеть в нем скорее щедрого друга, нежели уважаемого сенатора. Как-то раз он поинтересовался, не хочет ли она получить образование, думая при этом, сколь привлекательной она в результате оказалась бы. Наконец в один из вечеров он подозвал ее к себе:
– Подойдите ко мне, Дженни, и встаньте рядом.
Она подошла совсем близко к креслу, и он взял ее за руку.
– Итак, Дженни, – сказал он, вглядываясь в ее лицо пристально и изучающе, – что вы теперь обо мне думаете?
– Ах, не знаю, – ответила она, отводя от него свой взгляд. – Отчего вы спрашиваете?
– Нет же, знаете, – возразил он. – Вы успели составить обо мне свое мнение. Поделитесь им со мной.
– Нет, не успела, – застенчиво ответила она.
– Конечно же, успели, – продолжал он вежливо, еще больше заинтригованный ее уклончивостью. – Что-то же вы обо мне думаете. Так что же именно?
– Вас интересует, нравитесь ли вы мне? – спросила она напрямую, глядя сверху вниз на уже заметно пронизанную сединой гриву черных волос, которая ниспадала ему на лоб, придавая благородному лицу что-то львиное.
– В общем, да, – ответил он, чувствуя разочарование. Искусство кокетства в ней полностью отсутствовало.
– Конечно же, нравитесь, – с милой улыбкой сообщила она.
– А больше вы ничего обо мне не думали? – продолжал он.
Она на мгновение задумалась, а он слегка встряхнул ее ладонь, даже не осознавая, какую вольность себе позволяет.
– По-моему, вы очень добры, – сказала наконец Дженни еще застенчивей: она только что поняла, что он все еще держит ее за руку.
– И это все? – спросил он.
– Ну, – ее большие глаза удивленно моргнули, – разве этого мало?
Он смотрел на нее, и ее легкое дружеское отношение вызывало в нем бурю чувств. Брандер ощущал в самом чистом виде ту радость, которую один человек способен подарить другому. Сколько лет прошло с тех пор, когда прикосновение чужой руки последний раз давало ему столько чувств и столько тепла, как сейчас? Сколь холодна материя жизни по сравнению с этим ощущением, человеческим и теплым, исходящим от женщины, относящейся к нему с симпатией. Он молча вглядывался в ее лицо, а она пыталась отвернуться, чувствуя, хотя и не понимая, всю важность, заключенную в его взгляде.
– Что ж, – сказал он наконец, – я думаю, что вы очень милая девушка. А вам разве не кажется, что и я неплохой человек?
– Да! – тут же откликнулась Дженни.
Откинувшись на спинку кресла, он расхохотался: слишком уж комично, помимо ее желания, прозвучал ответ. Она с удивлением глянула на него и улыбнулась.
– Над чем это вы смеетесь?
– Над вашим ответом, – объяснил он. – Хотя мне и не над чем смеяться. Вы ведь меня совсем не цените. Даже не могу поверить, что я вам нравлюсь.
– Но это правда! – воскликнула она с чувством. – Вы такой замечательный. – По ее глазам было ясно видно, что ее чувства соответствуют словам.
– Что ж, – сказал он, легонько притянул ее к себе и одновременно прижался губами к ее щеке.
– Ах! – Дженни выпрямилась, одновременно изумленная и испуганная.
В их отношениях это было чем-то новым. Сенаторская солидность в одночасье куда-то исчезла. Она обнаружила в нем то, чего раньше не чувствовала. Он даже показался ей моложе. Для него она теперь была женщиной, а он играл роль ее возлюбленного. Дженни заколебалась, не зная, как реагировать – и поэтому не отреагировала никак.
– Итак, – сказал он, – я вас напугал.
Она уставилась на него, но глубоко укоренившееся уважение к этому выдающемуся человеку победило, и она с улыбкой ответила:
– Да, напугали.
– Я это сделал, потому что вы мне очень нравитесь.
Чуть поразмыслив над этим, она произнесла:
– Кажется, мне лучше будет уйти.
– Нет же, – взмолился он, – неужели вы меня из-за этого покинете?
– Нет, – сказала она, странным образом чувствуя себя неблагодарной, – просто мне уже пора. Меня дома хватятся.
– Вы правда на меня не сердитесь?
– Не сержусь, – ответила она тоном более женственным, чем когда-либо прежде. Ощущение подобной власти над кем-то было для нее внове. И оно оказалось таким прекрасным, что оба были близки к замешательству.
– Вы теперь моя, – сказал сенатор, поднимаясь на ноги. – И я намерен в будущем о вас заботиться.
Его слова обрадовали Дженни. Она подумала, что он способен творить самые чудесные вещи – точно волшебник. Она обвела вокруг себя взглядом, и сама мысль, что ей теперь предстоит жить такой жизнью и в таком окружении, была сродни блаженству. Она, однако, не то чтобы вполне понимала, что Брандер имеет в виду. Но он вроде бы намерен быть щедрым и добрым, а еще дарить ей дорогие подарки. Разумеется, она была счастлива. Она подхватила узел с бельем, за которым пришла, не замечая и не чувствуя всей двусмысленности своего нынешнего положения, тогда как сенатор ощутил немедленный укор совести.
«Не должна она все это таскать», – подумал он, и его волной захлестнуло сочувствие. Он взял ее лицо в свои ладони, уже более повелительно, но и щедро.
– Не переживайте, моя девочка, – сказал он. – Вам не придется все время таким заниматься. Я постараюсь что-нибудь придумать.
Результатом всего этого стали попросту более близкие отношения между ними. В ее следующий визит он без колебаний пригласил ее присесть на подлокотник кресла рядом с ним и принялся подробно расспрашивать Дженни о семье и о том, чего она сама бы желала. Несколько раз он замечал, что она уходит от ответа, особенно на вопросы о том, чем сейчас занимается отец. Ей было стыдно признаться, что он ходит по домам и пилит дрова. Он же, заподозрив нечто куда более серьезное, решил дождаться случая и все разузнать самому.
Так Брандер и сделал, когда выдалось свободное утро, не обремененное прочими обязанностями. До решающей схватки в парламенте, которая закончилась его поражением, оставалось еще три дня. Однако сделать что-то за оставшееся время было уже нельзя. Он знал, что все уже под контролем, насколько это возможно, а контроль тот и в лучшие времена был так себе. Прихватив трость, он пустился в путь, через полчаса достиг домика и уверенно постучал в дверь.
Открыла ему миссис Герхардт.
– Доброе утро, – весело сказал он и, заметив ее неуверенность, добавил: – Позволите войти?
Добрая матушка, которая от его внезапного появления едва не лишилась чувств, незаметно вытерла руки под залатанным фартуком и, видя, что он ее ждет, ответила:
– Ну конечно же, заходите. Вот, присаживайтесь.
Позабыв закрыть дверь, она заторопилась внутрь и, предложив сенатору обычный стул, еще раз пригласила его сесть.
Брандер добродушно глянул на нее и, сожалея, что вызвал подобное замешательство, произнес:
– Не стоит беспокоиться, миссис Герхардт. Я просто шел мимо и решил заглянуть. Как поживает ваш муж?
– Хорошо, благодарю вас, – ответила мать. – Его нет дома, он работает.
– Значит, ему удалось найти место?
– Да, сэр, – сказала миссис Герхардт, которой, как и Дженни, не хотелось уточнять, в чем заключается работа.
– Надеюсь, все дети теперь здоровы и в школе?
– Да, – ответила мать, успевшая тем временем развязать фартук, который теперь нервно вертела на коленях.
– Это хорошо, а где сейчас Дженни?
Та занималась глажкой, однако успела бросить гладильную доску и укрылась в спальне, где торопливо приводила себя в порядок, опасаясь, что матери не хватит сообразительности сказать, что ее нет дома, и тем дать ей возможность скрыться.
– Она сейчас выйдет, – ответила мать, в свою очередь надеявшаяся, что дочь послужит ей спасением. – Я ее позову.
Воспользовавшись этим предлогом, она ускользнула из комнаты и, отыскав Дженни, сказала ей:
– Послушай, выйди к нему на минутку. Мне бы переобуть эти старые шлепанцы.
– Зачем ты ему сказала, что я здесь? – безнадежно спросила Дженни.
– А что я должна была сказать? – удивилась мать.
Пока обе не могли решить, что им делать, сенатор разглядывал комнату. Для него в этом свидетельстве крайней бедности не было ничего нового, хотя они-то так не думали. Он почувствовал сожаление при мысли, что этим достойным людям приходится так страдать, но решил также по возможности улучшить их условия, пусть и не представляя пока, как именно.
– Доброе утро, – поздоровался сенатор, когда вошла Дженни. – Как поживаете?
Шагнув вперед, она протянула ему руку и покраснела. Этот визит так ее взволновал, что язык не поворачивался что-либо ответить.
– Я подумал, – сказал он, – что надо бы зайти и взглянуть, как вы живете. Дом у вас довольно уютный. Сколько тут комнат?
– Пять, – ответила Дженни. – Простите нас за их нынешний вид. Мы с утра занимаемся глажкой, в доме все вверх дном.
– Я вижу, – мягко сказал Брандер. – Вы ведь не думаете, Дженни, что я не пойму? Не нужно из-за меня так нервничать.
Она обратила внимание на тот мягкий, теплый тон голоса, которым он всегда говорил с ней у себя в номере, и это более или менее успокоило ее расстроенные чувства.
– Не переживайте, если я время от времени буду сюда заглядывать. Я именно это и собираюсь делать. Хотел бы познакомиться с вашим отцом.
– Увы, – сказала Дженни, – сегодня его нет дома.
Однако как раз в этот момент наш усердный пильщик показался у калитки с пилой и козлами на плече. Брандер увидел его и тут же узнал по определенному сходству с дочерью.
– По-моему, вот и он.
– В самом деле? – воскликнула Дженни, выглядывая наружу.
Герхардт, который в последние дни выглядел задумчивым, прошел под окном, не поднимая взгляда. Он поставил на землю деревянные козлы, повесил пилу на вбитый в стену дома гвоздь и зашел внутрь.
– Жена! – позвал он по-немецки и, не обнаружив ее, прошел к двери в гостиную и заглянул туда.
Брандер вскочил на ноги и протянул ему руку. Немец вошел внутрь и пожал ее своей узловатой, обветренной ладонью с весьма вопросительным выражением на лице.
– Это мой отец, мистер Брандер, – сказала Дженни, всю ее неуверенность смыло волной теплых чувств. – Папа, это мистер Брандер, тот джентльмен из отеля.
– Как-как? – переспросил немец, повернув голову.
– Брандер, – повторил сенатор.
– Ах да, – ответил тот с заметным немецким акцентом. – После лихорадки я не очень хорошо слышу. Жена мне про вас рассказывала.
– Да, – сказал сенатор, – и я решил, что надо бы зайти и лично с вами познакомиться. Семья у вас немаленькая.
– Верно, – ответил отец, который, зная, как дурно одет, больше всего хотел сейчас удалиться. – Шесть детей, и все еще очень юные. Вот это – старшая дочь.
Тут вернулась миссис Герхардт, и отец семейства, увидев шанс улизнуть, сказал:
– Я тогда пойду, если не возражаете. У меня пила сломалась, пришлось работу прервать.
– Разумеется, – непринужденно сказал Брандер, осознавший наконец, отчего Дженни не желала вдаваться в подробности. Он предпочел бы, чтобы у той не хватило храбрости ничего не скрывать. – Итак, миссис Герхардт, – обратился он к неподвижно сидевшей матери, – я хочу сказать, что вам не следует глядеть на меня как на чужого. Соответственно, я хотел бы, чтобы вы информировали меня о состоянии ваших дел. Дженни от этого иной раз уклоняется.
Дженни скромно улыбнулась. Миссис Герхардт лишь всплеснула руками.
Они побеседовали еще несколько минут, после чего сенатор сказал:
– Пусть ваш муж в понедельник зайдет ко мне в отель. Я хотел бы кое-что для него сделать.
– Спасибо, – пробормотала она.
– Не буду более вас задерживать, – добавил он, – но не забудьте передать ему, чтобы приходил.
– Он обязательно придет.
Сенатор поднялся на ноги и, поправляя перчатку на одной руке, другую протянул Дженни.
– Вот ваше величайшее сокровище, миссис Герхардт, – сказал он. – И я намерен его у вас забрать.
– Не уверена, – ответила мать, – готова ли я с ней расстаться.
– Что ж, – сказал сенатор, шагая к двери и протягивая руку миссис Герхардт, – всего вам доброго.
Кивнув, он вышел наружу, где с полдюжины соседей, заметивших его приход, наблюдали за этим поразительным зрелищем из-за штор и полуприкрытых ставней.
– Кто бы это мог быть? – вопрошал при этом каждый из них.
– Посмотри, что он мне дал, – сказала дочери ничего не понимающая мать, как только сенатор закрыл за собой дверь.
Это была десятидолларовая купюра. Сенатор вложил ее в руку миссис Герхардт при прощании.
Глава V
Оказавшись волею обстоятельств столь многим обязанной сенатору, Дженни естественным образом стала очень благожелательно судить о любых его поступках, как прошлых, так и нынешних. Новые благодеяния тому лишь способствовали. Сенатор дал ее отцу письмо к местному фабриканту, который позаботился, чтобы тот получил работу. Сказать по правде, в ней не было ничего выдающегося, всего лишь пост ночного сторожа, но последствия тому были самые существенные. К ним в числе прочего относилась чрезвычайная благодарность Герхардта, который теперь ожидал от сенатора лишь дальнейших благодеяний.
Другим фактором полезного влияния оказались подарки, переданные через дочь матери. В одном случае это было платье, в другом – платок. Подарки делались из чувств, в которых смешались благотворительность и довольство собой, но для миссис Герхардт все затмевал один-единственный мотив. Сенатор Брандер оказался так добросердечен!
Что же до Дженни, сенатор стремился еще больше с ней сблизиться всеми возможными способами, так что в конечном итоге она стала видеть его в совершенно ином свете, а обрести прежнюю ясность смогла бы лишь путем вдумчивого анализа. Однако ее свежая юная душа была невинна и легка, и ей ни на мгновение не приходило в голову, что могут подумать люди. С того самого замечательного дня, когда он лишил Дженни прежней стыдливости и запечатлел на ее щеке нежный поцелуй, они жили в иной атмосфере. Теперь Дженни с сенатором сделались приятелями, и по мере того, как он вел себя с ней все менее скованно, иной раз шутливо отбрасывая даже видимость солидности, образ его становился для нее все более четким. Теперь они могли совершенно естественным образом смеяться и болтать между собой, и сенатор находил утешение в том мире молодости, куда ему удалось открыть дверь.
Беспокоила его лишь одна время от времени приходящая в голову мысль, от которой он никак не мог избавиться – мысль, что он поступает не лучшим образом. Рано или поздно сделается известно, что он не ограничивает себя чисто формальными отношениями с дочерью своей прачки. Брандер подозревал, что экономка не может не замечать, как Дженни почти каждый раз задерживается у него на четверть, а то и три четверти часа, когда приходит за бельем или его возвращает. Он знал, что слухи могли уже дойти и до служащих отеля, а значит, разойдутся теперь, как водится, по всему городу, нанеся ему серьезный ущерб, однако даже эти тревоги не могли заставить его изменить свое поведение. Иной раз он утешался тем, что никакого фактического вреда ей не причиняет, в других случаях убеждал себя, что никак не может изгнать из собственной жизни столь приятные чувства. Да и разве не желает он от всей души сделать ей как можно больше добра?
Задумываясь временами обо всем этом, сенатор решил наконец, что ничего прекращать не намерен. Конечно, он заслужил бы подобным поступком определенное внутреннее самоуважение, но разве оно того стоит? Долго ли ему еще осталось жить на свете? И какой смысл умирать несчастным?
В один из вечеров он обвил Дженни рукой и прижал к груди. В другой раз усадил себе на колени, чтобы поведать о своей жизни в Вашингтоне. Теперь он не упускал случая погладить ее или поцеловать, но все еще без особой уверенности. Проникать ей в душу слишком уж глубоко он не хотел.
Дженни все воспринимала с невинным удовольствием. В ее жизни появились элементы новизны и романтики. Она была совсем простушкой, очень эмоциональной и без какого-либо опыта страстей – и все же достаточно интеллектуально развитой, чтобы оценить внимание столь значительного мужчины, который снизошел со своих высот, желая с ней подружиться.
В один из вечеров она, стоя рядом с его креслом, поправляла локон на лбу и, не найдя чем еще заняться, вытащила у него часы из жилетного кармана. Сенатор при виде такой милой невинности расчувствовался и спросил:
– А вам самой не хотелось бы иметь часы?
– Ну конечно же, – ответила ему Дженни, глубоко вздохнув.
На следующий день, проходя мимо ювелирного магазина, он зашел туда, чтобы купить часы. Золотые, с красивыми резными стрелками.
– Подойдите ко мне, – сказал сенатор при ее следующем визите. – Я хотел бы вам кое-что показать. Взгляните, сколько сейчас на моих часах.
Дженни вновь вытащила часы у него из кармана и подпрыгнула от неожиданности.
– Но это же не ваши часы! – воскликнула она с выражением самого наивного изумления на лице.
– Все верно, – сказал он, довольный, что придумал спрятать часы в карман, – они ваши.
– Мои? – снова воскликнула Дженни. – Мои! И какие красивые!
– Нравятся? – спросил он.
Свойственная ей непосредственность восторга была лучшей из знакомых ему наград. Лицо Дженни сияло, в глазах сверкали веселые искорки.
– Они ваши, – повторил сенатор. – Теперь возьмите их и постарайтесь не терять.
Дженни взяла часы, стала пристегивать цепочку, но, увидев, как он смотрит на нее ласковым взглядом, остановилась.
– Какой вы добрый!
– Ничего такого, – сказал он, однако взял ее за талию в ожидании того, каким окажется вознаграждение. Он постепенно привлекал ее все ближе, пока наконец, оказавшись почти вплотную, она не обвила руками его шею и не потерлась щекой о щеку в знак признательности. Для сенатора это оказалось высшим наслаждением. О подобном он мечтал долгие годы.
Прогресс в их отношениях, впрочем, изменил курс, когда в законодательном собрании штата развернулось настоящее сражение за сенатское кресло. На Брандера обрушились сразу несколько соперников, ему еще никогда не приходилось столь туго. К своему изумлению, он обнаружил, что крупная железнодорожная корпорация, которую он всегда числил в союзниках, втайне оказывала поддержку и без того весьма сильному кандидату. Пораженный предательством, он сперва провалился в пучину отчаяния, которое затем сменилось приступом гнева. Подобные удары судьбы, как бы он ни старался это скрыть, всякий раз больно ранили. Да и не случалось такого уже давно.
В то время Дженни получила свой первый урок мужской непредсказуемости. Целых две недели она даже не могла к нему попасть, а как-то вечером, после чрезвычайно малоприятной беседы с лидером партии, он принял ее чрезвычайно холодно. Когда она постучала в дверь номера, он озаботился лишь чуть-чуть ее приоткрыть и воскликнул едва ли не с грубостью:
– Сегодня мне не до белья! Зайдите завтра.
Дженни развернулась, озадаченная и потрясенная подобным приемом. Она не знала, что и думать. В единый миг он вернулся на свой недостижимый сияющий трон, и властелина не следовало беспокоить. Ему было угодно поставить ее на место, на что он имел полное право. Но почему?..
Через день-другой он об этом несколько пожалел, хотя времени налаживать отношения не было. Его стирку забирали и доставляли со всей возможной формальностью, он же, погруженный в свои заботы, не обращал внимания, пока наконец не потерпел унизительное поражение с разницей всего в два голоса. Потрясенный результатом голосования, он впал в мрачное состояние духа и изводил себя размышлениями о том, как же теперь исправить положение.
В этой-то мрачной атмосфере лучом света появилась Дженни вместе с обуревающими ее надеждами. Брандер, уже доведенный до отчаяния грызущими его мыслями, решил поболтать с ней, чтобы чуть отвлечься, но его вскоре целиком захватило принесенное ей облегчение. При одном ее виде все его горести куда-то исчезли, и он поймал себя на мысли, что нет ничего лучше юности. Разве счастье, которое он испытывает в ее присутствии, не есть самое замечательное, что только существует на свете?
– Ах, Дженни, – произнес он, обращаясь к ней, словно к ребенку, – юность на вашей стороне. Вы обладаете самым ценным, что только есть в жизни.
– Правда?
– Да, только вы этого не понимаете. А когда поймете наконец, будет уже поздно.
Найдя в ее лице столь чудесное исцеление, он несколько укрепился в своих к ней чувствах, в эти тяжкие для себя времена считая дни до ее очередного визита. А если его отправят теперь послом за границу, что тогда?
«Я люблю эту девушку, – думал он, – и хотел бы, чтобы она поехала со мной».
Судьба, однако, уготовила для него очередной удар. По отелю поползли слухи, что Дженни, выражаясь очень мягко, ведет себя не совсем естественным образом. Девушка, чья работа – носить белье из стирки, легко может стать предметом критики, если начнет одеваться и вести себя неподобающе своему положению. Золотые часы не остались незамеченными. Экономка сочла необходимым проинформировать ее мать о состоянии дел.
– Я решила, что лучше поговорить с вами, – сказала она. – Люди уже болтают. Лучше бы вам не посылать дочь к нему в номер за стиркой.
Миссис Герхардт была поражена и расстроена настолько, что не нашла слов ответить. Дженни ей ничего такого не говорила, но она и сейчас не могла поверить, будто ей было что рассказывать. Часами она сама восхитилась и их одобрила. Ей и в голову не пришло, что здесь кроется какая-то угроза репутации дочери.
По дороге домой миссис Герхардт не переставала переживать и сразу же заговорила об этом с Дженни. Последняя не согласилась с умозаключением, что дела зашли слишком далеко. На самом деле она даже не рассматривала происходящее в подобном свете. Сказать по правде, она и сама не осознавала, что в действительности происходило во время ее визитов к сенатору.
– Это просто ужас, какие пошли разговоры, – сказала ей мать. – Ты правда подолгу задерживалась в номере?
– Не знаю, – сказала Дженни, поскольку совесть и значение, которое люди склонны придавать подобным вещам, не позволили ей все отрицать. – Может, и подолгу.
– Но он ведь не позволял себе в беседе ничего лишнего?
– Нет, – ответила ее дочь, которая не подозревала в происходящем между ней и сенатором ничего дурного.
Будь мать чуть понастойчивей, она могла бы выяснить больше подробностей, но ради собственного спокойствия была лишь рада все замять. Хорошего человека оклеветали, вот в чем тут дело. Дженни, может быть, повела себя чуть нескромно. Людям же только дай повод для разговоров. А чего они еще ожидали от бедной девушки, оказавшейся в столь стесненных обстоятельствах? Ей самой при одной только мысли об этом плакать хотелось.
В результате она решила, что все вопросы стирки отныне берет на себя.
В следующий понедельник она постучалась в дверь номера сенатора. Брандер, ожидавший визита Дженни, был удивлен и разочарован.
– А с Дженни что случилось? – спросил он.
Миссис Герхардт, которая рассчитывала, что сенатор не обратит внимания или по крайней мере не станет расспрашивать, не сразу нашлась с ответом. Неуверенно подняв на него наивный материнский взгляд, она сказала:
– А Дженни сегодня не смогла прийти.
– Она не приболела? – уточнил он.
– Нет.
– Это хорошо, – сказал он без особого чувства. – А сами вы как поживаете?
Миссис Герхардт в ответ на этот вежливый вопрос изложила ему все обстоятельства жизни семейства и отбыла. После ее ухода он призадумался над тем, что послужило причиной перемены в распорядке. Что-то произошло, он это чувствовал, но задавать вопросы было неуместно. Странным было уже то, что его это озаботило.
Однако в субботу, когда миссис Герхардт сама вернула одежду из стирки, Брандер почувствовал неладное.
– Что происходит, миссис Герхардт? – спросил он. – С вашей дочерью что-то стряслось?
– Нет, сэр, – ответила она, слишком обеспокоенная для того, чтобы попытаться солгать.
– Она что же, больше не будет приходить за бельем?
– Я… я… – попробовала выговорить мать, запинаясь от замешательства, – она… О ней разговаривать начали, – в конце концов вымолвила она.
Сенатор очень серьезно посмотрел на нее и уточнил:
– Кто же это?
– Люди, здесь, в отеле…
– Какие именно люди? – перебил он ее тоном, в котором проявилась присущая сенатору желчность.
– Экономка.
– Ах, экономка! – воскликнул он. – И что же она утверждает?