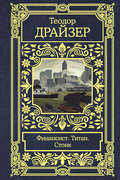Теодор Драйзер
Дженни Герхардт
Мать пересказала ему тот разговор.
– Вот прямо так и заявила? – Сенатор совсем разгневался. – У нее хватает наглости совать нос в мои дела? Неужели люди не могут заниматься собственными, а в мои не лезть? Ваша дочь, миссис Герхардт, находится в моем присутствии в совершенной безопасности. Я не намерен причинять ей никакого вреда. Это какой-то позор, – продолжил он уже с некоторой театральностью, – если девушка не может войти ко мне в номер и не навлечь при этом на себя подозрений. Я лично займусь этим вопросом.
– Вы ведь не думаете, будто это я все заварила? – пустилась в извинения мать. – Я знаю, что Дженни вам нравится и что вы не хотите ей зла. Вы, мистер Брандер, столько всего для нее и для нас сделали, и мне так стыдно, что я ее к вам не пускала.
– Все в порядке, миссис Герхардт, – произнес он негромко. – Вы поступили совершенно правильно, я нисколько вас не виню. Но я самым решительным образом возражаю против расползшейся по отелю клеветы. Мы с этим разберемся.
Миссис Герхардт побледнела от переполнявших ее чувств. Она опасалась, что глубоко оскорбила благодетеля собственной семьи. Сказать бы сейчас хоть что-нибудь, думала она, чтобы все разъяснить и чтобы он не держал ее за сплетницу. Перспектива скандала приводила ее в ужас.
– Я думала, что делаю как лучше, – выдавила она из себя наконец.
– Так и есть, – отозвался он. – Дженни очень мне нравится. Я всякий раз радуюсь ее приходу. Мое отношение к ней не изменилось, но, возможно, и правда лучше, если она не будет ко мне приходить, по крайней мере в ближайшее время.
Произнеся еще несколько заверений в подобном духе, он открыл дверь и выпроводил посетительницу, хотя для его серьезных умственных усилий в этом направлении сегодняшнее было лишь началом.
Вечером сенатор, усевшись в кресле, вновь принялся размышлять о новом обороте событий. Оказывается, Дженни куда более важна для него, чем он сам полагал. Теперь, когда он уже не мог надеяться, что она снова сюда придет, Брандер начал понимать, сколь драгоценными были те краткие визиты. Он очень тщательно все обдумал, быстро понял, что с ползущими по отелю слухами уже ничего не поделать, и пришел к выводу, что и впрямь поставил девушку в крайне неблагоприятное положение.
«Может, стоит тогда прервать нашу связь, – думал он. – Продолжать ее и дальше было бы не слишком разумно».
Придя к этому выводу, он отправился в Вашингтон, чтобы сдать дела в качестве сенатора. Затем снова вернулся в Коламбус – ожидать там дружеского письма от президента, который должен был предложить ему пост за рубежом. О Дженни он отнюдь не позабыл. Чем дольше они были порознь, тем больше ему хотелось вернуть прежний порядок вещей. Немного обжившись в своем номере, он как-то утром взял трость и отправился на прогулку в направлении домика Герхардтов. По дороге он принял решение зайти и постучал в дверь. Дженни и ее мать встретили его неуверенными и несколько ошарашенными улыбками. Он туманно объяснил, что был вынужден уехать, а в качестве предлога для визита упомянул стирку. Затем, улучив минутку с Дженни наедине, спросил ее:
– Не хотите ли завтра вечером отправиться со мной покататься?
– С удовольствием, – ответила Дженни, для которой подобное было явно в новинку.
Он улыбнулся и потрепал ее по щеке, поскольку был рад встрече. Казалось, Дженни день ото дня становилась все прекрасней. Сегодня утром, в подчеркивающем фигуру чистом белом фартучке и с заплетенными в простую косу волосами, что дополнительно округлило лицо, она не могла не радовать взгляда.
Из вежливости дождавшись возвращения миссис Герхардт, Брандер, уже достигший цели своего визита, поднялся на ноги.
– Завтра вечером я беру вашу дочь с собой на прогулку, – объявил он. – Мне хотелось бы обсудить с ней ее будущее.
– Как это мило с вашей стороны, – восхитилась мать. Ничего неподобающего она в этом предложении не почувствовала. Расстались они со взаимными улыбками и на прощанье долго жали руки.
– Какое у него доброе сердце! – сказала затем миссис Герхардт. – И как он всегда хорошо о тебе отзывается. Может статься, он поможет тебе получить образование. Ты должна гордиться.
– Я и горжусь, – чистосердечно подтвердила Дженни.
– Не знаю вот только, говорить ли твоему отцу, – такими словами завершила разговор миссис Герхардт. – Ему не понравится, если ты будешь гулять вечерами.
Тем самым глубоко религиозный Герхардт так и не узнал о прогулке.
Когда бывший сенатор за ней заехал, Дженни уже его ждала. Она открыла дверь, и беспомощная красота у нее во взгляде тронула сенатора столь же глубоко, как и раньше. При тусклом свете простой лампы в гостиной он не мог не видеть, что для прогулки с ним она принарядилась, причем в самое лучшее, что у нее есть. Ее фигурку облегало бледно-фиалковое платье, выглаженное и накрахмаленное, словно для рекламы прачечной, и оставлявшее как нельзя более уместное ощущение чрезвычайной чистоты. Платье дополняли небольшие кружевные манжеты и довольно-таки высокий воротник. На ней не было ни перчаток, ни украшений, ни даже мало-мальски годного для прогулок жакета, зато волосы она уложила так тщательно, что они подчеркивали совершенную форму ее головы лучше любой шляпки, а отдельные непослушные завитки словно бы короновали ее нимбом. Когда Брандер посоветовал ей все же надеть жакет, она, поколебавшись мгновение, ушла в дом и вернулась с одолженной у матери накидкой – из обычной серой шерсти. Он понял, что жакета у нее попросту нет, и с болью осознал, что она готова была ехать с ним и без верхней одежды.
«Она бы терпела вечерний холод, – подумал он, – и даже ничего не сказала бы».
Посмотрев на нее, он в задумчивости покачал головой.
Она тоже подняла на него взгляд, и щеки ее жарко зарделись. Но очень скоро он заставил ее почувствовать, что рад ее компании и что, похоже, не обращает никакого внимания на недостатки в ее одежде.
По дороге он расспрашивал ее о семье и поинтересовался, как дела у отца.
– Все правда хорошо, – отвечала она, – на работе его ценят.
На какое-то время Брандер умолк, ему было достаточно уже того, что девушка рядом. Чувства его от вынужденной разлуки вспыхнули с новой силой. Видеть ее было еще слаще, чем в прошлую встречу. Все ее поступки казались крайне милыми.
В течение часа сенатор испытывал такое удовольствие, какого не случалось с ним уже много лет. Дженни не умолкала, и в каждом ее слове звучали естественные чувства и интерес ко всему происходящему.
– Знаете, Дженни, – сказал он, когда она привлекла его внимание к тому, сколь бархатными кажутся деревья там, где их очертаний касается желтоватый свет восходящей луны, – вы просто замечательны. Будь у вас чуть больше соответствующего образования, вы наверняка писали бы стихи.
– Думаете, я смогла бы? – спросила она наивно.
– Думаю ли я, девочка? – сказал он, беря ее за руку. – Думаю ли я? Я уверен. Вы самая милая мечтательница на свете. Конечно же, вы могли бы писать стихи. Вы ими живете. Да вы, моя дорогая, и есть сама поэзия. Вам и писать-то ничего не нужно.
Ничто не могло бы тронуть ее так, как эта его похвала. Он всегда так хорошо о ней отзывался. Никто другой не обожал ее и не ценил и вполовину так, как он. А сам он какой замечательный! Все так говорят. Даже отец.
Они проехали еще немного, как вдруг Брандер что-то вспомнил и произнес:
– А который теперь час? Быть может, нам пора возвращаться. Часы при вас?
Дженни вздрогнула, поскольку часы были той единственной темой, которой, как она надеялась, он не станет касаться. Тема эта не выходила у нее из головы с самого его возвращения.
В отсутствие сенатора семейные финансы пришли в такой упадок, что она была вынуждена их заложить. Платье Марты дошло до такого состояния, что она не могла ходить в школу, если бы кто-то не позаботился о новой одежде. Миссис Герхардт не раз заговаривала об этом в свойственной ей беспомощной и безнадежной манере, и у самой Дженни тоже сжималось сердце, когда Марта выходила поутру в обносках, в которых стыдно на улице показаться.
– Не знаю, что и делать, – сказала мать.
– Заложи мои часы, – предложила Дженни. – Пускай Бас сходит.
Миссис Герхардт принялась возражать, но с нуждой не поспоришь. Следующую пару дней она постепенно свыкалась с этой мыслью, и наконец Дженни заставила ее вручить часы Басу.
– Постарайся выручить как можно больше, – добавила она при этом. – Сомневаюсь, что мы сможем выкупить их обратно.
Миссис Герхардт втайне всплакнула.
Бас принял часы и, как следует поторговавшись с владельцем местного ломбарда, принес домой десять долларов. Взяв деньги, миссис Герхардт все потратила на детей и наконец облегченно вздохнула. Марта теперь выглядела куда лучше прежнего. Само собой, Дженни тоже обрадовалась.
Теперь же, когда сенатор заговорил о своем подарке, она поняла, что наступил час расплаты. Ее буквально начал бить озноб, и сенатор заметил, что она дрожит.
– Дженни, – спросил он ласково, – отчего вы вздрогнули?
– Просто так.
– Часы не при вас?
Она замялась, поскольку лгать напрямую казалось невозможным. Повисло гнетущее молчание, так что Брандер начал уже подозревать правду; затем голосом, в котором невозможно было не расслышать всхлипа, она ответила:
– Нет, сэр.
Он серьезно задумался, заподозрил, что дело в проявленной ей к собственному семейству щедрости, и в итоге заставил во всем сознаться.
– Дорогая моя, – сказал он, – не нужно так из-за этого переживать. Другой такой девушки не найти на свете. Я верну вам часы. С этого дня, если вы в чем-то нуждаетесь, просто обратитесь ко мне. Слышите? Я хочу, чтобы вы мне пообещали. Если я в отъезде, напишите мне. Я больше не буду исчезать бесследно, вы всегда будете знать мой адрес. Просто сообщите, и я приду на помощь. Вы меня поняли?
– Да, – ответила Дженни.
– Вы обещаете мне так и поступать?
– Да.
Какое-то время они молчали.
– Дженни, – наконец прервал тишину Брандер, поскольку весенний вечер вызвал в нем бурю эмоций, – я, кажется, убедился, что не могу без вас. Как по-вашему, могли бы вы сделаться мне спутницей жизни?
Дженни отвела взгляд, не вполне понимая, что конкретно он имеет в виду. А для него эти слова значили очень многое. Сенатор дошел до того состояния, когда некое заключенное в Дженни чудо делало невозможность к ней прикоснуться все более невыносимой. Она была почти что наядой, мифической Грацией, и он жаждал сжать ее в объятиях. Сейчас к нему словно вернулась молодость – ради того, чтобы он оказался достойным этой девушки!
– Не знаю, – произнесла она спустя какое-то время, смутно чувствуя, что речь все же о чем-то приличном и достойном.
– Но вы подумайте над этим, – сказал он ободряюще. – Я вполне серьезен. Согласны вы выйти за меня замуж, чтобы я мог отправить вас на несколько лет учиться?
– Вы хотите отправить меня в школу?
– Да – после того, как вы за меня выйдете.
– Наверно, – робко ответила она, подумав о матери. Может быть, так у нее получится помогать семье…
Брандер обернулся к ней и попытался разглядеть ее лицо, полускрытое тенью. Темно не было. На востоке поднялась над лесом луна, и огромное множество звезд с ее приходом уже начало блекнуть.
– Вы меня хоть любите, Дженни? – спросил он.
– Конечно!
– А за стиркой ко мне почему-то больше не приходите, – произнес он жалобно. И это тронуло ее до глубины души.
– Это не я так решила, – сказала она ему. – У нас выбора не было. Мама подумала, что так лучше всего.
– Так и правда лучше, – ответил он, чувствуя, что ей из-за этого тоже грустно. – Я просто пошутил. Но если бы вы могли, вы были бы рады прийти, правда?
– Да, – чистосердечно ответила она.
Он снова взял ее за руку и сжал ладонь с таким чувством, что его ласковые слова будто возымели двойной эффект. Она порывисто потянулась к нему и обвила руками.
– Вы так ко мне добры! – воскликнула она, словно любящая дочь.
– Что вы, что вы! – отозвался Брандер, в нем сейчас говорила самая слабая и самая симпатичная часть его натуры. – Не в доброте дело. Вы – моя девушка, Дженни. Я для вас на что угодно готов.
Глава VI
Глава злосчастного семейства, Уильям Герхардт, как личность представлял собой немалый интерес. Рожденный в герцогстве Саксонском, он проявил достаточную силу характера, чтобы уклониться от армейского призыва, который почитал греховным делом, и на восемнадцатом году жизни бежал в Париж. А уже оттуда отправился в Америку, к земле обетованной.
Оказавшись там, он постепенно переместился из Нью-Йорка в Филадельфию и далее к западу, где устраивался то на одно, то на другое стекольное производство Пенсильвании, пока не встретил в некой романтической деревушке Нового Света идеал своего сердца. С ней, простой американской девушкой, родившейся в семье немцев, он переехал в Янгстаун и оттуда в Коламбус, каждый раз следуя за стекольным фабрикантом по имени Хэммонд, чей бизнес переживал то взлеты, то падения.
Наша повесть о подобном паломничестве не случайна, ведь Герхардт сделался за это время чрезвычайно религиозен. Чувством этим он был обязан задумчивой, мечтательной струнке своей натуры, эхом отдававшейся в человеке, неспособном на широкую мысленную перспективу, однако успевшем до сей поры заполнить свою жизнь таким множеством поступков и странствий. Герхардт не рассуждал, но чувствовал. И всегда был таким. Хлопок по плечу, сопровождающийся бодрыми заверениями в уважении или дружбе, значил для него куда больше, чем холодно сделанное предложение, пусть и направленное на его личное благо. Он любил своих товарищей и легко шел у них на поводу, однако лишь до отмеренного честностью предела.
– Уильям, ты мне нужен, потому что я тебе доверяю, – не раз повторял ему работодатель, и это было для Герхардта лучше серебра и золота.
Иной раз подобная похвала могла приободрить его настолько, что он делился ею с другими, но, как правило, это было просто глубинное ощущение счастья, которое он испытывал, убедившись в собственной честности.
Честность эта, как и его религиозность, была чисто наследственной. Он никогда над ней не задумывался. Его отец и дед, немало повидавшие в жизни немцы-ремесленники, никогда никого не обманывали ради грошовой выгоды, и эта честность их намерений теперь текла полной струей и в его венах.
Приверженность лютеранству была выкована годами посещения церкви и домашних обрядов. В доме отца Уильяма лютеранский священник обладал непререкаемым авторитетом, и оттуда он унаследовал чувство, что лютеранство есть безупречная институция и в вопросах будущей жизни лишь ее учение представляет важность. Забросив веру в ранней юности, он вернулся к ней опять, когда речь зашла о выборе жены, и оказался достаточно настойчив, чтобы возлюбленная по его требованию тоже сменила конфессию. Более естественным выбором для нее стала бы та или иная ветвь анабаптистов, будь теология в ее глазах важнее любви. Однако теперь она радостно присоединилась к лютеранам, прошла подробную катехизацию у проповедника в Бивер-Фолз и с тех пор самым честным образом уверовала – ведь доносящиеся с кафедры громогласные заявления трудно было объяснить чем-то иным, нежели их абсолютной истинностью. С чего бы этим людям так бушевать и реветь, если они не провозглашают страшную правду? Иначе зачем носить черное и вечно бороться за столь возвышенную цель? Вместе с мужем она регулярно посещала маленькую местную церковь, а несколько успевших сменить друг друга за эти годы священников были в их доме частыми гостями и, в известном смысле, инспектировали состояние дел в домохозяйстве.
Последний из них, пастор Вюндт, лично следил за тем, чтобы они вели себя добропорядочно. Он был искренним и пылким служителем церкви, однако его ханжество и доминирующая ортодоксальность ушли далеко за пределы разумной религиозности. Он полагал, что члены его паствы подвергают риску свою перспективу вечного спасения, если танцуют, играют в карты или ходят в театр, и он без колебаний объявлял во всеуслышание, что врата ада открыты для тех, кто пренебрегает его требованиями. Выпивка, пусть даже весьма умеренная, являлась грехом. Табак – ну, он и сам курил. Однако супружеская верность и соблюдение невинности молодежью до брака служили квинтэссенцией христианских обязанностей. Не следует даже заикаться о спасении дщери, не сумевшей сохранить свое целомудрие незапятнанным, и ее родителям, кто по небрежению допустил ее до падения. Всех им подобных ждет ад. Согласно теологии Вюндта, дабы избежать вечных мучений, нужно было двигаться прямой дорогой, не отступая с нее ни на шаг, и редкое воскресенье обходилось без упоминания греховной вольности, столь заметной среди молодого поколения американцев.
– Что за бесстыдство! – восклицал пастор. – Что за безразличное отношение к надлежащим их возрасту скромности и невинности! Взгляните на этих юнцов, что болтаются на каждом углу, когда им следовало быть дома: помогать родителям или учиться, развивая свой разум.
Что до девушек, какие только прискорбные сцены не привлекали в последнее время его внимания. Повсюду распущенность! А те отцы и матери, чьи дочери, выходя на улицу после семи вечера, прогуливаются в тени деревьев и болтают с молодыми людьми, перегнувшись через забор или калитку, еще горько об этом пожалеют. Ничего доброго из того не произойдет. Сыновья вырастут бездельниками и лоботрясами, дочери – такими, что и вслух сказать стыдно. Нужно уделять своим чадам больше внимания.
Герхардт с супругой и Дженни слышали эти проповеди, как, впрочем, и остальные дети, не считая Себастьяна, хотя малыши, конечно, мало что понимали. Себастьяна в церковь было не загнать. В этом вопросе он был тверд и упрям; отец пытался его пороть – без особого успеха – и даже несколько раз угрожал выгнать за порог, но со временем, из сочувствия к матери парня, стал ограничиваться лишь бурным возмущением воскресными утрами. Дженни была убеждена, что Бас поступает ужасно. Она знала, что он честен и много работает, но считала, что церковью ему пренебрегать не следует, а главное – не стоит обижать и расстраивать родителей. Сама она в религии пока что не была особо твердой. По существу, она относилась к ее догмам довольно легковесно. Было приятно знать о существовании рая и страшно помнить про ад. Девочки и мальчики должны хорошо себя вести и уважать родителей, которым приходится столько трудиться. Если не считать вышесказанного, проблемы религии смешались в ее голове в одну большую кучу, и она мало что в них понимала.
Герхардт был твердо убежден, что все, сказанное с церковной кафедры, – буквальная истина. Теперь он верил, что в молодости был слишком безалаберен, когда отошел от церкви, и что для человека нет ничего более важного, чем его загробная жизнь. Смерть наполняла его благоговейным ужасом. С юных лет он привык жить в страхе перед этим ледяным таинством, а теперь, когда отпущенный ему срок делался все короче, а мир вокруг – все сложней и необъяснимей, он с жалким рвением цеплялся за доктрины, обещающие выход. Если б я только смог оставаться честным и благочестивым, думал Герхардт, у Господа не будет повода меня отвергнуть. Он переживал не только за себя, но также за жену и детей. Не выйдет ли так, что ему однажды придется держать за них ответ? Не приведет ли его мягкотелость и отсутствие должной системы, по которой им следует заучивать законы вечной жизни, к тому, что и его семья, и он сам окажутся прокляты? Он рисовал себе картины адских мук и часто думал о том, как встретит последний час.
Естественно, столь глубокая религиозность сделала его строгим по отношению к собственным детям. Ему было свойственно требовать от них соблюдения религиозных обязанностей, а на радости и ошибки присущих юности страстей взирать искоса. Возлюбленного для Дженни, судя по всему, вообще не предполагалось. Самый легкий флирт, который мог у нее приключиться с молодыми людьми на улицах Коламбуса, был обязан закончиться у дверей дома. Отец позабыл, что сам когда-то был молодым, и вся его забота была лишь о ее душе. Сенатор тем самым оказался в ее жизни восхитительно новым событием и не встретил никаких конкурентов.
Когда он начал впервые проявлять интерес к делам семьи, Герхардт-старший ни в малейшей степени не применил к нему своих привычных религиозных стандартов, поскольку какое он имел право судить подобного человека? Это не какой-нибудь паренек с соседней улицы, заигрывающий с его хорошенькой дочкой. Он вошел в семью столь радикально необычным и при этом столь тонким способом, что его приняли, не успев, фигурально выражаясь, ни о чем подумать. Сам Герхардт попался на крючок и, не ожидая для своей семьи от подобного источника ничего помимо чести и дохода, принял интерес сенатора и его услуги, мирно позволив всему идти своим чередом. Жена ничего не рассказывала ему о многочисленных благодеяниях, поступавших из того же источника как до, так и после чудесного Рождества.
Результат всего этого оказался весьма серьезным сразу в нескольких аспектах. Среди соседей довольно скоро пошли разговоры, ведь присутствию такого человека, как Брандер, в жизни такой девушки, как Дженни, по самой своей природе трудно остаться незамеченным. Старый и весьма наблюдательный приятель Герхардта не замедлил проинформировать достойного отца семейства о том, куда все движется. Мистер Отто Уивер окликнул мистера Герхардта из своего небольшого дворика, когда последний отправлялся вечером на работу.
– Герхардт, я хотел бы с тобой поговорить. Я твой друг и хочу, чтобы ты знал то, что знаю я. Видишь ли, соседи только и говорят о мужчине, который наносит визиты твоей дочери.
– Моей дочери? – переспросил Герхардт; это конфиденциальное сообщение озадачило и ранило куда больше, чем можно передать словами. – О ком это ты говоришь? Не слышал, чтобы кто-то заглядывал к моей дочери.
– В самом деле? – Уивер был поражен не меньше, чем получатель его известий. – Средних лет, седые волосы. Иногда ходит с тростью. Не знаешь такого?
Герхардт с недоумевающим видом копался в памяти.
– Говорят, он когда-то был сенатором, – добавил Уивер, уже заподозривший, что полез не в свое дело. – Не знаю, правда ли.
– А, сенатор Брандер! – воскликнул Герхардт с видимым облегчением, – Ну да. Он иногда к нам заходит. И что с того?
– Ничего, – ответил сосед, – просто люди об этом болтают. Он ведь, сам понимаешь, немолод уже. А твоя дочь с ним несколько раз на прогулку выходила. Все это видели, и теперь про нее пошли разговоры. Я подумал, тебе об этом тоже стоит знать.
Для Герхардта, как человека глубоко религиозного, самым главным было правильное поведение. К сожалению, у него не хватало мудрости отделять само поведение от общественного мнения. Когда подобное случилось, впервые за все годы супружеской жизни, его это чудовищно потрясло. Раз люди болтают, значит, тому есть причина. Дженни и ее мать серьезно провинились. И все же он без колебаний встал на защиту дочери.
– Это просто друг семьи, – смущенно сказал он. – Людям не следует судачить о том, чего они не знают. Моя дочь не сделала ничего дурного.
– Именно так. Ничего не случилось, – согласился Уивер. – Люди чешут языками безо всякой причины. Мы с тобой старые приятели. Вот я и подумал, что тебе тоже стоит знать.
Герхардт простоял там еще с минуту, раскрыв рот и ощущая странную беспомощность. Общество бывает так жестоко, что враждовать с ним себе дороже. Доброе мнение и благосклонность людей очень важны. Как он старался соблюдать все правила! Отчего же общество этим не удовлетворилось и не оставило его в покое?
– Спасибо, что сказал, – пробормотал наконец Герхардт, понимая, что пора идти. – Я со всем разберусь. Доброй ночи.
Для тех, кто незнаком с немецкими представлениями об общинности, описание данных событий может показаться весьма натянутым. Однако немцы, приехавшие с родины, повсюду сочетают теплые клановые чувства с желанием регулировать поведение своих сотоварищей. Особенно это справедливо в отношении более-менее успешных отцов семейств. Благотворительность в отношении соседей победнее у них сопровождается определенным количеством советов, и они не рады, если эти советы игнорируются. Так, отец Вюндт раз за разом посещал прихожан с единственной целью убедиться, что его указания по поддержанию приличий неукоснительно исполняются. Советы прочих были не столь настоятельны. Но в случае Герхардта, в котором отчасти отражалось поведение остальных, все зашло слишком далеко. Раз он соглашался с подобными вещами, неудивительно, что именно его они могли больно ранить. В этом смысле он сильно опасался, что его собственные дела или дела его семьи кого-то обидят или вызовут критику. Ему казалось, что он предпочел бы умереть, лишь бы его личные вопросы не стали предметом всеобщего осуждения.
Когда на следующее утро он вернулся домой, то первым делом принялся расспрашивать жену.
– Что это за история насчет того, что сенатор Брандер ходит к Дженни? – спросил он по-немецки. – Соседи только об этом и твердят.
– Да ничего такого, – ответила миссис Герхардт на том же языке. Вопрос явно ее поразил. – Ну, заходил он пару-тройку раз.
– Ты мне ничего об этом не говорила, – возразил он, раздраженный мягкотелостью, с которой она терпела и даже покрывала проступок их собственного ребенка.
– Но он бывал здесь всего-то два или три раза, – ответила она в полном замешательстве.
– Два или три раза! – воскликнул Герхардт, в котором сейчас пробудилась немецкая привычка громко разговаривать. – Два или три раза! Да об этом все соседи теперь болтают. Что это вообще такое?
Миссис Герхардт чуть помедлила с ответом, все больше пугаясь. Ей казалось, что вот-вот произойдет нечто ужасное.
– Всего два или три раза, – еле выговорила она.
– Прямо на улице подходит ко мне Уивер, – продолжал Герхардт, – и рассказывает, что соседи только и говорят о мужчине, с которым гуляет моя дочь. А я об этом вообще ничего не слышал. Стою как болван и не знаю, что сказать. Неужто так можно? Что он обо мне теперь подумает?
Пока он и дальше распинался в том же духе, миссис Герхардт пыталась разобраться с тревожными мыслями. За что ей выпала эта странная напасть? Что она вообще такого сделала? Внезапно в голове у нее ярким лучом просияла идея, что она ни в чем не виновата. Разве сенатор не был по отношению к ним сама доброта? Разве она не знала наверняка, что Дженни лишь пользуется открывшимися невинными возможностями и при этом ведет себя безупречно? С чего соседи затеяли сплетничать? И почему решили донести до нее свои инсинуации через мужа?
– Столько шума на пустом месте! – объявила она вдруг, воспользовавшись для того подходящим немецким оборотом. – Дженни ничего плохого не сделала. Сенатор был у нас всего раз или два. Нет ничего…
– А что же тогда это все? – перебил ее Герхардт, которому самому не терпелось узнать, что на самом деле произошло.
– Дженни вышла с ним прогуляться пару раз. Он сюда за ней заходил. Что в этом такого, чтобы слухи распускать? Девочке уже и порадовать себя нельзя?
– Но он же совсем старый, – возразил Герхардт, повторяя следом за Уивером. – И на высокой должности. Что ему нужно от такой девушки, как Дженни?
– Понятия не имею, – перешла в оборону миссис Герхардт. – Он иногда заходит к нам в гости. Я о нем не знаю ничего, кроме хорошего. Сказать ему, чтобы не приходил?
Герхардт не был готов ответить. Сенатора он знал исключительно с замечательной стороны. Что вообще страшного-то произошло?
– Соседям лишь бы языками трепать. Больше им говорить не о чем, вот они за Дженни и взялись. Ты и сам знаешь, что она порядочная девушка. Как они только могут подобное наговаривать? – И на добрые материнские глаза навернулись слезы.
– Они правы, – сказал Герхардт, которому страстная забота о семейной чести не позволила проявить к ней особого сочувствия. – Ему не следует являться сюда, чтобы брать с собой на прогулки девушку ее возраста. Это очень дурно выглядит, пусть он даже ни о чем таком не помышляет.
Тут в гостиную вошла Дженни.
Она услышала разговор из маленькой спальни окнами на улицу, которую делила с одной из сестер, но не подозревала, насколько он важный. Чтобы дочь не заметила ее слез, мать при ее появлении отвернулась и вновь согнулась над столом, где перед тем готовила печенье.
– В чем дело? – спросила Дженни, которой показалось странным, что оба стоят вот так, в неловких позах.
– Ни в чем, – твердо ответил Герхардт.
Миссис Герхардт не подала виду, но в самой ее неподвижности было что-то странное. Дженни подошла к ней и, заглянув в лицо, все же увидела слезы.
– В чем дело? – удивленно повторила она, вперив взгляд в отца.
Герхардт так и стоял молча – невинность дочери победила его ужас перед грехопадением.
– Да в чем же дело? – мягко спросила Дженни у матери.
– Это все соседи, – ответила та надтреснутым голосом. – Всегда готовы трепать языками о том, чего и не знают.
– Из-за меня? – Дженни слегка порозовела лицом.
– Вот видите, – заметил Герхардт, вроде как обращаясь к окружающему миру в целом, – все она понимает. И отчего ты мне не сказала, что он к нам ходит? Об этом вся округа твердит, а я лишь сегодня узнал. Неужто так можно?
– Ах, – воскликнула Дженни из чистейшего сочувствия к матери, – да какая разница?
– Какая разница? – заорал Герхардт, все еще по-немецки, хотя Дженни отвечала ему по-английски. – Какая разница, что меня на улице останавливают, лишь бы об этом рассказать? Тебе должно быть стыдно за свои слова! Я всегда был о нем наилучшего мнения, но теперь, раз вы мне ничего не говорите, а вокруг все сплетничают, я не знаю, что и думать. Мне что же, о происходящем в собственном доме от соседей теперь узнавать?
Мать и дочь молчали. Дженни было подумала, что они допустили большую ошибку. Мысли миссис Герхардт касались лишь того, что ее дочь стала жертвой клеветы.
– Я ничего тебе не говорила не оттого, что сделала что-то дурное, – сказала Дженни наконец. – Мы с ним один раз в коляске съездили, и все.
– Да, но ты мне об этом не рассказала, – возразил отец.
– Ты же не любишь, если я куда-то выхожу по темноте, – ответила Дженни. – Потому я и не стала говорить. Больше мне скрывать было нечего.
– Зря он позвал тебя на прогулку ночью, – заметил Герхардт, никогда не забывавший про окружающих. – Что ему такое от тебя нужно, чтобы в темноте об этом беседовать? Мог бы сюда зайти. И вообще, он слишком старый. Не думаю, что тебе, юной девушке, следует водить с ним знакомство.
– Он ничего от меня не требует, только желает помочь, – прошептала Дженни. – И еще он хочет на мне жениться.
– Жениться? Ага! Отчего же он ко мне не обратился? – воскликнул Герхардт. – Это мне решать. Я не потерплю, чтобы он разгуливал с моей дочерью, а соседи болтали. И потом, этот сенатор слишком стар. Я ему так и скажу. Да он и сам должен понимать, что нельзя делать девушку мишенью для сплетен. Лучше б он вообще здесь больше не появлялся.