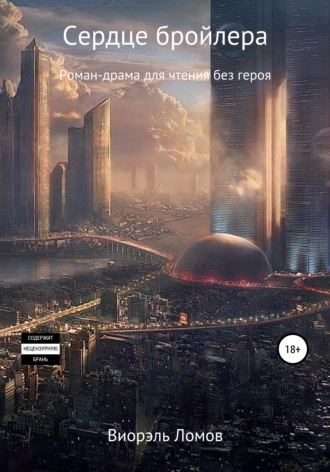
Виорэль Михайлович Ломов
Сердце бройлера
19. Чем заняты жены исполняющих обязанности мужей
Черные брови, красный рот, резко континентальные черты лица, высокая грудь, полные сильные руки – полная противоположность субтильным дамочкам, которые страшно смелые, так как боятся всего, – вот он где стратегический резерв нации: в проходах и за прилавками центрального рынка. Резерв (опять же в противоположность дамочкам) привык все делать своими руками, а мужик ему нужен исключительно тверезый и при запахе одеколона со всей головы. Мужик откликается на зов: «Ну, и где ты, паразит?!» – как услышит, тут же ползет, как мураш на теплую завалинку.
Почему паразит? Потому что паразит. У Машки вон муж и у Плашки муж. А так лучше бы и не было совсем! С них хоть картины маслом пиши. И вешай над входом в дом. «Выход отца семейства из-за праздничного стола». Взгляд – стоп-кадр. Руки, ноги, голова – будто не родные и из разных мест. Язык говяжий. Мычит и ревет. Волосы спутаны. Ширинка расстегнута, галстук в соусе. Галстук прилип к рубашке. Изо рта течет слюна. На щеке алый бантик чьих-то губ. Милые женщины! С Днем защитника Отечества! А через пару недель и с Женским вас днем!
Как только попадете в мясные ряды, будьте осторожны! Когда вы поравняетесь со смазливой продавщицей, она вам тут же попытается всучить свинину с костью по цене вырезки. Она схватит кусок в обе руки и будет вам виртуозно демонстрировать ее достоинства и скрывать недостатки. Она будет встряхивать ее, вертеть, сжимать, разжимать, приговаривать: «Нежнейшая! Свежатина! Мед!» Свинина будет волноваться в ее руках, трястись, как плечи и грудь цыганки. А пухлые плечи и полные руки, лукавые глаза и смачные губы самой продавщицы лишь добавят страсти в этот заразительный танец. Не верьте ей – надует: всучит кость, обвесит и обсчитает, да еще пригласит почаще заходить к ней.
Советую вам пройти мимо и идти сразу в птичьи ряды.
На рынке в птичьем ряду птицу уважают. Птица совсем не то, что рыба. Рыба – она, что в реке, что в океане, одна и та же – пресная. Слабый посол, средний посол, сильный посол – посол и посол, хоть наш, хоть турецкий – дядька с гербом и флагом. Скажешь ему: посол! Он и посол, и посол, и посол! Оно и мужик: хоть просоленный контрактник, хоть засахаренный депутат – как только, так сразу в сон.
Когда рыбу режешь, можно сказать: это мясо рыбы; но когда режешь птицу, никак не скажешь: это рыба мяса. Отсюда сразу видно: птице уважения больше. Опять же о депутате – кто он такой? Так себе: хоть правый он, хоть левый, хоть по центру – причинное место одно, а забот много. Ни рыба, ни мясо, лягушачье филе. А контрактник – хоть и железо, да один ствол без приклада.
Исходя из этих и еще ряда соображений, Настя совершенно разочаровалась в мужчинах-полковниках и мужчинах-политиках, которым в последние пять лет неоднократно отдавала вместе с голосом и душу, и стала торговать не в рыбных рядах, а в куриных. Хоть курица и не птица, но и не рыба. Оно и баба не человек, а присмотришься – лучше мужика. В рыбе какая-то ледяная бессмыслица. От нее без ума разве что японцы с эстонцами. Курица же бедрышками и головой очень напоминает женщину, а повадками и лапами мужчину. А попкой подходит обоим. Цыпленок же табака – точная половинка российского герба. А два цыпленка табака – уже целый российский гербарий. В конце концов, у курицы есть, хоть и куриное, четырехкамерное сердце, а у рыбы – что ни вытащишь из брюха – одни кишки с пузырем да жабры. У рыбы, наверное, сердце там же, где у человека душа. У кого в пятках, а у кого к резинке трусов привязана.
***
Именно этот день был первым рабочим днем Насти в птичьих рядах центрального рынка, и именно в этот день ей удалось сразу продать три ящика куриных шей. Вот это подарок к празднику! А до этого Настя уже несколько раз работала продавщицей птицы – то на районных базарчиках, то в специальных павильонах от мясокомбината. И нигде не удавалось прочно зацепиться: то «фирма» лопнет или конкуренты сожрут, то сама Настя просчитается – оно, весной и летом деньги слипаются, а зимой и осенью пальцы на морозе не гнутся, то «шеф» пьяным средь бела дня под юбку лезет. Центральный рынок – это крутое повышение в карьере. Прилавок – чем хуже кафедры? Академия своего рода. После смерти мужа ей вообще не хотелось работать. А когда стали определять, куда направить Сергея – в тюрьму или клинику – она вдруг запила. Запила, запила, потом опомнилась, уволилась из института, где ее доцентских денег было хрен да маленько, не хватит даже на лекарства Сергею, и подалась в птицеторговлю, чтобы хоть как-то помочь сыну. Никого ей не хотелось видеть: ни коллег, ни беззаботных студентов. А тут – безучастные лица, липкие деньги. Поторгуешь, не думая ни о чем, вечером придешь домой, отмоешься от них под горячим душем, и на душе чуть-чуть посветлеет.
Так, кто там? Мужик с огромным рюкзаком ползет вдоль птичьего ряда. Похож на «дальнобойщика». «Дальнобойщики» – парни рисковые и при деньжатах. И запах от них – не просто пот, а еще и запах дальних стран и запредельных территорий. Какая никакая, а тайна, без которой и мужик не мужик, а копилка недоразумений. А тошно станет от тайн – пошлешь его куда подальше – он и покатит себе.
Настя не стала подзывать мужчину подобно девяноста девяти процентам рыночных торговок, а улыбнулась издали, как родному, и ласково шепнула что-то: угадай, мол, что. Мужчина приостановился, угадывая.
– Еще живая! – пронзительно закричала Настя, то ли подражая, то ли пародируя продавщиц рыбы по ту сторону забора. – Самая свежая птица на базаре!
– Кончай базар! – вздрогнула от ее крика соседка справа. – Не пугай клиентов!
– Неужели живая? – клюнул мужик с рюкзаком.
– Живее всех живых! Смотри! – Настя подняла безжизненную голову жертвы куриного геноцида. Прежде чем купить, принято полюбоваться тушками, доставленными на прилавок прямиком из поры куриного девичества. Белым тельцам с желтыми выпуклостями и синими впадинами была присуща некоторая манерность, как у Лукаса Кранаха Старшего. И от них исходил легкий запашок всеобщего разложения, начавшегося в Средневековье. Покрытые пленкой глаза когда-то были прекрасны, клюв слегка приоткрыт, но никак не более недели назад, цвет «лица» хоть и синюшный, но с красивым отливом оранжевого. Веселая головка!
– О, смотри, жиру сколько! Навар будет! Две? Три штуки?
– Четыре.
– Так, следующий! – разочаровалась Настя: шутник нашелся! – Не загораживайте, гражданин! В ваш рюкзак, пройдите в говяжьи ряды, целый задок влезет. А тут деликатес! Тут пупки и сердца! Может, разбитые навеки!
– Но я действительно хочу взять четыре ящика куриных шеек. Шейки – по пятнадцать?
– Четыре ящика? Куда вам столько?
– У меня две лайки. Обожают шейки. В морозилку брошу, до мая хватит. Самый дешевый продукт на сегодня. Баранки вон в два раза дороже! И самое лучшее угощение: дал по шее – сразу и успокоились!
– По шее? Хорошее угощение, – Настя засуетилась. – Ой! У меня, может, и не будет столько! Маша, одолжи пару ящиков шей, завтра верну.
– А пусть покупатель у меня возьмет! – стала вбивать клин Маша и таращить бесстыжие глаза. «Бери и меня!» – мог прочитать в них любой грамотный мужик.
Настя перевела напряженный взгляд с Маши на гражданина с рюкзаком и улыбнулась ему как можно шире. Гражданин улыбнулся ответно и широко.
– Нет-нет! – сказал он Маше. – Я с ней первой договорился.
– А, ну тогда она вас и отоварит. Настя, где шеи брать будешь?
Такой подлости даже от конкурентки Настя не ожидала.
– Пол-ящика – твои.
– Ящик.
– Черт с тобой!
– Конкуренция! – воскликнул покупатель. – Частная инициатива!
– Да! Конкуренция! – воскликнули Настя с Марией, с неприязнью глядя друг на друга.
– А как вы понесете? – озаботилась Настя.
– Очень просто: у меня вот тут колесики выдвигаются. Покачу.
– Если вам тяжело все сразу увезти, два ящика оставьте у меня. Я все равно буду до вечера.
– Хорошо, – охотно согласился мужчина. – Мне это весьма кстати. Когда вы уходите?
– Для верности приходите часов в пять. А то потом у меня свои дела. Вы, случаем, не «дальнобойщик»?
– Он самый. Как догадались?
– По запаху.
– Ну, значит, около пяти?
Подошел Гасан.
– Хозяин зовет.
– Чего надо? – хмуро спросила Настя.
– Чего надо, там узнаешь. С праздником хочет поздравить.
– Как выручка? – спросил «хозяин». – Новенькая? Садись! – похлопал рядом с собой. Налил полстакана водки, подвинул тарелку с беляшами.
– Вегетарианка я.
– Чего? – не понял «хозяин». – Это такое половое извращение, да? – он положил Насте на плечо руку. Настя скинула ее.
– Ты что? Ты что! – возмутился «хозяин». – Шутку не понимаешь, да?
– Шутку понимаю. Я не Машка. Ее лапай, да? – Настя взяла беляш. – Не жалко? Подарок к женскому дню. Песика угощу.
На улице подошел Гасан. Вздохнул с дружеской улыбкой.
– Резать будем. Лицо портить будем. Жалко. Праздник все-таки.
Настя достала беляш и воткнула в открытый улыбкой рот Гасана, а потом коленом ударила его в пах. Тот скрючился, вылупив глаза и зажав зубами беляш, а Настя сказала:
– Еще подойдешь, вообще яйца отрежу. Жалко, да? В праздник – без яиц?
– Ну, как? – с вызовом спросила Мария.
– Что как? Раз так, два так, будет пятак. Вот так.
Настя с ненавистью посмотрела на ящики с куриными останками.
– Вот шейки, – издеваясь над самой собой, заговорила она, – тут пупочки, тут лапки, бедрышки, печень, головы, сердца… Это ж какую голову надо иметь, чтобы купить все это, какое сердце, чтобы сожрать, какую печень, чтобы переварить, и какие лапки, чтобы унести отсюда ноги?..
– Ты чего это? – Мария с удивлением глядела на нее. – Гасан обидел? Или «сам»? На сигарету.
– Давай. Спасибо.
– Они, сволочи, даром ничего не делают – всё через постель!
Без десяти пять, когда сумерки опустились на рынок и люди почти разошлись к накрытым столам, подошел «дальнобойщик». Стал с прибаутками загружать шеи в рюкзак. Тут же появился Гасан с двумя сподвижниками.
– Отойди, мужик. У нас разговор по душам с этой женщиной, – Гасан бесцеремонно, даже не глядя на «дальнобойщика», оттеснил его от прилавка. «Дальнобойщик» поднял свой огромный рюкзак и опустил на голову Гасана. Тот молча свалился на землю.
– Упал! – удивился «дальнобойщик» и поглядел на спутников Гасана.
Один из них заскочил ему за спину и ударил в бок ножом.
– Ах ты!.. – «дальнобойщик» поднял рюкзак, но в это время в него второй раз вошел нож…
Завизжали женщины.
– Куда смотрит милиция? – воскликнул простодушный голос.
Настя схватила весы и обрушила их на голову того, кто был с ножом. Тот рухнул на землю, забрызгав кровью прилавок. К прилавку от павильона бежали люди «хозяина». Тут подлетел «БМВ», резко затормозил, и из него, матерясь, вылез огромный мужчина в длинном черном плаще. Поглядел на итоги битвы, на подбегающий резерв, поднял вверх руку. Люди «хозяина» остановились. Насте мужик показался знакомым. Ну и мяса в нем – гора горой. Никак Гора? На свободе, значит.
– Ну, чего тут? – гора мяса подошла к прилавку. – Чей лоток?
– Иван!
Гора посмотрел на Настю и не удивился.
– Ты? Знал, что наши дорожки пересекутся. Ты заводила? Или этот? – Гора указал на сидящего у стены «дальнобойщика. Тот зажимал рукой бок.
– Он, – указала Настя на отползшего от прилавка Гасана.
Гора поманил людей «хозяина». Указал на Гасана.
– Он тут лишний. Позовите-ка Гошу. Этого увезите в больницу, – ткнул толстым пальцем в «дальнобойщика».
Гасана увели в «кабинет», его дружка с разбитой головой потащили туда же. «Дальнобойщика» посадили в «Жигули» и увезли. Торопливо притрусил «хозяин». Гора кивнул ему на автомобиль. «Хозяин» скользнул в дверцу. Следом с трудом забрался Иван. Машина просела. Дверца захлопнулась. Машина отъехала к воротам и остановилась. Потом развернулась и выпустила Гору и «хозяина». «Хозяин» стал быстро и зло говорить о чем-то своим людям, резко кивая на Настю и на Гору, потом ушел.
– Баста, Настя. Проблему закрыли!
– Что ты ему сказал?
– Гоше? Я ему сказал: если ты проблема, тебя решают. Вот что я сказал ему. Много не люблю говорить. Работай, Настя. Ни одна сволочь, даже такая, как я, – не тронет тебя!
Там, где все многообразие человеческих лиц сводится к двум дуракам, из которых один покупает, а другой продает, где вся роскошь человеческого общения да и вообще вся человеческая жизнь запечатлена, как на могильном камне, надписью «купился – продался», где встречные потоки денег и товаров выкручивают человека, как мокрую тряпку, – там человеческое слово, вовремя сказанное, дорогого стоит.
А когда все слова были сказаны, Настя взяла ящик и с такой бешеной силой бросила его на землю, что куриные сердца разлетелись во все стороны, как от взрыва. Две бабки дотемна ползали по рядам, но смогли отыскать всего несколько кусков.
20. Захомутали
Гурьянов почувствовал зверский голод и свернул в первую попавшуюся столовку.
Давненько он не заглядывал сюда. По молодости, помнится, хороши тут были люля-кебаб. Упругие, сочные. По прошествии стольких лет – скольких же, рассеянно размышлял Гурьянов – здесь многое должно измениться. С Женькой любили сидеть вон там.
Очередь была минут на десять. Впереди Гурьянова три женщины плотного телосложения, несовместимого с умственным трудом, обсуждали, судя по всему, размеры мужских рубашек.
– Шею должен облегать, но не очень плотно. Чтоб проходили два пальца, – крепкая женская рука показала, как именно должны проходить два пальца.
Надо же, сколько заботы о мужике, подумал Гурьянов. Рубашку купи, да еще чтоб шею не жала.
– А если убежит? – спросила та, что помоложе.
Конечно, убежит, подумал Гурьянов. Мужик на то и создан, чтоб убегать. Уж меня-то не захомутаешь!
– Не убежит! – вздернулась крепкая рука. – Главное, чтобы ошейник прочный был и цепочка, лучше металлическая.
От долгого воровства у работников столовой, похоже, стали образовываться фобии. Кассирша, например, явно боялась остаться внакладе и, глядя на поднос, уточняла у каждого посетителя: у вас два компота или один, хотя прекрасно видела, что компот один; у вас кефир или сметана, хотя еще четверть века назад этот вопрос потерял всякий смысл; у вас две лапши или одна, хотя кто бы это взял две лапши, когда и одной было достаточно, чтобы подавиться, а остаток приклеить к ушам комиссии рабочего контроля, проверяющей через «задний проход» качество блюд.
Широкая, как плита, и такая же жаркая, раздатчица в любом своем сечении была равновеликой фигурой. От подошв до головы. Когда она с достоинством несла свое тело между плитой и раздачей, казалось – шествует Екатерина Великая. Тарелка, даже глубокая, в ее руке выглядела как блюдце, и не как санфаянс, а покрытый глазурью мейсенский фарфор. Она не только величественно, но и долго несла свое тело, так что забежавшему перекусить за один ее проход можно было и проголодаться. Если бы ее взяли центрфорвардом футбольного клуба, скажем, такого, как «Милан», она безусловно была бы центром внимания болельщиков: на ней отдыхал бы глаз и умиротворенно гасли безудержные итальянские страсти. Она была даже чем-то симпатична.
Гурьянов с поклоном принял второе блюдо из ее рук. Он отметил расширившиеся глаза раздатчицы, взглянувшей на него. Словно бы в них мелькнула некая мысль, давно не залетавшая туда.
Гурьянов без особого аппетита отобедал гуляшом с перловкой (люля-кебаб исчезли в прошлом вместе с сочностью и упругостью готовящих их поварих) и лениво допивал безвкусный компот. Ему не хотелось вставать. Он рассеянно смотрел на очередь, в которой никогда больше не будет Суэтина. И словно ничего не изменилось. Не изменилась плотность очереди, и среднее количество ее членов наверняка осталось прежним. Что-то Женя говорил про очередь, про какую-то волновую функцию… Где та волна, что унесла его? С точки зрения всеобщего спокойствия это было разумно, что в очереди ничего не изменилось, но это был не человеческий разум, это было нечто непонятное ему. Если бы каждый задумался, куда девается огромный храм, что в душе каждого, когда душа излетает из тела, и куда делся храм, что был в душе Суэтина, этот храм, может быть, и стал бы на это мгновение видимый всем, притянутый множеством одной и той же мысли. Гурьянову показалось, что он видит очертания этого храма. Ему послышался вдруг голос друга. Гурьянов вздрогнул.
Со скрежетом проехал по полу стул, приподнялся в воздух и легко опустился на пол столик. Под большим телом в белом халате застонал стул. Гурьянов вернулся к реальности. Перед своими глазами он увидел женские глаза, налитые лаской.
– Что же ты, Лешенька, не обращаешь на меня никакого должного внимания? Где пропадал столько лет? – спрашивала раздатчица, загородив собой зал и заняв сразу две трети обзора.
Улисс-Гурьянов вспомнил этот голос. Нет, это была не сирена, но точно одна из ее правнучек. Голос, густой и напитанный калориями, принадлежал (не может быть – впрочем, может) некогда юной выпускнице кулинарного техникума, смешливой и жизнерадостной. Помнится, у нее был перспективный план развития на его счет, составленный, похоже, коллективным разумом общепита, вовремя, по счастью, вспугнувший его. Тогда он с явным сожалением сказал Суэтину: «Прощай, общепит! Ты три месяца давал пищу моему уму. Подаюсь на вольные хлеба». «Вольному воля, спасенному рай», – напутствовал его Суэтин.
– Катенька, девушка моя! – фальшиво обрадовался Гурьянов.
– Вообще-то я Нина, – с неизбывной лаской в очах, но слегка дрогнувшим от обиды голосом, произнесла бывшая в неоднократном употреблении девушка.
– Пардон, не признал, – смешался поэт.
– Зато я признала тебя, – успокоила его Нина. – За тобой не угнаться.
«Особенно с твоей комплекцией, – подумал Гурьянов. – Нина, что за Нина? Хоть убей, не помню».
– Тебе нравилась моя грудь, – распрямилась Нина, глаза ее заблестели. – Ты называл ее «моя пажить». Помнишь, ты, как артист, любил спрашивать: «Позвольте пастушку склонить голову на эту пажить?» А я говорила: «Позволяю», а твою пастушью дудочку называла, ой, вспомнила, «мой барашек». Помнишь? Да ты и весь кучерявенький такой был! Как твои стишки – пишешь всё? Про эту, как ее, порнографию?
– Эротику, Нина, эротику.
Гурьянов понял, что пропал. Как он мог забыть Нину, от которой пришлось удирать не просто из данного ареала питания, а вообще на деревню к дедушке! Ведь его, несмотря на все его «нет», уже доставили к загсу, как коня в стойло, где уже был готов и корм, и подстилка, оставалось проржать «да» и ударить копытцем, ставя закорюки под залогом грядущего счастья. На счастье, Гурьянову скрутило желудок, а в туалете было окошко, через которое, как в детективе, пришлось удирать к неомраченному предстоящей свадьбой будущему. От будущего, собственно, оставалось всего ничего, так, маленькая шкурка от барашка, что бросят возле постели на пол. Все равно не удрал, подумал Гурьянов. От судьбы не удерешь. И он с удивлением понял, что в принципе, если его сейчас так же поведут под венец, он не будет шибко брыкаться, а воспримет как должное. И потом – такие пажити! Уйдешь на посевную, до уборочной не воротишься!
– Нина, Ниночка, – почти искренне обрадовался он. – Это пелена, пелена спала с моих глаз. Конечно же, это ты! Ну, как ты, родная?
– Да вот видишь, не жалуюсь, – еще шире распрямила Нина грудь. – А ты, гляжу, субтильней стал, съежился манехо. Волосенки пообтрепались, глазенки не так блестят.
– Да, есть такое, – вынужден был признать Гурьянов. – Призора должного не было, вот и пообтрепался.
– Что же убежал тогда от призора? Как беспризорник. Погляжу на тебя – и не поэт ты, а прям самый настоящий Макаренко. «Педагогическая поэма» – твоя многострадальная жизнь! Чего утек, малек? Был бы тебе, был, и призор, и догляд. И кушать подано, и постелька вот она. Что ж убежал тогда?
– Да вот как-то… – заелозил на жестком стуле Гурьянов. – Молодость, глупость, понимаешь…
– А я помню, помню твои слова, обращенные ко мне, не испарились они из моего сердца! «Позвольте возложить, мадам, на алтарь Купидона ваши бедра…» Мне никто не говорил так больше…
Гурьянов ужаснулся. Неужели он говорил это?
– Но бедра-то возлагали? – вырвалось у него.
21. Все мы живем на земле
Неужели Аглая Владиславовна? Не видел ее сто лет. Года два назад Гурьянов, конечно же, испытал бы страшный стыд при встрече с нею – ведь он после смерти матери виделся с ней всего несколько раз. Но сейчас он лишь вздрогнул, когда она посмотрела на него. Старушка явно не узнала его. Никто меня больше не узнает, даже она, с болью подумал Гурьянов. Постарела как… Что она делает тут? Неужели просит милостыню? О, Господи!
Гурьянов вытащил портмоне, изучил его содержимое и подошел к парню, торгующему лотерейными билетами.
Аглая Владиславовна смахнула тем временем с камня мусор, вынула из сумки картонку, пачку старых газет, соорудила из них на высокой ступеньке гранита нищенский свой трон и расположилась на нем, как августейшая особа.
«Господи, дай мне с душевным спокойствием…»
Открыла заветную тетрадочку и стала читать, шевеля губами. Слипшиеся страницы, потерявшие белизну и упругость, исписанные ею еще четверть века назад, когда век ее золотой уже пошел к закату, обветшавшие страницы уже и не читались. Но она по привычке читала. Читала, точно так же, как по привычке жила потерявшую белизну и упругость жизнь.
«…встретить все, что даст мне сей день».
Чернила выцвели, бумага истончилась и обтрепалась скорее не от ежедневного соприкосновения с пальцами и глазами Аглаи Владиславовны, а от воздействия ничего не щадящих безучастных мгновений времени. От них школьная тетрадочка в двадцать четыре листа скоро превратится в решето. Как папин шарфик, что носил он на шее… тут он, в этом кармашке, где ж ему еще быть?
Подошел крупный мужчина с изможденным лицом. В глазах его страдание. Вроде видела где-то его, а приглядишься – вроде и нет. Бородка с усами вроде как шли ему, но он словно занавесился ими. За ними не угадывалась душа. Да мало ли их, лиц этих, за жизнь промелькнуло! Поздоровался. Лицо как будто знакомое. Светлое. Сейчас и лица-то у всех почернели – то ли бомжи с мороза, то ли из Африки народ.
– Здравствуйте, – ответила Аглая Владиславовна.
Мужчина топтался на месте. Она отложила тетрадочку и спросила у мужчины, не забыл ли он чего здесь.
– Нет, – ответил тот, смутился и отошел, оглянувшись.
Она снова взяла тетрадочку. Мужчина не уходил. Он снова направился к ней.
– Извините, – сказал он. – Простите мою настойчивость и бестактность. Вы ведь Аглая Владиславовна?
Она вгляделась в его лицо. Усы, бородка. Глаза. Что-то знакомое в глазах, но это знакомое где-то вдали, не разглядеть уже. Вроде видела где-то. А вот голос точно слышала. Сколько их прошло в ее учительской практике! А сколько прошло здесь, многие туда-сюда каждый день ходят…
– Вы журналист? – спросила она, лишь бы спросить что-нибудь. Хотя могла и не спрашивать. Он был первый, с кем она в этот год заговорила. Ей было трудно произносить слова, они слежались внутри нее, как пласты земли.
– Нет, я не журналист, – ответил мужчина и снял шапку.
Аглае Владиславовне это понравилось. Перед нею никто не снимал шапку уже, наверное, лет двадцать. Да и она не сняла свою ни перед кем. «Молодец, не сует пятаки, – подумала она. – Значит, в его глазах я еще ему какая никакая ровня».
– Откуда вы меня знаете? – спросила она.
– Я учился у вас.
– Вот как…
– Да, уж давненько. Лет сорок прошло. Много.
– Это много?
Мужчина сел рядом на ступеньку. Аглая Владиславовна невольно отодвинулась.
– Бог с вами, батюшка! Что это вы? Встаньте. Встаньте! Не надо опускаться на землю.
– Не желаете ли приобрести лотерейный билетик? – наклонился над ними некто в берете. – Исключительно на счастье. Остался всего один. Непременно счастливый.
– Какой же он тогда лотерейный? – мужчина встал со ступеньки. – Впрочем, давайте. Если выиграю – выигрыш этой дамы. А проигрыш – он всегда мой.
– Поздравляю вас, мадам! – сказал берет, глядя мужчине через плечо. – Ваш выигрыш пятьсот рублей. Получите.
– Берите, Аглая Владиславовна, они ваши, – мужчина протянул ей деньги и незаметно махнул берету, чтобы тот ушел.
– Что вы! Что вы! – испуганно замахала та руками. – Бросьте! Оставьте их себе.
– Ни за что! – сказал мужчина.
– Такого не бывает. Такого в принципе не должно было случиться. В лотерею я вообще не верила никогда.
– А зачем верить в нее? Дело случая.
– Вот оттого и не верила. Меня в том году приглашала к себе одна знакомая. Дом хороший у нее, а в нем пахло отчаянием. Можете себе представить это?
– Нет.
– Я тоже не могла. Пока не увидела это своими глазами.
Она вгляделась в мужчину.
– Нет, не могу припомнить. Вот так, вроде, знаю вас, а так – нет.
Гурьянов вздохнул, расстегнул шубу. Не узнает, старушка, меня, не узнает, подумал он. И неожиданно для себя улыбнулся.
– Ой! – вдруг встрепенулась Аглая Владиславовна. – Леша! Не узнала. Не видят глаза ничего. Голос у тебя особенный, а все равно не узнала. Прости. Главное, много думала о тебе. Но не думала, что увижу вот так. Как ты, все бобылем?
– Женился, Аглая Владиславовна.
– Женился! Счастлив?
– А как же! Знакомая ваша, что приглашала к себе, кто это? У кого дом хороший, а пахнет отчаянием?
– Да ты знаешь ее: Настя Анненкова. Суэтина, то есть.
Старушка пожевала беззубым ртом, подумала и произнесла:
– Лешенька, у меня ведь к тебе разговор есть. Его уже и откладывать нельзя. Хорошо, что мы встретились. Не обессудь, если что не так. Твоя мама… Нина Васильевна была несчастный, оттого тонкий человек. Царствие ей небесное! За три дня до кончины она мне рассказала кое-что…
Аглая Владиславовна, словно колеблясь, взглянула на Гурьянова. Тот терпеливо слушал.
– Она просила передать это только тебе одному. Собственно, это только тебя одного и касается. Передать тогда, когда мне уже самой настанет пора идти к ней.







