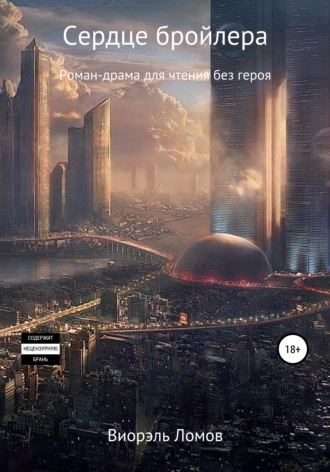
Виорэль Михайлович Ломов
Сердце бройлера
13. Смуглянка-молдаванка
Когда сын, без ее ведома, укатил с Настей на юг, а она тут с ума два дня сходила, так как Гурьянов тоже ничего не знал (весь в отца!), а потом прислал телеграмму, что он в Коктебеле, Анна Петровна тут же взяла и покатила в противоположную сторону – на север. За мужем.
– Каждому свое… Каждому свое… – твердила она всю дорогу. – Тебе семью. И мне семью. Тебе юг. И мне север. Ты за женой. И мне за мужем. Тебе молодуху. И мне старика.
А все-таки он молодец, в меня, была у нее за чаем и такая радостная мысль. Взял девку, со свадьбы уволок! Нет, каждому свое, каждому свое… Раз мать не нужна, может, хоть жена пригодится? Впрочем, одна уже в отсев пошла!
Перед самым Брянском Анна Петровна вдруг опомнилась, встрепенулась – что же я делаю! Только из-за того, что сын с ее дочкой на юг уехал? Только из-за этого? Так же нельзя! Ведь Настя умница!
Но поезд остановился, надо было выходить.
Анна Петровна спустилась на перрон. Расспросила, как проехать в Дятьковский район. Автобус будет теперь только через три с половиной часа, сказал диспетчер. Анна Петровна уже пожалела, что скоропалительно выехала из дома, не дав телеграммы, так бы хоть на машине встретили. Исправлять что-либо было уже поздно, и она по фронтовой привычке пошла голосовать на грейдер. «Зилок» докатил ее по пыльной неровной дороге до места, а шофер, который тоже от Дона дошел до Дуная, не взял с нее ни копейки.
Тяжелое чувство и нерешительность, охватившие было Анну Петровну в поезде, оставили ее в тряской поездке, напомнившей о фронтовых дорогах, и она уверенно и быстро нашла дом Аверьяновых. Вон пригорок, клен, дом под шифером, шест для флага… На заборе проветривались валенки, треух, перина, ватные штаны. Отворила хорошо подогнанную калитку, зашла во двор, крикнула:
– Есть кто?
Никто не отозвался. По утоптанному двору, повизгивая, носились два тугих пятнистых поросенка да бегали серые цыплята, похожие на хулиганов. На поваленном плетне сушились нарезанные яблоки. В них копошились воробьи, звенели мухи.
Анна Петровна поднялась на рассохшееся крыльцо. Дверь была приоткрыта. Навстречу вышла кошка, хвост трубой, скользнула по ноге и стала, поводя плечами и задом, готовиться к атаке на воробьев. Хорошо собаки нет, подумала Анна Петровна. Ну, Господи благослови, – она зашла в дом.
В чулане на огромном сундуке с металлическими уголками и крест-накрест полосками из жести было свалено барахло. От него несло затхлостью и мышами.
– Хозяева!
Анна Петровна прошла в комнату, не такую душную, как чулан, пронизанную косыми лучами солнца. Это был зал. На столе со скатеркой стояла швейная машинка. В углу, наверху этажерки, телевизор накрыт кружевной салфеткой. Налево из смежной комнаты слышалось сиплое дыхание.
– Есть кто?
– Кого надо? – спросили слева.
– Можно?
Анне Петровне ударил в нос неприятный запах. Она осторожно заглянула в комнатку. На кровати, занимавшей практически всю ее, лежал головой к двери седой, как лунь, старик. Он откинул крупную голову набок и косил слезящимися глазами на нее.
– Где… хозяева? – у Анны Петровны слово «хозяева» не выговорилось, провалилось внутрь нее. Она кашлянула: – Здравствуйте.
– Кто это? А? Что за человек?
– Это, Паша… я.
– Кто – я?
– Я… Анна.
– Анна? Которая Анна?.. Каренина? – неожиданно хихикнул он.
Слезы, готовые хлынуть из глаз Анны Петровны, тут же высохли. Конечно же, он узнал ее. Когда он тогда, в пятьдесят втором, после того как она заявила ему: все, или пьешь, или выметайся, – покатил к первой своей жене, в прежнюю свою семью, которую вспомнил лишь десять лет спустя, покатил от нее сюда, на эту кровать, тогда он бодро так, пьяненько, гордясь собой, крикнул ей на прощание: «Пить или не пить – это мой вопрос! И я его решу без тебя! Только без трагедий, Анна… Каренина! Не кидайся под мой поезд!» Было бы из-за чего, крикнула она тогда вслед, а до этого не позволила попрощаться с Женей, хотя знала, что они не увидятся больше никогда.
– Проходи, раз Анна. Чего встала? Вишь, сам встать не могу. На свет выйди, погляжу… Постарела.
– Да и ты… не помолодел.
– Эт точно! – хихикнул он.
– Да не хихикай ты так! – в сердцах воскликнула Анна Петровна.
– По-другому не могу. Я скоро, как китаец буду, только хихикать. Хихикать проще всего. Хи-хи, хи-хи.
Он замолчал. В груди с каждый выдохом хрипло рвалось что-то. То ли произносимые им, но неслышимые слова, то ли кончающиеся и никак не заканчивающиеся мгновения жизни. Слова, которые собиралась сказать ему Анна Петровна при встрече, тоже пропали куда-то. И новых не было. Она стояла столбом напротив окна, а он молча глядел на нее и рвал-рвал что-то в груди своей.
Положение спасла Нина. Она вошла в зал и стала рыться в шкафу.
– Здравствуйте, – вышла к ней Анна Петровна.
Нина вздрогнула
–О, господи, напугали как! Здравствуйте. Вы кто?
– Я Анна… Анна Петровна Суэтина. Вы Нина?
– Здравствуйте! Да-да, фотографию Женя привез. Похожи. Ой, да что же это мы! Проходите сюда, садитесь. Видели его?
– Видела.
– Плох?
– Плох.
– Совсем плох. Врач сказала, – Нина перешла на шепот, – недолго уж, до весны, край до лета.
– Я за ним.
– За ним? Да вы что? Бросьте и думать! Какое там – за ним? За ним смерть-то уж боится идти. Не поднимет за собой.
– Зачем вы так? – сказала Анна Петровна, отдавая должное справедливости ее слов.
– А по-другому и нельзя никак. Уж как есть. Отжил свой век. Отмучился. Ксению Борисовну пережил.
– Как? Она умерла?
– Да, царствие ей небесное. На той неделе сороковины справили.
– Я заберу его.
– Не знаю, вряд ли что получится у вас. Да и мой уж это, видно, крест, – вздохнула Нина.
– Вам его никто не передавал, мой крест, – возразила Анна Петровна.
Нина ничего не ответила. Вздохнула и стала собирать на стол.
– Вам надо, Нина, своей семьей заняться.
– А это и есть моя семья, – просто сказала Нина, и у Анны Петровны не нашлось сил и желания чем-либо возразить ей.
– И сколько вы с ним вот так?
– Да уж больше трех лет.
– Какой кошмар! Все, увожу немедленно. Справлюсь. Если что, Женя с женой поможет.
– Женился? – обрадовалась Нина. – Добрый он у вас. Как жена?
– Бела и опрятна… Да хороша, хороша жена, «вот только бы не бросила его», – подумала Анна Петровна. – У вас нет валерьянки? Увезу, уход за ним будет, а помрет – телеграмму пришлю.
– Так его ж не похоронят у вас без прописки, – привела последний довод Нина. Странным казалось ее сопротивление, но ничего не было странного в нем, если на все взглянуть из души.
– Хоронят без прописки! – отчеканила Анна Петровна. – Прописка на гроб не нужна. Земля нужна – земля у нас найдется! Да она и есть у него, прописка эта. Мы же с ним не в разводе. Уехал и уехал тогда…
Из комнатки послышался кашель и слабый голос.
– Чего тебе? – поднялась со стула Нина. Анна Петровна прошла за ней.
– Вы там, слышу, мне уже гроб с музыкой заказываете, а меня не спросили, под какую музыку хоронить. Меня хоронить только под смуглянку-молдаванку.
И он запел, кашляя и отстукивая по матрацу рукой:
– Ра-ас-ку-уд-ря-вый, клен зеле-ный, лист рез-ной, здра-а-вствуй па-рень, мой хоро-ший, мой род-ной…
У Нины на глазах выступили слезы.
– Вот так вот второй месяц хоронит себя.
– Все, музыку отставить! Паша, собирайся, едем домой! – скомандовала Анна Петровна. – Будет тебе смуглянка, будет тебе и свисток с артиллерийскими залпами!
Анна Петровна не представляла, сколько будет мороки с перевозкой прикованного к постели человека. На следующий день они с Ниной взялись мыть его и вымыли только к обеду. Помыли, переодели в чистое, побрили, причесали. Совсем другой вид!
– Вы только не думайте, – со слезами на глазах говорила Нина, – что он у нас был такой заброшенный. Сколько мы его уговаривали, и добром, и силком. Бесполезно. Упрется, как бык. С места не стронешь. Даром что лежачий! А с вами, гляди-тко, тише воды, ниже травы.
– Со мной все так, – сказала Анна Петровна, но уже без прежней гордости за свою несгибаемую женскую волю.
Наняли машину, сделали плетеные носилки, Николай с тремя товарищами помог довезти его до поезда и разместиться в откупленном по блату купе. Анна Петровна отдала все деньги, какие остались, и поезд покатил, возвращая то ли беглого, то ли изгнанного мужа в лоно семьи.
***
В Нежинске их встретили Евгений с Настей. Они были покрыты красивым загаром, и в их глазах Анна Петровна увидела то счастье, которое когда-то навсегда покинуло ее. Надолго ли оно в них?
Она не обняла их, не поздравила, а коротко поздоровалась и засуетилась возле выносимого из вагона мужа.
И эта актриса, с сожалением подумала Настя. Анна Петровна представлялась ей совершенно другой, скорее Маргаритой Володиной в «Оптимистической трагедии», чем Татьяной Дорониной в «Старшей сестре».
– Как она любит тебя, – сказала она вечером Евгению, – и ревнует.
– Брось. У нее с отцом своё. Ее всю жизнь мучила совесть.
Теперь она будет отыгрываться на тебе, подумала Настя, а заодно и на мне. Ей стало жаль Женю, и она погладила его по голове. Он посмотрел на нее, в глазах его Настя увидела растерянность.
Он вдруг понял: если все мужчины кинутся исполнять волю женщин, мировой воле придет каюк.
14. Сосиски с яичницей
Когда Гурьянов узнал, что Женька женится на Насте, ему стало и взаправду плохо. Он с трудом переварил в себе весь этот фейерверк с цыганами, и тут нате – все наперекосяк и у Горы пошло. Теперь ей Женьку подавай! Ну, стерва! Заболело сердце. Почему-то справа, точно оно располагалось в нем, как в зеркале. Он взглянул на себя в зеркало и потер грудь справа. Зеркальный Гурьянов тут же потер себе грудь слева. Все как надо, успокоился Гурьянов и улыбнулся; а он (он глянул в зеркало и состроил тому рожу) пусть теперь беспокоится. Интересно, как проявит себя его беспокойство там? И в чем оно, в свою очередь, отразится, в каком еще зеркале?
Гурьянов поехал в общежитие табачной фабрики. Вышел из троллейбуса, посмотрел по сторонами и понял, что оказался возле Настиного дома. Прошел в арку, нашел подъезд. Дом был новый, на берегу Нежи. Участок между домом и рекой зарос кустарником, изрыт канавами. Центр, а как везде. У Анненковых на этой квартире он еще ни разу не был. Да и не думал когда-нибудь побывать. Хотел развернуться, но поколебался и поднялся на третий этаж.
– Леша, заходи, – приветливо сказала Анна Ивановна.
У нее во взгляде Гурьянов не заметил настороженности, которая была в прошлый раз. Удивительно, Анна Ивановна даже ласково глядела на него! И обращается на «ты». Надо же!
– Настя скоро должна прийти. Пошли на кухню, я там с обедом вожусь. Ну, рассказывай…
– О чем? – оторопел Гурьянов.
– Как тебе понравилась Настя? Вот выкинула! Всегда своенравная была!
– Всегда, – уныло согласился Гурьянов и подумал: «В кого же ей другой быть?»
– Ошеломила, признаться, меня. Я уж думала, что устроила свою будущность… Жаль…
– Да уж… – Гурьянов пожалел, что пришел сюда. Теперь надо еще и свои соображения по поводу Настиного своенравия рассказывать! – Не знаю, что и сказать. Я-то вчера только узнал, от Дерюгина, общий приятель. Я Женьку с Настей месяц не видел. После «куриной» свадьбы. Признаться, ничего не пойму до сих пор. Настя – за кем замужем?
– Да не была она ни один день ни за кем замужем. Со свадьбы с Евгением удрала. Спохватились, а ее и след простыл. Телеграмма пришла из Коктебеля…
– Откуда?
– Из Коктебеля. Мол, она там с женихом, пробудет две недели, а вернется и сразу же замуж за него. Вот так вот.
– Ничего не пойму. Ни-че-го… У вас, Анна Ивановна, валидол есть?
– Дай я тебе валерьянки накапаю. Кот – тогда от цыган сбежал – вот бы сейчас было! Надо завести. На собак времени совсем нет, – вздохнула она. – Посиди-посиди. Что-то случилось? На тебе лица нет.
«Это только подлецу – рожа, даже та, к лицу».
– Нет, Анна Ивановна. Всего ожидал, но только не такого разворота событий. А что Гора?
– А что Гора? Пьет Гора. Заходил как-то. С этим, певцом из оперного…
– Гремибасов?
–Во-во, с Гремибасовым. Пьяные оба. Насте привет, сказал. Где она? Почем я знаю, соврала. И я почем, соврал он. А потом запели и пошли. Больше не являлись…
– На горе стоит ольха, под горою вишня, – пробормотал Гурьянов, – полюбил девчонку я, она замуж вышла! – и продолжил, но про себя: «На Горе теперь рога, Настя замуж вышла».
– Пьет, наверное. Крепкий мужик. Долго пить будет. А не сопьется. Россия на таких стояла, стоит и стоять будет!
Гурьянов с удивлением посмотрел на нее. «Они все, наверное, в их роду сумасшедшие», – подумал он и стал прощаться.
– Читала твои стихи. Купила. Надпишешь?
Гурьянов на обложке по диагонали написал: «Чудесной маме чудесной девушки».
Анна Ивановна прочитала, погладила обложку. Гурьянов встал.
– Да ты посиди. Подожди. Скоро должна подойти.
– Как-нибудь в другой раз, – с кривой улыбкой сказал Гурьянов и почти выскочил в дверь.
***
Он купил у таксиста водку и зашел в буфет женского общежития табачной фабрики. Там сел в углу, заказал у буфетчицы Сони глазунью, взял салат провансаль, стакан и сел пить водку. Соня поднесла шкворчащую яичницу.
– Будешь? – Гурьянов плеснул в стакан водки.
– Я на работе, – сказала Соня и выпила. Взяла с тарелки ягоду клюквы, положила в рот. – О, брызнула как!
Гурьянов поморщился.
– Чего хмурый такой, Лешенька? Кто обидел?
– Никто, – сказал Гурьянов. – Сделай-ка мне еще сосисок. Проголодался, как волк!
По столу шел таракан, но он не испортил Гурьянову аппетит. «Это еще вопрос, – думал он, – кто кого изучает – мы тараканов или тараканы нас. Для тараканов мы скорее всего вымирающие гиганты».
Соня смахнула таракана со стола, чтоб не бегал тут. Ей нравились мужчины с аппетитом. Только в аппетите раскрывается мужчина. Она испытывала удовольствие от аппетита Алексея, как от своего собственного. Даже больше. Особую чувствительность испытывала она к мужчинам в дни общего своего недомогания. Дни эти давали какую-то пронзительность и чистоту.
– Ты как сегодня? – спросил Гурьянов.
– Никак.
Алексей вздохнул.
– Жаль.
За соседним столиком поглощала творожок в сметане юная особа, не успевшая, по приметам, пропахнуть фабричным табаком.
– Соня! Две порции, пожалуйста. В две посуды.
Соня внимательно поглядела на соседний от Гурьянова столик, и взгляд ее стал острым, как вилка.
– Гражданин! Получите ваши сосиски, – процедила она, швыряя на тарелку недоваренное блюдо.
Гурьянов взял обе тарелки и подсел к особе, добивающей творожок.
– Позвольте полюбопытствовать, – сказал он. – Вы мясное не употребляете из принципиальных соображений или из настроения соблюдать диету?
– На ночь не ем мяса.
– О, да тут и нет мяса! – обрадованно вскричал Гурьянов. – Правда, Соня?
– Там картон, – ответила Соня и ушла в подсобку, чтобы не расстраиваться.
Девушка круглыми глазами глядела на поэта.
– Угощайтесь… она шутит. Вас как величать?
– Величать: Ира.
– Угощайтесь, Ирочка. Красивое имя. Как Кармен. Ирен – Кармен.
Ира нанизала сосиску на вилку, откусила. Было видно, что она давно не держала в руках сосиски. Обожглась, закашлялась.
– Горячая.
– О, столько смен, прождал тебя, Кармен, я у ворот, не рая – ада. Наверно, Богу было надо, чтоб столько смен я ждал тебя у врат, Кармен! – выпалил Гурьянов. – Экспромт.
– Вы поэт?
– Да. Гурьянов Алексей. Слышали?
Ирен молча кивнула головой, сосредоточенно жуя сосиску.
– Вот, – Гурьянов достал из кармана брошюрку своих стихов. У него «на случай» в кармане всегда лежало несколько экземпляров. Ведь женщин поставляет исключительно случай. Недаром возник термин «случайные связи». Его лучше бы назвать «вечные связи». Вернее.
Девушка с восторгом смотрела то на брошюрку, то на поэта и машинально ела сосиски, не замечая, что они из картона. Она возбуждена, отметил Гурьянов с удовлетворением. И эта мысль физически насытила его. Он забыл о всех своих неприятностях, о разбитой жизни, о Насте, словно ничего этого не было. Ближняя соломка лучше дальнего сенца. Удивительное дело: неприятности так быстро забываются. Было бы с кем.
– Вы, позвольте спросить, здесь и живете?
– Нет, под Читой. То есть да, здесь. Под Читой у меня родители. А работаю я здесь, да, да.
– И давно здесь?
– Второй месяц.
– Молодые люди, закрываем! – громко обратилась к ним Соня. Они оставались последними.
– Ирен, соблаговолите подождать меня минутку, я сейчас… Спасибо, Соня, – с примиряющей улыбкой Гурьянов протянул буфетчице свои стихи.
– Новые? – спросила та. – О, мне: «Той, чье сердце переполнено любовью». Спасибо, Алеша.
Ирен ждала Гурьянова за дверью.
– Вы тоже здесь живете? – спросила она.
– Да. Решил вот остановиться. Я вхож в эти апартаменты… Соня! Сонь! – ринулся он вдруг к буфетчице. – Бумагу дай!
– О, господи, зачем тебе?
– Да записать, записать. Мысль пришла.
На салфетке Гурьянов большими буквами написал: «Возражение Лаэрта наставлениям Полония».
– А это еще кто такие? – спросила наблюдавшая из-за плеча Соня. Гурьянов отмахнулся.
«Будь мягок, словно воск, остер, как нож, имей природный лоск, лицо, осанку…» – «И все ж – куда я вхож, я там лишь вошь». – «Так что ж?» – «Да вошь! вошь! вошь!»
Гурьянов поднял на Соню горящий взгляд.
– Ну, и чего ты тут нацарапал? Ничего не пойму. Нож, вошь… Ты лучше, Леша, про любовь пиши. Там у тебя этот, как его, соцреализм.
***
Анна Ивановна чувствовала себя неважно. Кружилась голова, колотилось сердце. Будто изнутри ее рвалось наружу нечто, что она все эти годы прятала на самое дно. Так нельзя, подумала она, но от этой мысли ей не полегчало.
Она легла с новым «Крокодилом» в руках, просмотрела все от корки до корки, но шутки и картинки в журнале оставили ее совершенно безучастной. Насти не было долго. Уже стало темнеть, когда в двери заерзал ключ. Анне Ивановне не хотелось разговаривать, и она закрыла глаза. Настя на цыпочках прошла на кухню, прикрыла дверь. Кошка чего-то разоралась за окном…
Анна Ивановна пребывала какое-то время между сном и явью. Она слышала, как Настя копошится на кухне, в ванной бежит вода, скрипит дверка шкафчика, газ шумит в колонке… Звуки доходили до сознания как-то не прямо, а будто дугой. То она вдруг переставала слышать звуки снаружи, и тут же раздавались голоса и звуки изнутри ее самой. Тревожил далекий надрывный плач кошки. Это, наверное, та кошка под лестницей… Там коробка… В ней котенок…
Анна Ивановна почувствовала на себе пристальный взгляд, но ей не хотелось открывать глаза. Что это Настя так смотрит, подумала она. Что ей надо? Она прислушалась. Стояла мертвая тишина. Сквозь закрытые веки она чувствовала свет торшера. Но в комнате никого не должно быть. Ни одного постороннего звука, кроме ее собственного дыхания да тонкого свиста в ушах. Он давно у нее. Она продолжала ощущать на себе притягивающий прямо-таки гипнотический взгляд. Она наклонила голову набок. В комнате никого не было! Ее пробрал озноб. Взгляд притягивал тонкими прочными нитями куда-то вниз, к полу. Она скосила глаза вниз и в ужасе подскочила. Посреди ковра замерла мышь, из глаз ее тянулись две тонюсенькие дрожащие нити света. Это были нити мышиного ужаса.
Настя сквозь сон услышала, как кричит мать. С колотящимся сердцем она заскочила в комнату. На столе с криком прыгала мать и колотила лыжной палкой об пол, пытаясь попасть в какую-то только ей видимую цель.
– Мама, что с тобой? – подбежала к ней Настя и перехватила палку. – Ты что делаешь?
– Мышь, Настя. Там мышь!
– Где? Бог с тобой! Какая мышь? Час ночи уже. Все мыши давно наелись и спят.
– Там мышь, я тебе говорю! Она пришла ко мне и смотрела мне в глаза!
– Это даже не смешно! – судорожно хохотнула Настя.
Она подала матери руку, помогла слезть со стола. Нам только альпинизма не хватало по ночам, подумала она. О, господи, уж не лунатик ли она? Настя уложила мать в постель, на всякий случай проверила, закрыт ли балкон, закрыла форточку.
– Зачем закрыла? Открой. Душно.
– Ты будешь спать? Никаких мышей нет. Тебе показалось, наверное. Приснилось. Откуда тут мыши? Дом новый.
– Надо кошку взять. Надо обязательно взять кошку, – сказала Анна Ивановна.
Настя ушла к себе, оставив свою дверь открытой. Слышно было, как она вскоре засопела, забормотала во сне. Внятно произнесла: «Ну, Леша!» Анна Ивановна приложила руку к сердцу.
За окном надрывно мяукала кошка. Видимо, она и не смолкала с тех пор. Просто я переставала слышать ее, подумала Анна Ивановна. Мы же часто совершенно не слышим горя даже самых близких людей. Проваливается их горе куда-то вглубь нас самих, и нет никакого горя. Удобно так жить!
Да это же, наверное, та самая кошка, что под лестницей, подумала она. Конечно, она. Кто-то забрал котенка, и она теперь ищет его. Бедняжка. Анна Ивановна очень обостренно почувствовала горе и тоску кошки. Нигде не может найти своего котенка. Кошка рвала душу надрывным мяуканьем. Анна Ивановна закрыла глаза и очень ясно представила, что это она сама бродит по пустынному ночному асфальту, ищет своего ребенка и надрывно, отчаянно, зная, что его нигде тут нет, зовет его.
Надо взять кошку в дом, подумала она. Встала, прикрыла Настину дверь, отрезала кусок колбасы и тихонько вышла из квартиры.
Так и есть, это та самая кошка. Коробки под лестницей не было. Люди безжалостны. Выкинули коробку вместе с котенком. Где же она теперь найдет его?
– Кис-кис-кис, – стала звать она кошку.
Та куда-то запропастилась. Анна Ивановна полезла в кусты. Вышла на утоптанную лужайку, где вечно толкутся алкаши. Посыпались ящики, сложенные штабелем возле пункта приема посуды. Из-под ног взлетела перепуганная птица. Продравшись сквозь кусты и едва не свалившись в яму, Анна Ивановна вышла к реке.
– Кис-кис-кис! Да где же ты?
Река до жути молча несла свои воды. Сколько же в ней своего горя и своих слез, подумала Анна Ивановна, кому-то она выплачет их?
Залаяла собака, за ней другая. Минут пять собаки брехали друг на друга. Машина подъехала к дому. Выпустила кого-то, уехала. Нет, кошки на берегу не было. Да и что ей тут делать? Разве что котенка утопили в воде?
– Кис-кис-кис…
Анна Ивановна пошла к дому.
Из-за угла, надрывно мяукая, вышла кошка. Слезы брызнули у Анны Ивановны из глаз.
– Иди ко мне, иди ко мне, милая, – она протянула кошке колбасу. Кошка понюхала, дернула хвостом и, задев боком ноги Анны Ивановны, пошла дальше все с тем же плачем.
Анна Ивановна взяла ее на руки, кошка вывернулась, поцарапав руку.
Из подъезда выскочила Настя.
– Мама! Ты что? – закричала она. – Что ты тут делаешь?
– Тише, людей разбудишь. Вот, киска наша плачет. Решила забрать ее домой. Она теперь одна.
И она посмотрела на Настю с таким отчаянием, словно в этом была виновата она сама или ее дочь.
Да что это с ней, подумала Настя.
– Ты знаешь, который час? Уже три ночи! Светать скоро начнет. Давай ее сюда. Завтра бы и забрала. Бог ты мой, ты где болталась? Поцарапалась вся!
Настя уложила мать, а сама просидела на кухне без сна до утра. Успокаивала кошку, которая то и дело рвалась к двери, и тщетно предлагала ей то колбасу, то молоко.
Всё, скорее замуж! Этот кошмар пора кончать. Пора начинать свою личную жизнь. У нее нет, но при чем тут я? У самой скоро глюки начнутся. И только врозь. Нет, вместе пожили. Извини, мамочка! Снимем квартиру, комнату, угол, все равно что. Но только не так!
Она заглянула в комнату. Мать спала. Торшер освещал ее лицо. Насте показалось, что по щекам матери текут слезы. Она села на табуретку и перестала приставать к кошке. Кошка улеглась у двери и замолкла.







