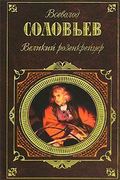Всеволод Соловьев
Старый дом
VI. Победитель
Катрин была неузнаваема. От ее размолвки с Татьяной Владимировной не осталось и следа. Вообще злопамятная и имеющая способность изо всякой малости дуться по нескольку дней, она на этот раз сделалась внимательной к Татьяне Владимировне более чем когда-либо. Она окружала Сергея Борисовича самой предупредительной заботливостью, то и дело ласкалась к нему, ухаживала за ним. После обеда пела ему своим маленьким, но довольно приятным голоском его любимые французские романсы. Даже вызвалась прочесть ему привезенные с почты газеты, так как он жаловался, что у него болит глаз. От Сергея Борисовича Катрин переходила к Борису. Просила его пройтись с нею по саду. Брала его под руку и, кокетливо склонившись к нему, болтала разный милый вздор, заливалась детским смехом, с кошачьими ужимками заглядывала ему в глаза.
Даже Владимир не мог не заметить происшедшей в ней перемены. Их отношения уже установились, и в этих отношениях не было и тени нежности, на что ни он, ни она никогда друг другу не жаловались. Теперь же вдруг Катрин вздумала и к нему относиться с заботливостью жены, следящей за всеми мелочами, за всеми удобствами мужа. Владимир только пожимал плечами и закрывал глаза.
– Что же ты не едешь в Петербург? – наконец спросил он. – Я думал, что когда мы вернемся с охоты, так я тебя уже и не застану.
У него иногда, не очень часто, но все же являлось желание подразнить ее.
– Ах, Боже мой, – ответила она, – мало ли что бывает. Иногда найдет минута тоски, скуки… не знаешь куда деваться. Но ведь ты очень хорошо должен знать, что незачем и некуда мне ехать, что я должна пробыть здесь до осени.
– Ведь я тебе так и говорил… Хорошо, что образумилась… Только, скажи на милость, к чему эта суетливость? Откуда эта странная обо мне заботливость?.. Я от нее отвык, да, впрочем, ты и сначала не особенно меня ко всему этому приучала… Пожалуйста, не стесняйся…
Она надула губки и вспыхнула. Презрительная усмешка мужа, загадочный, как ей показалось, взгляд его полузакрытых глаз привели ее в смущение. «Он хитрый, он все замечает!» – подумала она и мгновенно охладела. Она стала следить за собою, старалась сдерживать в себе напавшие на нее веселье и довольство. Но веселье и довольство были так велики, что ей удавалось это с большим трудом. Она притихала в присутствии мужа, а без него опять развертывалась. Теперь она стала обращать исключительно все свое внимание на Сергея Борисовича и хорошо видела, что с этой стороны расчет ее верен. Сергей Борисович просто расцветал от ее улыбок и ее дочерней нежности.
– Ну, милая дочка, не поиграем ли мы в шахматы? – говорил он добродушно и ласково на нее глядя.
– С удовольствием, папа, с удовольствием.
Она вспрыгивала и неслышными, легкими шагами бежала к шахматному столику, вынимала шахматы, пододвигала два кресла и кокетливо манила к себе маленькой, тонкой ручкой Сергея Борисовича.
– Вы знаете, – говорила она, усаживаясь и расставляя игру, – я прежде терпеть не могла шахматы, не понимала, как это люди могут ими увлекаться. Думала тоже, что это ужасно трудно и что никогда не научусь. Но вы так легко меня научили, папа, и с вами я так люблю играть… Постойте, вот я вас обыграю… вот увидите.
– Обыграй, милочка, попробуй… только нет, нет… вот тебе… вот!
Он делал ход и ставил ее в тупик. Она морщила бровки, выпячивала губки с самой милой и смешной детской минкой.
– А вы помогите, научите… а то как же в самом деле? Я не знаю, как тут быть?
– Да ну, помогите же! – говорила она своим серебристым голоском, делала неверный ход, но сейчас же с маленьким визгом возвращалась на прежнее место и отказывалась от своего хода.
Он принимался объяснять ей. Он чувствовал себя очень счастливым, был так рад, что у него такая прелестная, милая и ласковая дочка и что она так любит играть с ним в шахматы…
Прошло три дня – и вдруг настроение духа Катрин изменилось. Она вышла из своих комнат утром как-будто какая-то завядшая, с опущенными углами рта, с бледными туманными глазами. Она была молчалива, ее все раздражало, все ей не нравилось. Она не знала, за что взяться. Собралась было на прогулку, да сейчас же и вернулась, уверяя, что, верно, будет гроза, что в воздухе душно и она чувствует присутствие электричества, а это на нее раздражительно действует. Но воздух был чист, небо безоблачно.
Катрин поместилась на террасе, обложила себя подушками, вытянула ножки, раскрыла книгу, но не прочла и двух страниц. Книга соскользнула из ее рук на коврик, и она лежала, устремив бессмысленно вперед бледные глаза и по временам, видимо, в раздражении кусая губы.
Она часто взглядывала на часы, вынимала флакончик с английской солью, нюхала его, жаловалась на головную боль. Потом вдруг вышла в цветник, обошла кругом дома, несколько минут глядела на дорогу, извивавшуюся у опушки парка. Потом опять вернулась на террасу, опять легла, закрыла глаза и открывала их только для того, чтобы взглянуть на часы. Сергей Борисович подошел к ней, с участием спросил ее, что с нею, приложил руку к ее лбу.
– Голова болит?
– Да, папа!
– Жару нет… впрочем, хочешь я пошлю сказать доктору, чтобы он пришел скорее… до обеда, может, он тебе что-нибудь пропишет и успокоит.
– Ах нет, пожалуйста… нет! – встрепенулась Катрин. – Ваш доктор… да я скорее умру, чем приму его лекарства!..
– Напрасно, мой друг, он опытный и хороший доктор.
– Нет… нет! Да и не больна я вовсе – это пустое – пройдет… Жарко очень…
– Где же жарко?
Но она вдруг закрыла глаза и стала притворяться, что дремлет. Сергей Борисович отошел от нее. Владимир гулял в цветнике перед террасой, наклоняясь к какому-нибудь растению, разглядывая цветы. Он любил в полдень попечься на солнце и находил это очень здоровым.
Вдруг издалека едва слышно донесся звон бубенчиков. Катрин, по-видимому, совсем уже засыпавшая, быстро подняла голову, прислушалась, широко раскрыла глаза… Глаза вдруг блеснули радостью, щеки вспыхнули. Она оглянулась, увидела Сергея Борисовича:
– Папа, что это?.. Как будто бубенчики – вы слышите?
Он прислушался.
– Да, слышу!
– Владимир, – крикнул он сыну, – обойди-ка, пожалуйста, взгляни, кажется, кто-то к нам едет!.. Вот… вот… все слышнее…
Владимир в свою очередь прислушался и быстрым шагом пошел из цветника в ту сторону, откуда была видна дорога. Между тем звон бубенчиков с каждой секундой становился явственнее, приближался. Катрин опять лежала с закрытыми глазами, но уже с совсем новым выражением в лице. Ее тонкие пальчики нервно перебирали кружевные оборки платья.
– Кто бы это мог быть? – говорила она. – Папа, вы кого-нибудь ждете?
– Никого, мой друг… не знаю.
Прошло несколько минут, и на террасе появился Владимир, ведя под руку Щапского.
Сергей Борисович с некоторым изумлением, но очень любезно пошел ему навстречу.
– Очень приятно вас видеть, граф, – сказал он. – Но каким это образом вы в наших странах? Владимир говорил мне, что звал вас погостить, но что вам это было невозможно.
– Невозможное оказалось возможным, и я так доволен, что вырвался из Петербурга. Je connais si peu la Russie, monsieur, et je compte faire un long voyage… У вас так хорошо, такие прекрасные места… я, право, не ожидал…
Он заметил Катрин и поспешил к ней. Она, не вставая, только спустивши ножки, протянула ему руку.
– C'est bien aimable de votre part, comte, bien aimable! – улыбаясь, пролепетала она.
Ее рука несколько дольше, чем бы следовало, осталась в его руке, и даже голубоватые жилки напрягались от сильного пожатия.
– Vous êtes indisposée, madame? – участливо спросил граф, обдавал ее огнем своего жгучего взгляда.
– Нет, так, пустяки… Голова заболела… Но я вот тут вздремнула немного и, кажется, теперь все прошло.
Она встала и остановилась перед ним, улыбаясь, свежая, воздушная, в этом белом, прозрачном, зашитом кружевами платье. Он с видимым удовольствием, но спокойно глядел на нее.
– Однако пойдем, ты в пыли, – сказал ему Владимир, беря его под руку. – Я тебя сейчас устрою.
Они вышли.
– Вот кого не ждала! – воскликнула Катрин, обращаясь к Сергею Борисычу. – И очень рада, что он приехал, – это такой интересный человек, умный, образованный… Из всех друзей Владимира, кажется, самый интересный.
– Да, это правда, – заметил Сергей Борисович. – Я с ним, как был в последний раз в Петербурге, довольно много беседовал. Он умен, он все очень хорошо и тонко понимает и прекрасно знает Европу. Я тоже очень рад, что он приехал… И потом, я заметил в нем большой такт – он не будет стеснять, а это главное в деревне…
– Одно только нехорошо… – вдруг, как будто сообразив что-то, проговорила Катрин.
– Что такое?
– Щапский не по вкусу Бориса, я это не раз замечала в последнее время.
– Может быть, тебе это показалось только… Борис, ведь он… il n'est pas difficile… что же может быть между ними? Да они, верно, и не знают почти друг друга – Борис недавно вернулся…
– Да, да… но все же это неприятно!
– А вот увидим… Город и деревня – две вещи разные, в деревне люди сходятся легче и скорее.
К завтраку Щапский появился сияющий свежестью летнего костюма и своей резкой, но, действительно, значительной красотой. Он держал себя свободно, без малейших признаков стеснения, и в то же время внимательно наблюдал за всем и за всеми. Он сразу увидел, что его появление неприятно для хозяйки дома и для Бориса. Заметив это, он подсел к Татьяне Владимировне и добился-таки того, что заинтересовал ее своей беседой. Она стала слушать его и охотно с ним говорила. Но все же, несмотря на его искусство, на ее деликатность, он подмечал в ней нечто такое, что ему не нравилось. Потом он занялся с Борисом и обращался к нему с такой, по-видимому, искренней любезностью и простотою, что это решительно делало честь его уму и такту. Борис чувствовал себя как на иголках, тем более что видел, как трудно будет отделаться от этого смелого, находчивого и ничем не смущающегося человека. После завтрака Катрин подошла к Щапскому, засыпала его вопросами о Петербурге и потом предложила:
– Пойдемте, граф, в цветник, там есть цветы, названия которых не знает наш ученый садовник и никто не может мне сказать, что это за цветы… Папа тоже не знает, и maman, a Владимир с Борисом совсем понятия никакого не имеют о ботанике. Садовник говорит, что семена этого растения привезены из Франции… Может быть, вы знаете, что это такое…
– Очень может быть, я люблю цветы… Покажите, пожалуйста, – это любопытно.
Катрин спорхнула с террасы. Вслед за нею с любезной и немножко снисходительной улыбкой сошел и Щапский.
Борис видел, как они стали обходить цветник, останавливались, наклонялись. Но он уже не мог разглядеть их лица. Между тем Катрин, поглядывая на террасу, шептала Щапскому, сорвав какой-то пышный красный цветок с резким запахом и держа его в руке:
– Возможно ли это, ведь я чуть с ума не сошла! Все было решено и вдруг пишет: «Не приеду»… Я хотела возвращаться в Петербург.
– Слава Богу, что не сделали этого неблагоразумия! – сказал он.
– Но я бы это сделала, ни на что бы не посмотрела… Я не могла больше… Я бы непременно уехала, если бы не последнее письмо.
– Тогда бы мы только разъехались – и ничего больше… Что же бы из этого вышло? – заметил он.
– Ах, Боже мой, и опять ведь… вчера еще должен был приехать!.. Я до позднего вечера ждала. Не спала всю ночь… Совсем разболелась… Я думала, какое-нибудь несчастье в дороге… Не стоите вы этого, Казимир…
– Конечно, не стою! – спокойно сказал он.
– Какой же это цветок? – вдруг раздражительно спросила она. – Не знаете?
Он взял цветок из ее рук, понюхал его, посмотрел.
– Не знаю, никогда не видал такого цветка… Однако вернемся, мы должны быть очень-очень осторожны, больше чем когда-либо… Тут, кажется, уже вооружены против меня.
– А ты заметил?
– Да, конечно, заметил. Ваш beau-frere почему-то терпеть меня не может. А мать, как и вы говорили, смотрит на все его глазами. Мой приезд не нравится и, может быть, придется скоро уехать.
– Ни за что, Казимир, ни за что! – вдруг испуганно, даже бледнея, прошептала Катрин. – Я не пущу вас… Не обращайте внимания, отцу вы очень нравитесь, он рад, что вы приехали… Все обойдется.
– О, желал бы этого! А теперь пойдем же, Катрин!
– Нет, вот сейчас… Тут я покажу беседку… Новая беседка… Прелестная… Вот…
Она вдруг махнула платком по направлению к террасе, сделала знак рукой, поманила кого-то.
– В беседку! – крикнула она. – Владимир! – и почти побежала в аллею.
Щапский нагнал ее.
– Катрин, ты, право, неосторожна…
– Нет, нет, милый, скорее…
Она завернула направо. Дом и терраса скрылись из виду. Она схватила его за руку, увлекла за собою. Они вбежали по мраморным ступенькам открытой, в коринфском стиле, беседки. Перед ними развернулась прелестнейшая панорама зелени. Вдали блеснуло серебристою полосою озеро. Узенькая дорожка, извиваясь, спускалась под гору. Там и сям, из-за зелени, мелькали белые очертания статуй, поставленных на высокие пьедесталы.
Катрин, быстро оглядевшись, сделала шаг к Щапскому, охватила его шею своими тонкими детскими руками, прильнула к нему. Страстный, долгий поцелуй прозвучал среди этой густой, свежей листвы, кое-где пронизанной горячими желтыми пятнами солнца.
– Казимир… Казимир! – лепетала Катрин.
– Ах, как ты неблагоразумна… – тихо повторял он, отвечая на ее поцелуи, тревожно оглядываясь, то привлекая ее к себе, то отстраняя…
VII. Будни
Катрин уже не говорила, что собирается гроза и что в воздухе много электричества. И хотя у нее был, очевидно, жар, потому что лицо и глаза горели, но она не жаловалась на головную боль. Она чувствовала себя такой здоровой и счастливой. Ей только приходилось очень следить за собою, играть ловкую комедию. Но и это ей было не в тягость, потому что такая игра была в ее натуре и только еще усиливала ее счастье.
Владимир не представлял для нее никаких затруднений. Во-первых, он через четыре дня уезжает, а во-вторых, если бы даже он и заметил что-нибудь, так все же, наверное, сделал бы вид, что ничего не замечает. Она ему больше не нужна, точно так же как и он ей. Он требует соблюдения приличий, и она совершенно согласна с этим его требованием – так чего же ей смущаться. Сергей Борисович, безгранично ей доверяющий, – в ее руках. А Борис и Татьяна Владимировна!.. Конечно, они могут быть опасны, конечно, их нужно остерегаться, очень остерегаться, но все же вряд ли они способны на что-нибудь решительное. Они не пойдут прямо, если бы что и заметили, не пойдут уже хотя бы ради Владимира.
Несмотря на все свое легкомыслие, Катрин умела иногда кое-что подмечать и понимать в людях. Но все-таки же она и ошибалась и доказала это тем, что в конце концов себя окончательно успокоила таким рассуждением: «Что же они могли заметить? Конечно, ничего. Положим, тогда, при первой встрече Казимира с Борисом, вышло не совсем ловко… Но Борис всегда такой рассеянный, он ничего не видит… И наконец, если бы заметил, так, наверное, потом как-нибудь проговорился бы. Ведь в нем никакой хитрости нет, ничего удержать не умеет – что на уме, то и на языке… И потом, с его понятиями он бы просто поднял целую бурю!.. Нет, конечно, конечно, он ничего не заметил… Казимир ему не понравился – и все тут… Не понравился ему, значит, не понравился и матери. Но Казимир так умен, разве может он не суметь победить их антипатию, если только этого захочет. Дня два, три – и они все будут от него в восторге… Только бы он подольше остался. Отъезд Владимира не может быть ему помехой. Нужно настроить папа, и это нетрудно…»
Она, действительно, очень легко настроила Сергея Борисовича. Ловкий и умный Щапский хорошо понял, с кем имеет дело. Несколько раз побеседовав с Сергеем Борисовичем, он привел его от себя в совершенный восторг. Между ними произошло такое объяснение:
– Как я рад, что имел случай познакомиться с вами и как благодарю вас за то, что вы к нам заехали, – сказал Сергей Борисович, гуляя с гостем в цветнике. – Знаете, ведь я медведь, не выхожу из своей берлоги. Я иногда совсем от людей отвыкаю. Но я люблю людей и всегда любил… Только теперешние люди, признаться, мне не совсем иногда по вкусу. Вот если бы я в Петербурге встречал побольше таких, как вы, я бы туда частенько приезжал.
– Сергей Борисович, мне, право, совестно, мне кажется, я не стою такого хорошего мнения, хотя оно и доставляет мне много радости! – скромно опуская свои черные глаза, заметил Щапский. – Да и чем же я отличаюсь от теперешних, как вы говорите, людей? Мне кажется, я человек своего времени.
– Не совсем, любезный граф, не совсем! – добродушно улыбаясь, повторял Сергей Борисович. – Вы ясно и глубоко видите… Вот вы сказали очень верные слова, которые я давно, давно повторяю, хотя мне и не верят и спорят со мною… Вы сказали: «Человечество идет не вперед, а в сторону»… Я говорю то же самое!
Бедный Сергей Борисович, конечно, не мог знать, что родной его сын, Владимир, его выдал. Как-то, говоря с Щапским об отце, он сказал: «Чтобы победить отца и сделаться его оракулом, нужно только согласиться с ним относительно того, что человечество идет не вперед, а в сторону – это его любимая формула, его конек, на котором он всегда выезжает». Щапский хорошо запомнил это и убедился, что Владимир был прав.
– Скажите, пожалуйста, – продолжал Сергей Борисович, – какое путешествие предполагаете вы сделать?
– Хочу побывать в Киеве, в Одессе, а оттуда попасть и взглянуть на мою несчастную родину. Я, знаете, не из тех людей, которые всю жизнь будут плакать о потерянном или добиваться невозможного. Я не понимаю многих моих соплеменников… Я хорошо знаю, что прошлого не вернешь и из истории не вырвешь написанную страницу. Но я не могу иногда все же не помышлять с тоскою о славном прошлом моего народа, а главное – я не могу не любить родины… Я давно там не был…
Лицо его сделалось грустным, губы дрогнули. Сергею Борисовичу было его жаль.
– Я понимаю это, – сказал он. – Но, граф, ведь вы не спешите?
– О, нет, у меня время свободное до осени…
– В таком случае, надеюсь, вы не скоро нас покинете!.. Погостите, если вам у нас нравится, как вы говорите, недели три, четыре… Да вот что, знаете, – я вас не отпущу до дня моих именин! Это у нас праздник. Соберутся со всех сторон соседи, вы увидите все здешнее общество. Может быть, это будет для вас и интересно, и полезно – ведь вы, должно быть, очень мало знаете русское провинциальное общество…
– О, конечно, меня очень интересуют здешние люди! Но дело не в этом, я скажу прямо, mon très cher et vénérable monsieur, мне здесь так хорошо у вас и с вами – уезжать не хочется… Верьте, як пана кохам – не хочется!
Он так расчувствовался, что даже бессознательно в свою французскую речь, – так как он говорил по-французски, – два раза ввернул это «як пана кохам», то есть поклялся в истине своих слов, по польской привычке, своею любовью к собеседнику.
– Я ловлю вас на слове… Вы у нас останетесь?
– Остаюсь… И благодарю вас от всего сердца! – растроганным голосом, крепко сжимая руку Сергея Борисовича и обдавая его ласкающим блеском своих глаз, сказал Щапский.
Сергей Борисович был очень доволен. Перед ним мелькали в мечтах приятные разговоры в библиотеке, прерываемые заглядыванием в любимые книги, а также сражения за шахматной доской, так как Щапский был опытный игрок и мог с ним поспорить в искусстве.
Поэтому он был крайне изумлен, когда на другой день после отъезда Владимира в Петербург Татьяна Владимировна спросила его:
– Что же то, разве Щапский остается? До каких это пор?
Он видел, что она недовольна, в ее голосе прозвучала даже резкая нота, которую очень хорошо знал Сергей Борисович, хотя ему и редко приходилось ее слышать.
– А тебе разве неприятно его присутствие, Таня?
– Неприятно, – проговорила она.
– Отчего? Ты меня изумляешь! Чем он тебе мешает?
– Я считаю, что он здесь вреден, – сказала Татьяна Владимировна, все еще довольно спокойно, но очень решительно.
– Вреден – для кого?
– Для Катрин.
– Как? Что ты говоришь?
Сергей Борисович совсем растерялся. Он раскрыл на жену изумленные глаза, он решительно не понимал, что она хочет сказать, что говорит. А она продолжала:
– Я не хотела вмешиваться, я думала, была уверена, что он уедет с Владимиром. Мне тяжело тебя тревожить, Сережа, – ты знаешь, но если я решилась, так ты тоже должен знать, что, значит, это не шутка.
– Ты просто пугаешь меня, и я все же ничего не понимаю.
– Обрати же, наконец, внимание на Катрин, погляди на нее пристальнее – и ты увидишь, увидишь, что она слишком заинтересована Щапским…
Сергей Борисович вспыхнул.
– Я тоже им очень заинтересован, потому что он интересный человек – и это ровно ничего не доказывает. Мне больно, зачем ты обижаешь Катрин – это на тебя не похоже! Я не узнаю тебя… Выкинь из головы такие мысли… Нехорошо… Обидно…
– Не я обижаю ее, а боюсь, как бы она всех нас не обидела…
И говоря это, Татьяна Владимировна сделала такое печальное и страдающее лицо, что Сергей Борисович в волнении поднялся со своего стула и остановился перед нею, то бледнея, то краснея.
– Таня, успокойся, пожалуйста!.. Ты что-нибудь знаешь? Ты могла ошибиться, иногда ошибиться так легко и так ужасно!.. Катрин не способна ни на что такое… Я уверен в ней, я ручаюсь… Да, она, может быть, легкомысленна немного, она так еще молода – у нее детские манеры, иногда совсем ребенок… Но она честная женщина, она любит мужа… Подумай, ведь они так недавно женаты, так молоды оба!.. За что же?.. Нет, нет, Таня, брось это, не мучься и не мучь меня!.. Это было бы так ужасно… Нет, нет, я не хочу этому верить… Я не верю… Слышишь, не верю!..
Он горячился, он почти кричал. Он как будто отталкивал от себя страшную мысль. И он успел оттолкнуть ее.
– Да и наконец, – сказал он более спокойным голосом, – Щапский порядочный человек, он не способен на такую низкую комедию.
– Защищай ее, это я пойму, – перебила его Татьяна Владимировна, – но его защищать!.. Ты будто позабыл все, что испытал в жизни, ты будто совсем не знаешь людей… Как можешь ты за него ручаться – давно ли ты с ним знаком?.. Что он тебе – старый друг, что ли? Да, правда, он ловок и хитер; но разве можно верить хоть одному его слову…
– Отчего же нет?
– Да хоть бы потому, что он иезуит.
– Иезуит, иезуит! – сердито повторял Сергей Борисович. – Пусть иезуит – какое мне дело до его религиозных убеждений!..
– Тебе никогда до этого нет дела – и это-то плохо…
– Да и наконец, – перебил он жену, как всегда перебивал, когда разговор касался этого предмета, – если бы даже твои опасения были основательны, чего я не допускаю, слышишь, не допускаю… не имею права допустить, – так что же мне делать, не могу же я его выгнать из дома без всякой видимой причины, без чего-нибудь предосудительного с его стороны, когда я сам пригласил его остаться.
– Зачем приглашал? Зачем так близорук, что ничего не замечаешь?
– Таня, а вот мне кажется, что ты замечаешь слишком много, и я уверен, что скоро ты сама будешь раскаиваться в своей несправедливости… И знай одно, не заговаривай со мной больше об этом. Я без ясных доказательств никогда ничему дурному о Катрин не поверю. Что же это, в самом деле, такое, так нельзя, нельзя!..
Совсем смущенный и рассерженный, он вышел из комнаты. Но дело было сделано – сомнение закралось. Если бы кто-нибудь иной говорил с ним так, он не обратил бы никакого внимания, он прогнал бы с глаз своих такого клеветника и сплетника, – но ведь говорила жена. Конечно, она не Бог, может ошибаться – и он надеялся, что она ошибается… Но ведь он знал свою Татьяну Владимировну всю жизнь… Он знал, как она осмотрительна, справедлива, как она боится напрасно обвинить людей… Ему казалось, что просто не она это с ним говорила – так это на нее непохоже. Почему же она так говорила? Или материнское чувство увлекло ее? Да, конечно! Самая лучшая мать – и чем она лучше, тем скорее может быть очень пристрастна, очень несправедлива, единственно потому, что она мать…
А все же недавнего довольства, спокойствия уже не было в помине. Сергей Борисович поминутно ловил себя на наблюдениях за Щапским и невесткой. Ему казалось, что он подмечает иной раз быстрые взгляды, чуть ли даже не таинственные знаки, которыми они обменивались… Он сердился на себя. «Да ведь стоит только поддаваться подозрительности – и будет Бог знает что чудиться!» – думал он и покидал свои наблюдения.
Но через несколько часов невольно возвращался к ним снова. Его начинало тревожить, когда он видел, как Щапский и Катрин гуляют вдвоем по цветнику и иногда скрываются вместе в глубину аллей. Он даже несколько раз отправлялся следом за ними и блуждал по парку, останавливаясь, прислушиваясь, подозрительно поглядывая во все стороны. Но они куда-то исчезали, и он долго не мог найти их. А когда находил – они появлялись перед ним веселые и болтали в почтительном друг от друга расстоянии.
– Ах, папа, вот и вы? Неправда ли – как здесь хорошо? – радостно щебетала Катрин, подбегая к нему и беря его под руку.
И, глядя на нее, на ее детские, наивные минки – он успокаивался. Успокаивался – а все ж таки не прекращал своих наблюдений.
И не один Сергей Борисович, но и Татьяна Владимировна, и Борис наблюдали за Щапским и Катрин. Им было противно и мучительно это делать; а между тем они делали это невольно, охраняя честь сына и брата, хотя он и не просил их об этом.
Еще по счастью эти тяжелые дни значительно осветились хорошими известиями, полученными Борисом от княгини Маратовой и Нины. Княгиня писала ему, что деревенский воздух, спокойствие, молоко очень хорошо повлияли на Нину. Она здоровеет с каждым днем, она давно уже не имела такого хорошего вида, как теперь.
Нина писала в том же духе. И из некоторых намеков, заключавшихся в письме ее, Борис мог заключить, что она мало-помалу начинает выходить из-под вредного влияния. Она начинает допускать возможность ошибки в том, что казалось ей небесным откровением. Иначе как же можно было объяснить в письме ее такую фразу: «Мне начинает иногда казаться, – писала она, – что вы, может быть, и правы. Я хотела бы получить возможность не обвинять вас больше в святотатстве. Мне очень часто приходится бороться уже не только с вами, а и с собою… Это было уже, потом прошло, а теперь опять вернулось. Какой-то внутренний голос говорит мне, что мы все ошибались, но такая ошибка… ведь это ужасно! И я все же еще боюсь ей поверить – поверю и погублю свою душу… Этого ли вы хотите?» Борис, конечно, показал эти письма матери. Она прочла их внимательно, в особенности письмо Нины, и долго потом думала.
– Что же вы скажите мне, maman? – спросил Борис.
– А ты сам что себе говоришь?
– Я доволен!
– Еще бы! Мне кажется, она, действительно, тебя любит. И я думаю это не потому, что она так откровенно и просто тебе пишет… А знаешь, в тоне этого письма есть что-то неуловимое… это нельзя объяснить, это чувствуется… Пускай поправляется. Она в хороших руках, и это большое счастье… Но, однако, какая мечтательница! И я мечтала много в молодости, но такою не была никогда и не способна была дойти до этого… Да, Борис, тебе предстоят не одни розы – я верю в твое счастье, но оно достанется тебе с трудом. Ты должен быть очень, очень с нею осторожным. Как бы я хотела ее скорее увидать, разглядеть… до тех пор я все же буду неспокойна…
Была у Бориса и другая переписка. Ему очень часто писал Вельский, писал и Рылеев, и иные из членов «союза благоденствия». Конечно, они не могли доверить много этим письмам; все они, посылая письмо, должны были рассчитывать, что оно, очень вероятно, будет вскрыто и прочтено, прежде чем дойти по назначению. Но все же они умели кое-что дать понять, и Борис догадывался из их хитро замаскированных намеков, что дело их не останавливается, а напротив, идет вперед. Он немало тревожился этим; но что же ему было делать! И мать не раз видела его задумчивым и хмурым.
– О чем ты? Или опять что-нибудь от меня скрываешь?
– Нет, у меня уж ничего нет от вас скрытого… своего! – отвечал он.
Если бы он чувствовал себя заодно с этими горячими головами, если бы он, действительно, примкнул к их делу, – он теперь, не задумываясь, открылся бы матери. Но он считал себя вне их дела и чужою тайной располагать не мог…
Между тем Катрин мало-помалу опять стала выходить из своего радостного состояния. Ее Казимир требовал от нее все больше и больше осторожности и, наконец, объявил ей, что за ними следят все, все без исключения, даже и Сергей Борисович.
– Это тебе так кажется! – уверяла она.
Но он стоял на своем.
– Если говорю – значит, не кажется. И самое лучшее – мне уехать.
– Уехать? Ни за что на свете!
– Я уеду, – повторил он. – Я скажу, что получил неожиданное известие – и уеду; но с тем, чтобы вернуться к пятому июля…
– Зачем? Ну что ж такое, ну пусть следят, если желают. Я никого и ничего не боюсь, когда ты со мною. Для меня тогда ничего другого совсем не существует. Слышишь! Разве тебе этого мало? Забудем о них о всех!..
Он, конечно, забыл бы, ему, в сущности, до всех этих людей было мало дела; он не чувствовал в себе такой Щепетильности, которая бы мешала ему наслаждаться жизнью, видя, что его присутствие неприятно хозяевам Дома, в котором он живет. С ним любезны, ему ни разу не сделали никакого намека, самолюбие его ничуть не страдает… Но дело в том, что ему уже становилось скучно с Катрин. Она ему сначала очень понравилась. Он еще прошлого осенью ее наметил и скоро убедился, что произвел на нее неотразимое впечатление. Это было ему не в диковинку. Он привык, что все женщины, на которых он обращал внимание, перед ним таяли. Весь вопрос был во времени. Но, во всяком случае, вся эта борьба была только игрою, и чем меньше оказывалось в женщине лицемерия – тем скорее игра прекращалась.
Катрин не хотела лицемерить… Но она была слишком мелочна, слишком пуста. Одного кокетства, и, вдобавок, очень однообразного, ему недостаточно. Все эти сентиментальности (а Катрин, за отсутствием чувства, была порою очень сентиментальна в этом первом своем любовном похождении) становились для него слишком пресными.
Он подумал, что можно разнообразить свое свободное летнее время, и решился уехать. Ни мольбы, ни слезы в глубине парка его не остановили. Он обещал непременно вернуться к пятому июля, дал слово. Пришлось согласиться. Но, впрочем, Катрин видела, что с ним нелегко сладить. Она даже на него рассердилась и простилась довольно холодно. После его отъезда она весь день обдумывала, как бы отомстить ему, как бы заставить его вымаливать прощение.
«Нужно будет возбудить его ревность!»
Она решила непременно сделать это, когда он вернется.