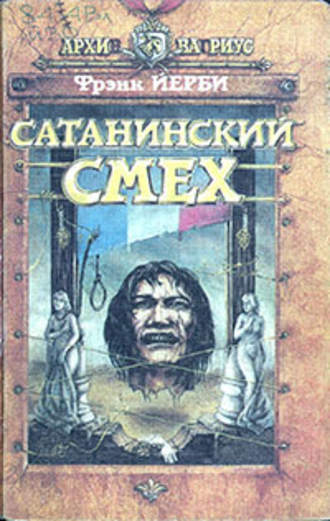
Фрэнк Йерби
Сатанинский смех
– Да… но я не улавливаю вашу мысль, месье Марен. Какое отношение имеют тормоза и кареты к тому, о чем я говорю?
– Ваше Величество, я и люди, подобные мне, являемся тормозами нации. Без нас Франция скатится сломя голову в анархию. А мы можем действовать только внутри Собрания. Вот почему я здесь: просить Ваше Величество отказаться от естественного и вполне понятного негодования и использовать нас.
– Любопытное сравнение, – проговорила королева вполголоса. – Что вы скажете, д'Аремберг?
– Совершенно верно, моя королева, – улыбнулся герцог.
Жан поторопился использовать завоеванное преимущество.
– Ваше Величество сказали о нашем заговоре против блага Франции. Моя миссия и мое самое сокровенное желание убедить вас в том, что наши намерения совершенно иные. Рискуя вызвать неудовольствие его светлости, месье герцога, я должен заметить, мадам, что это именно аристократы были злейшими врагами короны. Выслушайте меня, моя королева! Не намеренно, не из вражды, а из-за глупости, расточительства они привели Францию на грань пропасти. Народ не сам пришел к революции, его подтолкнули! В настоящее время он похож на лошадей, которые сорвались с узды, мчатся как безумные к анархии, к полному разрушению всего, что для нас – для моих друзей и для меня, так же, как и для вас и для аристократов, моя королева, – самое дорогое…
– Вы красноречивы, – заметила королева.
– Благодарю вас, Ваше Величество, – улыбнулся Жан. – Хочу, чтобы Ваше Величество убедилось в том, что вы можете располагать нами. С того дня, как пала Бастилия, бегство аристократов из Франции усилилось. За последнее время даже люди доброй воли и консервативных убеждений настолько затравлены, настолько запуганы, что в Национальном собрании не осталось никого из правых сколько-нибудь порядочных, честных консерваторов, и только несколько разрозненных умеренных стоят против неистового стада… Корона должна иметь друзей в Собрании, я не могу выразить это резче. К сожалению, друзей, которые есть у Вашего Величества, вы отвергли…
– Вы, конечно, имеете в виду, – напряженным голосом произнесла королева, – де Лафайета и Мирабо.
– Да. Вы считаете их обоих предателями, потому что они пошли против своего сословия. Но, моя королева, сто тысяч аристократов еще не Франция! Есть более высокий долг – долг перед нацией, перед двадцатью четырьмя миллионами подданных Вашего Величества! Ваше Величество должны знать, что существует движение, ставящее своей целью покончить с монархией и установить республику. Мирабо, которого вы презираете, моя королева, один, с некоторой помощью умеренных, вроде меня, приостановил это движение. Подумайте, Ваше Величество, о силе характера человека, когда корона, которой он хочет помочь, отказывается от него, а он тем не менее продолжает помогать короне, несмотря на ее неприятие и пренебрежение…
– Вы хотите, чтобы я встретилась с графом де Мирабо? – спросила королева.
– Да, Ваше Величество, – проговорил Жан негромко, – ради этого я здесь.
Королева задумчиво нахмурилась. Потом очень медленно улыбнулась.
– Хорошо, месье Марен, – мягко сказала она. – Передайте этому чудовищу, я встречусь с ним…
Она встала, и Жан понял, что аудиенция окончена. Он еще раз поклонился, поцеловал ее руку и стал отступать к калитке.
– Вы можете повернуться и идти нормально, – сказала королева, – здесь слишком темно для такой учтивости. Но я благодарю вас, месье Марен, за это – так мало людей, которые сегодня заботятся о соблюдении даже самых необременительных форм этикета. Думаю, я кое-что потеряла, так мало соприкасаясь с моими лучшими буржуазными семьями. Ваши манеры и происхождение, месье Марен, достойны герцогского титула. Не так ли, д'Аремберг?
– Вы совершенно правы, моя королева, – отозвался герцог.
– Благодарю вас за ваше терпение, Ваше Величество, и вас, милорд, за вашу любезную помощь. До свидания, ваш слуга, мадам!
Когда Жан Поль возвращался из Сен-Клу, он сообразил, что не обратил внимания на детали ее туалета, чтобы удовлетворить жадное любопытство Люсьены.
“Ладно, – подумал он, – я могу и так достаточно рассказать ей…”
В конце концов все кончилось, и судьба французского народа изменилась – сломалась из-за вмешательства рока в дела людей. Верная своему обещанию, королева приняла Мирабо, хотя эта встреча очень долго откладывалась из-за того, что старый лев вновь заболел.
– Она была, – рассказывал Мирабо Жану ослабевшим, когда-то громовым голосом, – очарована мною. Теперь, теперь мы завершим наше дело. Мы можем спасти Францию…
Но 4 апреля 1792 года Габриэль Оноре Ри-кети, граф де Мирабо, депутат Национального собрания, сбил с толку весь мир и все вероятные планы спасения монархии простым актом своей смерти.
Жан был около него до самого конца и плакал, ибо смерть Мирабо была столь же внушающей ужас, столь же достойной обитателей Олимпа, как и вся его жизнь. Благородный лев третьего сословия утратил всякую надежду, а только он мог спасти корону. Он знал это, знал это и Жан Поль Марен, весь мир это знал. Красивый, самовлюбленный генералиссимус де Лафайет не годился для такой задачи. Достаточно храбрый, достаточно великодушный, но слишком запутавшийся в долгах, в связях. Таково было суждение Мирабо, и Жан Поль не мог не согласиться с ним.
И тем не менее, когда Мирабо приходил в сознание, он требовал от своей маленькой группы, чтобы она продолжала действовать. Отчаявшись сам, он не позволял им впадать в отчаяние. В Австрию пошло письмо с требованием Ренуару Жераду вернуться. Но, учитывая кружные пути, которыми пересылалось это письмо, и предосторожности, предпринимаемые, чтобы оно не попало в чужие руки, Жан знал, что пройдет несколько месяцев, прежде чем его старый друг сможет вернуться во Францию.
В эти месяцы жизнь шла, как и раньше: одни волнения сменяли другие. Даже странно, задумывался Жан Поль, что скука, порождаемая постоянным возбуждением, становится такой же утомительной, как любая другая. Теперь мы зеваем при виде проливаемой крови, выстрелы и крики в ночи более не будят нас…
– Тебя ничто не может разбудить, Жанно, – рассмеялась Люсьена, когда он высказал ей эту мысль, – даже я. Что случилось с тобой, мой дорогой? Или ты вдруг постарел?
– Нет, – улыбнулся Жан, – просто устал от напряжения, которого я не могу выдержать. Это усталость сердца, усталость духа. Когда умер Мирабо, я потерял надежду, и это подавило меня. Знаю, что физически я не устал, но моя голова и мысли в ней весят тонны…
– Ты… ты беспокоишься за королеву? – спросила Люсьена.
– Да, она не видит никого из нашей группы. Мы боимся, что она прислушивается к другим советчикам, которые причиняют ей вред. Что-то затевается, мы это знаем. Какие-то люди приезжают, уезжают – таинственные личности, которых допускают в королевские апартаменты только по запискам… Неужели они окончательно решили бежать? Они должны были пойти на это давно, до смерти Мирабо. И эта великолепная желтая карета, – они не могут быть настолько глупы!
– О, я думаю, нет! – весело отозвалась Люсьена. – Жанно, неужели ты не понимаешь, что это просто отвлекающий маневр? Великолепная желтая карета с перьями и стеклами, и все канальи, как сумасшедшие, скачут за ней в должном направлении, в то время как старенькая темная колымага проскрипит в безопасности и никто ее не будет преследовать?
Жан уставился на нее.
– Будь прокляты мои глаза, Люсьена! – воскликнул он. – Уверен, ты права!
– Конечно, права, дорогой, – рассмеялась она. – А теперь передай мне нож для разрезания конвертов. Мне надо просмотреть свою почту…
– За последнее время ты стала получать много писем, – недовольно заметил Жан. – Из какого это города тебе пишут?
– Что такое, Жанно? Каким ты стал подозрительным. Никогда раньше ты не задавал мне таких вопросов.
– Откуда письма? – с мрачным спокойствием повторил Жан.
– Если уж ты так хочешь знать, они из Австрии. Но не от Жерве, мой ревнивец. Посмотри сам – видишь, это женская рука?
– Вижу, – ответил Жан, – но почему ты вообще получаешь письма из Австрии?
– Глупец, эти письма от маркизы де Форетвер. Она мой друг. Перед революцией многие важные дамы стали вполне демократичны. Бедняжка Софи завидует мне и обожает меня. Уверена, она, не задумываясь, поменялась бы со мной местами. Последнее время она просто умирает от желания знать парижские новости и часто пишет мне. Я отвечаю ей, как могу. Сам понимаешь, моды и всякие другие женские глупости, у кого новый любовник, может ли возродиться светская жизнь в таких трудных условиях…
– И ни слова о Жерве ла Муате? – сухо спросил Жан.
– Конечно, нет! Иногда ты меня ужасно утомляешь, Жанно! Австрия большая страна. Софи никогда и не встречала его…
– Посмотри на меня, – мягко сказал Жан, – ревность жалкое чувство. Однако я должен возвращаться в этот несчастный зал, полный шума и ярости, где никогда ничего не доводится до конца…
Люсьена вдруг оторвалась от письма, лицо ее побледнело.
– Жан, – прошептала она, – когда возвращается Ренуар Жерад?
В ту минуту Жан не смотрел в ее сторону, но что-то в ее голосе заставило его обернуться. Кроме того, он немного замешкался, и она уже успела взять себя в руки. В этом ей не было равных.
– Не знаю, – ответил Жан. – У нас нет возможности поддерживать связь с ним непосредственно. Но мы ожидаем его со дня на день. Почему ты спрашиваешь?
– Софи… упоминает о нем в своем письме, вот и все. Просто немного странно, что она должна…
– Странно? – отозвался Жан. – Хуже, чем странно. Значит, Ренуар где-то оступился и дал себя опознать. Она упоминает его по имени?
– Да. Она пишет, что полиция подозревает его. Ты… ты хочешь прочитать ее письмо?
– Нет, – сказал он, – оно только нагонит на меня скуку.
На этот раз мимо его внимания не ускользнуло облегчение, мелькнувшее в ее глазах.
Здесь что-то затевается, мрачно подумал он, могу держать пари, она переписывается с ла Муатом через эту женщину. Сейчас нет времени заняться этим. Отложу до вечера…
Но это был вечер двадцатого июня 1791 года, и предназначался он совсем для других дел, чем предполагал Жан.
Он сидел на своем месте в Собрании, когда посыльный принес ему записку. Было уже довольно поздно, но бурные заседания Национального собрания частенько затягивались на двенадцать, а то и восемнадцать часов. Он распечатал записку и прочитал: “Жду тебя на улице. Необходимо срочно увидеться”. И подпись: “Р. Жерад”.
Жан схватил шляпу и трость и сразу же вышел.
Ренуар Жерад даже не спешился. Его покачивало в седле от усталости, лицо было покрыто таким густым слоем пыли, что зубы, когда он улыбнулся, ярко блеснули.
– У тебя есть лошадь? – прохрипел он.
– Есть, но не здесь, – ответил Жан. – Я оставил ее дома, а сюда приехал в фиакре. Но это не займет много времени…
– Тогда садись сзади меня! Сегодня ночью нам предстоит адская гонка…
Жан изумленно уставился на него.
– Ты не в состоянии скакать, – объявил он. – Скажи, что нужно сделать, и я сделаю.
– Нет, мы оба и еще столько людей, сколько мы сможем собрать… должны перекрыть абсолютно все дороги, расходящиеся из Парижа, подобно вееру.
Жерад нагнулся, его губы почти коснулись уха Жана.
– Королевская семья, – прошептал он, – сегодня ночью бежит из Парижа!
– О, Боже! – вырвалось у Жана. – Но, Ренуар, разве мы сами не хотели, чтобы они бежали?
– Не сейчас и не таким образом. Наши королевские идиоты, несмотря на все наши советы, направляются в Мец! Эмигранты взяли верх. Королева к ним прислушивается. С того дня, как я узнал о смерти Мирабо, я понял, что у нас нет шансов. Я старался выиграть время, но они опередили меня…
Жан шагнул на середину улицы и остановил проезжавший фиакр.
– Садитесь, – предложил он, – а вашу лошадь мы можем привязать сзади. Бедное животное совершенно загнано. У меня для вас есть другая лошадь и бочонок с вином. А мы сможем поговорить, пока едем. Так вы говорите, эмигранты обошли вас?
– Не все, – мрачно ответил Жерад, – а только один, твой старый друг Жерве ла Муат.
– Де Граверо! – прошептал Жан. – Во имя Господа Бога, Жерад, каким образом?
– У него есть какой-то источник информации здесь, в Париже. Не знаю, кто это или как он получает эти сведения, но, пропади мои глаза, Жан, он узнает о том, что собирается предпринять Собрание, раньше, чем я. И что еще хуже, он знает все планы нашей группы. Вот что сбивает меня с толку: у него может быть дюжина путей узнать про политические тенденции – заседания проходят в присутствии публики, – но как, во имя нечистой силы, он узнает о наших планах?
Жан сидел неподвижно, глядя прямо перед собой. Он не двигался и не открывал рта. Он просто сидел в фиакре, ехавшем по одному из прекрасных бульваров Парижа, и умирал в сердце своем от медленной и жестокой пытки.
Ее губы у моих губ, шепчущие ужасные изумительные слова. Ее руки, ее руки, все ее тело, белоснежное, пылающее внутри, медленно ласкающее мое тело, нежные движения, сладостные движения, ускоряющийся ритм этих движений, это уже вихрь, это уже бешеная скачка, мучительно сладкая, извергается поток лавы, обжигающий, обволакивающий меня, покрывающий с головой, разрушающий меня, ввергающий в ад агонией слишком сильного наслаждения, в непереносимый экстаз, лишающий меня разума, моей души, оставляя меня без сил, между сном и пробуждением – ради чего?
Ведь эти вопросы, так невзначай, так легко задавшиеся, и это искусное женское притворство – якобы она не понимает, выкачивая из меня все, что ей нужно, с такой легкостью, с такой проклятой легкостью, смеясь в глубине своего ненасытного тела над этим большим и неуклюжим дураком, которого она дважды предала: когда-то предала телом, а теперь еще хуже, в миллион раз хуже, – в душе…
Если она дома, подумал он с ужасным спокойствием, я убью ее. Если меня даже за это повесят, я заслуживаю такой кары, ибо я виноват так же, как она, нет, больше, потому что из-за своей похоти и глупости, из-за того, что уступил своей слабости и опустился до уровня животного, я, Жан Поль Марен, предал Францию!
– Почему ты молчишь? – спросил Ренуар Жерад.
– Задумался, – отозвался Жан. – Но вы не беспокойтесь, я все устрою…
Дома ее не было. Как только он перешагнул через порог, сразу понял, что ее нет. Она не ушла в Оперу, а уехала, сейчас она уже покинула Париж, а еще через два дня будет за пределами Франции. Из гардероба исчезло несколько ее простеньких платьев. Маленький шкафчик тоже был пуст: чулки, белье – все исчезло. Ее чемодан и его…
Потом он заметил на камине записку. Он, не читая, сунул ее в карман. Потом ровным, неживым, спокойным голосом приказал служанке подогреть воду для Жерада, принести бритву и приготовить что-нибудь поесть.
– У нас нет времени, – сказал Жерад, – они…
– Время еще есть, – сказал Жан. – Они не поедут быстро.
– Ты так уверен, – вздохнул Жерад. – Ладно, тогда я помоюсь.
Он отправился в ванную, а Жан вскрыл записку.
“Мой Жанно, – читал он, – которого я никогда не переставала любить и у которого я
даже не могу теперь просить прощения, поверь одному – я люблю тебя. Я опять предала тебя, да, но по причинам, не уступающим твоим: я люблю Францию – старую Францию, великую Францию, которую ты, мой любимый, помогал разрушить. Ненавижу то, что делаю, но это должно быть сделано. Потому что я сражаюсь за нечто более значительное, чем наши с тобой отношения, более важное, чем счастье любого человека и даже его жизнь. Если бы мне приказали, я убила бы тебя и даже себя. Хотя ты и избрал неверный путь, ты настоящий патриот и, думаю, поймешь это…
Пишу и плачу, слезы ослепляют меня, они исходят из моего сердца, и они почти как кровь. Пока ты жив, верь в одно – когда я приходила к тебе, когда я обнимала тебя, принимала в свое тело, это были не ложь и не предательство, это я, любя тебя, желала тебя, как и буду желать до последнего дня, пока не умру и не освобожусь от всех желаний. Даже то, что я делала потом – расспрашивала, добивалась информации, предавала твое спокойное, мужское доверие ко мне, – не может осквернить этого.
Ты никогда больше не увидишь меня, и, зная это, как я знаю, что ты никогда, никогда не простишь меня, остаюсь твоя безутешная Люсьена”.
Жан застыл на месте, уставившись в записку широко раскрытыми глазами. Затем очень медленно взял свечу и поднес ее к листку. Он смотрел, как он сворачивается, становится коричневым, как желтые язычки пламени пожирают бумагу, и его глаза оставались ясными и очень серьезными. Он держал листок в руке, пока огонь не коснулся кончиков пальцев, не чувствуя боли, потом выпустил листок, глядя, как он переворачивается в воздухе медленной спиралью дымка и огня, пока он не упал на пол, превратившись в горстку пепла.
Через полчаса он сидел в седле, направляясь к фламандской границе, в сторону Брюсселя. Он полагался на идею Люсьены, что большая желтая карета только маскировка. Ренуар, непоколебимо веровавший в непреодолимую глупость людей, даже королей, не поверил в такую возможность. Он поскакал по другой дороге – на Варенн, в направлении Меца. Вот и получилось так, что неутомимый бывший комендант Прованса прискакал как раз вовремя, чтобы увидеть пленение короля и королевы. Ибо Жерад был прав: толстяк Людовик и его гордая королева оказались неспособны отказаться от привычных штампов мышления. Как он и предполагал, даже в бегстве они не могли отказаться от лакеев, ливрей, роскошной кареты, эскорта, разбудившего все окрестности своим конским топотом, от всей пышности и блеска их величия, которые в итоге оказались для них ловушкой, западней. Они даже не подумали о том, чтобы ехать кружным путем, а маскировка их была вовсе жалкой. Старому драгуну Друэ, почтмейстеру в Варение, понадобилось только поискать в карманах новый ассигнат и сравнить портрет, напечатанный на нем, с толстой, сонной физиономией, чтобы узнать короля. С этого момента королевская власть во Франции была обречена.
А Жан Поль Марен, считавший, что он умнее, скакал на север. Когда в конце концов не одна, а две зашарпанные кареты именно такого типа, как он и ожидал, въехали в сонную деревню, он тут же узнал в одной из них графа Прованского, брата короля, и мадам, его жену, в другой. Соблюдая строжайшую конспирацию, они смотрели друг на друга, делая вид, что не знакомы, пока меняли лошадей.
Жан видел их, но не тронулся с места. Удастся ли бежать графу Прованскому и его жене, никак не влияло на судьбу Франции. Рад, подумал Жан, видеть, как они уезжают. Они хорошие люди, и их смерть никому не принесет пользы. Жан вновь сел в седло и собрался возвращаться в Париж, когда мадам, измученная жаждой, послала свою служанку с хрустальным бокалом к водяной колонке.
Чертовски приятная служанка, подумал он, глядя, как она направляется в его сторону, высокая, гибкая, как ива, с рыжеватыми волосами…
Потом он замер, глядя на нее в упор, прямо в ее карие глаза, расширившиеся от ужаса. Она замедлила шаги и остановилась, пока мадам, высунувшаяся из окна кареты, не окликнула ее:
– Поторапливайся, девушка!
– Да, да, – насмешливо сказал Жан, – поторапливайся!
Он запрокинул голову и разразился раскатами дикого, демонического хохота, звук которого волнами окатывал ее, горький, безрадостный, насмешливый – в нем было нечто звериное и одновременно сверхчеловеческое. А она стояла, дрожа под накатами этого смеха, с белым, как у привидения, лицом, пока Жан не приподнял свою шляпу и не сказал, обращаясь к ней:
– Иди, ведьма, ты не должна заставлять ждать графиню Прованскую!
Потом он рванул поводья с такой силой, что его лошадь заржала, повернул ее на юг и поскакал в направлении Парижа, оставляя позади себя эхо сатанинского хохота.
Люсьена еще долго стояла после того, как он уехал. Затем она подошла к колонке и вернулась к карете с водой. Вода была кристально чистая, прозрачная.
Но и вполовину не чище и не такая сверкающая, как ее слезы.
12
Жан Поль сидел на краю постели, обхватив руками голову и как бы баюкая ее. Тишина в квартире подбиралась к его нервам миллионами крошечных шажков. Здесь ничего не изменилось – занавеси, драпировки, часы на камине, каминный экран, – каждый из двух дюжин предметов обихода напоминал об изысканном вкусе Люсьены и сквозь тишину кричал, шептал ее имя.
Надо уехать отсюда, подумал он. Надо вернуться в свою старую квартиру на улице Сент-Антуан, но это значит, что я каждый день буду видеть Пьера, Марианну и Флоретту… О, Боже, сколько всего намешано в человеке! Меня уважали за храбрость, потому что я не боялся физической боли и даже угрозы смерти. Но это то мужество, которого у меня нет. Вернуться к ним, сказать, что я сожалею, что я был не прав – это нетрудно или должно быть нетрудно. Но я не могу…
Идти туда по собственной воле и скромно просить прощения – это одно дело, и, по-своему, это было бы очень хорошо…
Но приползти сейчас, потерпевшим поражение, преданным, опустошенным – именно так, как они предрекали, – эффектно сказать своим друзьям: “Я ушел от вас гордый, упрямый, а теперь возвращаюсь к вам, к своему запасному варианту, потому что у меня ничего не осталось, потому что обнаружил, что одиночество мое невыносимо” – могу ли я оскорбить их сильнее? Нет, я должен найти себе другое место, которое не будет постоянно напоминать мне былое, вести другую жизнь, менее насыщенную, попроще, в которой не будет ни больших радостей, ни больших огорчений и которая принесет мне ощущение мира и покоя…
Он встал и подошел к окну. Воскресенье, 17 июля, подумал он. Прошло меньше месяца после бегства Люсьены, а для меня это столетия, века молчания, одиночества. Человек должен получать хоть какое-то удовлетворение от жизни, я это знаю. Но за всю свою жизнь мне это удавалось так редко: один час, один день с Николь, разговоры с бедной маленькой Флореттой, месяцы, прожитые с Люсьеной, но даже это выглядит сейчас подделкой, обманом, кражей всего, что придавало жизни великолепие, или достоинство, или радость…
Моя работа? Что это была за ловушка и обман – все эти тайные встречи с Пьером, эти ночные поездки, отчаянное волнение от сознания того, что играешь какую-то роль в судьбе страны и ее истории, рискуя всем: состоянием, свободой, даже самой жизнью во имя идеи… Существует ли на свете более пьянящее вино?
Посмотреть на все это сейчас! Тирания королей кончилась. Вероятно, только для того, чтобы на ее месте возникла другая, еще худшая. Ибо при всей своей путаной некомпетентности толстый Людовик человек добрый, но какое добро живет в сердцах Дантона, молодого Демулена, скользкого Робеспьера, больного Марата? Лучше уж было бы оставить все, как было, ибо на каждое прежнее зло мы выпустили десять тысяч новых зол. Тогда потребовался плохой урожай, чтобы подорожал хлеб – теперь подорожало все, вне зависимости от того, плохой урожай или хороший. Страна завалена ничего не стоящими ассигнатами, дороги полны патриотами-разбойниками, так что провезти в Париж любые продукты или товары можно только под охраной… Теперь каждый полагает себя государственным человеком, королем, а убийства и насилия стали обычным делом…
И за это я и люди, подобные мне, несем ответственность – нет, даже вину. В своем тщеславии мы высвободили ураган, думая, что мы боги, что мы можем противостоять буре. А в итоге те самые силы, которые мы выпустили, разрушат нас, одного за другим, и это будет только справедливо, но заодно они погубят и Францию, а это уже чудовищно.
Он вздохнул и отвернулся от окна. Все жизненные усилия сводятся в конце концов к тому, что человек движется к смерти.
Улица внизу была заполнена людьми. Он знал, куда они все идут – на Марсово поле, где кордельеры и якобинцы воздвигли грубо сколоченный деревянный Алтарь Отечества. На нем лежал огромный свиток, на котором они надеялись получить тысячи подписей и десятки тысяч крестиков, старательно выведенных теми, кто не умеет писать.
До двадцать первого июня такой замысел со сбором подписей был немыслим, но теперь, после колоссальной глупости с попыткой бегства короля, Эбер, Дантон, Марат, Робеспьер и другие могли смело выступить с идеей, владевшей ими с самого начала. Свергнуть короля! Сделать Францию республикой!
Абстрактно рассуждая, идея хорошая, думал Жан, беря шляпу, трость и пистолеты, но требуется, полагаю, одно обстоятельство: чтобы иметь республику, надо иметь республиканцев, а не этих пьяных безумцев, которые маячат на переднем плане, и не тот визжащий, немытый сброд, ставящий крестики под этой петицией. Достоинство, спокойствие, умение смотреть вперед, решимость – где все это в сегодняшней Франции? Куда девалось в реальной жизни бескорыстие, где он, отказ от личных интересов? Каждому из этих кровожадных, взбесившихся республиканцев на самом деле совершенно не нужна республика, а нужна только возможность, не откладывая, ухватить власть, богатство, славу своими грязными лапами. И ведь этому я тоже, будь проклята моя дурацкая душа, способствовал!
Он водрузил свою шляпу с высокой тульей на голову и спустился по лестнице. Очутившись на улице, он немедленно оказался в водовороте толпы; его сразу же захлестнула тугая волна мерзейших запахов, один хуже другого; его ударяли, толкали грязные, вшивые грубияны, гогочущие беззубые старые ведьмы, большинство в красных колпаках; у всех были трехцветные кокарды, в разной степени испачканные грязью. Он слышал реплики по поводу своей нарядной одежды и аристократической внешности, но он отталкивал их от себя руками с такой силой и затем обращал к ним свое страшное лицо так грозно, что они шарахались и пропускали его. “Мое наводящее ужас лицо, – подумал он насмешливо, – мое лучшее оружие…”
Толпа заполняла Марсово поле, распевая их ужасный гимн “Ca ira”:
Это будет, будет, будет,
Аристократов на фонарь!
Это будет, будет, будет.
Аристократы, мы всех их повесим!
Да, это будет!
Люди выстраивались в длинные очереди, чтобы подписать петицию. Ее главные авторы Робер, Шомет, Анрио, гнусный Эбер, Коффиналь и Монморен стояли рядом с деревянным алтарем и наблюдали. Однако Дантон, Марат и Робеспьер, которых Жан хорошо знал и которые оказали большое влияние при написании петиции, либо отсутствовали, либо скрывались за спинами толпы.
Эх, вы, гончие псы, нюхаете ветер! Жан мысленно посмеялся над ними. Ветер унесет запах раньше, чем вы покажете свои клыки…
Он стал в стороне, наблюдая. Группа молодых женщин поднялась к алтарю. Все они были юные и прелестные. Сердце Жана пронзила боль, когда он узнал в них бывших коллег Люсьены по Опере. Они были, как обычно, озабочены тем, чтобы быть на виду, устроить спектакль из своего патриотизма, потому что, поскольку их знатные любовники сбежали, им надлежало заставить публику как можно скорее забыть их вполне заслуженную репутацию игрушек аристократии.
“Сколько среди вас, – подумал Жан, – к тому же шпионок и изменниц? Я бы удивился, если…”
Ему так и не удалось додумать эту мысль. Одна из девушек вдруг пронзительно завизжала. Жан видел, как она подняла левую ногу и скачет на правой.
Толпа с ревом подалась вперед. В две минуты они почти разломали алтарь и вытащили из-под него двух несчастных, один из которых все еще держал в руке шило.
– Шпионы! – ревела толпа. – Шпионы Мотье! Прихвостни генерала Лафайета! Смерть им!
Глупцы, подумал Жан, они не понимают, что у этих вонючих червей не было иного намерения, кроме как украдкой глянуть женщинам под юбки. Для этого они и сверлили дырки. Бедняги, как еще они – один слепой на один глаз, другой на деревянной ноге – могут каким-либо другим образом бросить взгляд на женскую плоть? И из-за этого слабоумия умирать!
В том, что они умрут, сомневаться не приходилось. Этим двум грязным старикам не дали даже объяснить ничего про их распутство импотентов. Они были убиты не сразу только потому, что оказалось слишком много желающих выступить в роли палачей. Парижские головорезы сражались, как звери, за привилегию убить двух безвредных старых дураков. Их вырывали друг у друга разные компании, их одежда была разорвана и в крови от сотен ударов.
В конце концов человек сто хулиганов из Сент-Антуанского предместья взяли верх. Через две минуты оба любителя подглядывать кончили свою жизнь на веревке, перекинутой через фонарный столб. Было что-то непристойное в том, как дергались их тела: они стукались друг о друга, крутились, бородатые челюсти отвисли, грязные сероватые лица медленно становились синими, потому что убийцы не умели завязать петлю как следует, чтобы она сдавила шею надлежащим образом и вызвала тем самым мгновенную смерть. Поэтому старики умирали от удушья медленно, а толпа улюлюкала и хохотала.
Жан Поль отвернулся от этого зрелища, он испытывал приступ тошноты. Хотя ему часто приходилось видеть в Париже акты произвола толпы, у него это все еще каждый раз вызывало отвращение. Он не хотел видеть завершения этой сцены, но остался там, повергнувшись к происходящему спиной, пока новый всплеск криков не возвестил, что все кончено тем единственным способом, каким парижские гуляки обычно завершали всякое дело. Когда он взглянул в ту сторону, толпа уже уносила на пиках две кровоточащие головы.
Толпа расступалась, давая дорогу владельцам пик с их ужасными трофеями. Жан увидел, как какой-то мужчина потянул в сторону молодую женщину, которая стояла на их пути. На какое-то мгновение Жан удивился поведению женщины, прежде чем узнал ее.
– Флоретта, – пробормотал он. – Благодарение Богу, что ни Пьер, ни Марианна не видят меня здесь…
Его слова оборвал далекий гул орудийного залпа. Он поднял голову и, нахмурившись, стал прислушиваться. Как он и ожидал, через несколько секунд донеслась отдаленная барабанная дробь.
Прибыла Национальная гвардия, чтобы покончить с беспорядками. Это был предупредительный орудийный залп, провозгласивший своим медным гулом введение военного положения. Жан еще раз посмотрел в сторону Флоретты. Здесь может произойти кровопролитие. Пьер должен понимать это и немедленно увести отсюда обеих женщин. Жан начал проталкиваться к ним, но это оказалось трудным делом. Когда до них оставалось уже недалеко, он остановился. Ему не хотелось сейчас с ними разговаривать, более всего на свете он желал избежать этой встречи. Но надо было держаться поблизости от них. В случае возникновения беспорядков они будут нуждаться в его помощи. Он выжидал.
Ждать ему пришлось недолго. Перед строем Национальной гвардии появился на белом коне Байи, мэр Парижа, с красным знаменем в руке, означавшем введение чрезвычайного положения. Рядом с ним ехал Лафайет, а за ними шагали шеренги национальных гвардейцев.



