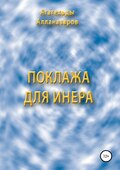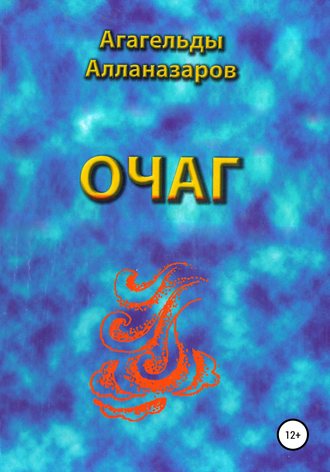
Агагельды Алланазаров
Очаг
Сапар-дараз, хотя и не очень понимал, что происходит в стране, был одним из тех, кто со своей парой волов вступил в колхоз.
На своих волах он вспахивал колхозную землю, сеял, выращивал урожай и тем кормился. По тому, с каким жаром он рассказывал всё это, было ясно, что он только что схватился с Ягды, поругался с ним.
Из слов Сапара, дараза Джемал мама поняла, что он обижен на Ягды и раскаивается в том, что вступил в колхоз. Она постаралась успокоить его:
– А может, колхоз и должен быть таким? Вы ведь и раньше помогали. Если колхозники не успевали закончить газы – очистку оросительных сетей, вы шли помогать. А когда вам нужна была помощь, они к вам приходили. Примерно так всё делается.
Вспомнив о том, что она собиралась заодно и свои чувалы забрать, Джемал мама, расспросив Сапара дараза, вошла во двор приёмного сарая. В это время глава сельсовета Ягды стоял возле арбы, которую загружали зерном, и беседовал с ещё двумя мужчинами. Сунув одну руку за плотно затянутый широкий ремень, немного наклонившись, что-то объяснял заведующему этим складом зерна, разговаривал с круглоголовым человеком в тюбетейке. В сторонке от них третьим стоял незнакомый смуглый человек в сталинской фуражке. Это был спецпосланец райкома, приехавший из города в Союнали специально для того, чтобы проследить за тем, как идёт отгрузка зерна. Не вмешиваясь в разговор Ягды с его собеседником, он стоял молча и только на губах его играла чуть заметная усмешка.
Заметив приближающуюся к ним Джемал маму, они замолчали, решив вначале выслушать её. Выражение лица Джемал мамы не понравилось Ягды, он насупился. Убрав руку с пояса, носовым платком вытер вспотевший лоб.
– Ягды, я решила повидаться с тобой, поэтому и пришла сюда!
– А что вас привело ко мне? – для приличия спросил глава сельсовета, хотя прекрасно понимал, для чего эта старая женщина пришла к нему.
– Ты вроде бы привёз из города какие-то вести о ссыльных, так? Уже кого-то из них расстреляли, кого в Сибирь отправили, словом, уже решили их судьбу. Вроде бы это ты говорил, вот я и решила услышать обо всём этом из первоисточника. Видишь, не смогла усидеть дома, пришла к тебе. Послать к тебе было некого, дед на бахче, да и не хочется ему возвращаться в село…
– Ай, у меня, старая, для тебя утешительных вестей нет, вернее, мне вообще нечего тебе сказать. Правда, на собрании один из руководителей сказал, что они отправились в сторону Сибири. Но куда именно он не называл, так что, прости, ничем тебе помочь не могу, – выдавил из себя Ягды.
Ягды вспомнил то собрание, на нём первый секретарь райкома заявил, что проделана большая работа, и они избавились от тех, кто тормозит развитие советского государства, при этом выразил огромную благодарность Ягды за проявленную им в этом деле активность. Ничего он этого не сказал старой матери, постарался немного смягчить её сердце, как-то успокоить. Но мать была неутешна, тоска терзала её душу. Сейчас по её жилам текла не кровь, по ним бежал огонь, он сжигал её изнутри. «Похоже, люди ничего не придумали, всё, что они говорят, правда», – подумала Джемал мама про себя.
– Сын Нарлы чопчи, ты прекрасно знаешь, как ждут здесь люди любой весточки. Почему ты не спросил, кого именно отправили в Сибирь? – в голосе старой женщины было отчаяние.
– Ай, откуда им знать? – с важным видом ответил он, но посмотреть прямо в глаза старухи не посмел. Сейчас перед ним стояла женщина, которая когда-то, когда он жил в нужде, ласково называла его «сынком».
Проводив сыновей в ссылку и поняв, кто такой Ягды на самом деле, Джемал мама заметно охладела к нему. Нет, теперь старой женщине совсем не хотелось называть его «сынком», как это было раньше. Теперь она, как и другие, считала его чужим, поэтому, как и все, называла его не иначе как Ягды гул, кемсит.
Ничего не говоря, старая женщина пошла обратно. И снова мысли унесли её в Сибирь, к её детям. Смешавшись с ними, она быстро забыла про Ягды. Грусть-тоска разрывала её сердце, она шла, сгорбившись. Перед глазами стояли родные внуки, она видела, как они шумят, бегают, играют, потом перед её мысленным взором появились сыновья, невестки, они смотрели на неё…
– Как же я буду жить без вас, родные мои! – вслух произнесла Джемал мама и вдруг расплакалась.
Солнце поднялось высоко, и с высоты нещадно жарило, воздух раскалился докрасна. Но занятая своими мыслями старуха ничего этого не замечала.
Уже подходя к дому, она вдруг вспомнила о своих чувалах. Вместо того, чтобы вернуться назад, мысленно отругала себя: «Эй, глупая женщина, у тебя отобрали настоящих хозяев этих чувалов, и кому теперь нужно это старьё, которому сто лет в обед исполнилось?»
* * *
Репрессии в стране начались с новой силой. Большинство арестованных уже оказались в лагерях Туруханска, Воркуты, Магадана. В те дни поезда беспрерывно перевозили людей из конца в конец страны!
От наплыва ссыльных уже стонали Сибирь, Казахстан, сотни других регионов бескрайней страны.29
Впоследствии поезда так наловчились перевозить людей, что казалось, им никакие другие грузы и не нужны.
Погода заметно изменилась, когда доехали до Оренбурга. Удивительное дело, Средняя Азия сейчас пылает в огне, изнывает от жары. А погода здесь похожа на весеннюю, то льёт дождь, то вдруг выходит яркое солнце. В последние два дня время от времени льёт дождь, дует влажный ветер.
Теперь по обе стороны поезда движется бесконечный лес, людей удивляет, сколько же здесь деревьев выросло. Иногда между деревьев промелькнут стога сена, чем-то напоминающие избушки, а рядом с домами стоят люди, провожающие взглядом проходящие поезда, много любопытных детей. «Сколько же здесь деревьев, хватило бы на строительство множества домов. А какие здесь гигантские деревья, вдвоём не обхватишь!..», – с завистью говорили пассажиры этого необычного поезда.
Куда ни глянь, всё вокруг в лесах, стоит задуть ветру, и колышутся кроны деревьев, словно волны зелёного моря. И даже плывущие по небу тёмные тучи были не в состоянии нарушить эту картину.
Где было туркменам видеть такое изобилие деревьев?!
А ссыльные ехали всё с такими же мучениями. Изменилась местность, но не изменилось их положение. Страдания этих людей были вызваны равнодушием, а то и вовсе презрением сопровождавших их охранников, считавших их представителями класса угнетателей, всю жизнь измывавшихся над сирыми и неимущими. Они были убеждены, что своим отношением к ссыльным доказывают свою верность большевистским идеалам. Раньше в небольшие окна вагона, расположенные под самым потолком, сыпался песок пустыни, теперь же оттуда задувало холодным ветром, который к ночи становился морозным. «Закрой его, акгасы, дует же оттуда!» – попросила мужа однажды Огулджума, в это время, лёжа на боку, она кормила грудью маленького Рахмангулы. Она просила заткнуть дыру в стене вагона как раз напротив того места, где сидел Оразгелди. Раньше задувавший это отверстие воздух доставлял удовольствие, но теперь всё было совсем наоборот.
За стенами вагона стояла ночь.
Народ в вагоне крепко спал, посапывая во сне. Приподнявшись, Оразгелди вытянул из-под себя кошму и одним концом заткнул дыру в стене, из которой нещадно дуло, затем надел на себя жёлтый тулуп, лежавший у него под головой вместо подушки, и спиной прислонился к этому месту.
Под монотонный стук колёс Оразгелди думал о том, как меняется погода, перед глазами возникло вчерашнее небо. На нём, словно клочки серой шерсти только что остриженных овец, толпились облачка, толкаясь и наезжая друг на друга. Оразгелди представил, что это не облака, а овцы, при каждом дуновении ветерка они разбегались в разные стороны, а чабан никак не мог собрать их в кучу. Ветер принёс запахи хвои – приятные запахи леса. Теперь уже и взрослые по утрам и вечерам старались одеться потеплее. Таково требование российского лета. Как только поезд въехал на просторы России, погода заметно изменилась. На ночь детей старались укрыть тёплыми одеялами. Особенно холодно было по утрам и ночам.
– Кажется, мы приехали в Сибирь! – высказывались люди.
– Небо вон какое хмурое.
– Аю, у этих людей бывает когда-нибудь лето? – Но если это Сибирь, какое может быть лето?
– Про свое лето теперь забудь.
– Неужели так и будет?
Перемена погоды повлияла на всё сразу. И даже после того, как поезд выехал из Челябинска, никто и не думал интересоваться состоянием ссыльных, их проблемами. Состав спешил. На небольших полустанках он только притормаживал немного, но потом снова набирал скорость. О том, что следующим пунктом их путешествия будет Петропавловск, ссыльные узнали во время стоянки в Челябинске. А вообще-то смирившихся со своей судьбой людей не очень-то и интересовало, куда их везут. Сейчас главное для них – как можно скорее добраться до места. Беспросветная жизнь в тесном вагоне всем уже порядком надоела, стала просто невыносимой.
Тем более, что и в этот раз даже во время большой стоянки никто не интересовался судьбой людей в поезде, и это стало вызывать подозрение и дурные предчувствия. Люди стали высказывать предположения, что в Челябинске, как и в Ташкенте, сменилась охрана, на смену прежней пришли ещё более злые люди, и они попросту забыли об этих несчастных. Другие не стали искать виноватых извне. Они попросту предположили, что в Челябинске из такого же, как у них, вагона мог сбежать кто-то из ссыльных вроде Нурягды, поэтому они обозлились и решили не обращать на них никакого внимания, подвергли их таким жестоким испытаниям.
Первой стала ощущаться нехватка воды, дети плакали и просили у родителей пить. Запас воды в вагоне кончился, но поскольку раньше им время от времени выдавали еду и воду, люди и не пытались делать большие запасы воды. И очень скоро жажда стала мучить не только детей, но и взрослых, и это стало неразрешимой проблемой. Дети ничего не хотели понимать, они всё время просили пить, им невозможно было что-то объяснить. А за стенами вагона всё время лил дождь, казалось бы, проблем с водой не должно быть, но, увы, это людям никак не помогало.
Но так уж устроен человек, ему всегда хочется того, чего сейчас нет. И если голодная курица видит во сне зерно, то жаждущим людям снятся их родные полноводные реки Мургаб, Джейхун, Теджен, бьющие из горных недр родники с прозрачной холодной водой. Алланазар, только что поделившийся последним глотком воды с двумя братьями, сидел с опухшими от жажды губами и представлял протекавший прямо за их домом арык. Наверно, его сверстники до сих пор купаются в нём, гоняются друг за другом, устраивают шумные игры, а рядом с ними шумит поток воды. Казалось бы, они могли бы и напиться из этого арыка, но нет, предпочитают прыгать в арык, в разные стороны разбрызгивая воду. Эта вода им нужна не для утоления жажды, а лишь для получения удовольствия от игр.
Забыв о том, что всё это видит не наяву, только в мыслях, Алланазар упрекнул мальчишек:
– Эй, вы почему не пьёте воду? Вот рядом с бродом, среди камышей, течёт чистейшая вода, пейте же оттуда!
Но даже если сейчас весь мир будет плавать в воде, для тех, кто едет в поезде, толку от этого никакого. Бесконечное нытьё детей, требующих воды, стало пугающе действовать на их несчастных родителей. Женщины утирали концами своих пуренджеков слёзы, пытаясь хоть как-то утешить плачущих детей, обещая им, что очень скоро они будут там, где очень много воды.
Мужчины не находили себе места, они не знали, что делать, как вести себя, и не видели ответов на свои немые вопросы. Взрослым сейчас было ничуть не легче, чем детям, они облизывали пересохшие, потрескавшиеся губы. Заканчивались припасы еды, а сопровождающие их люди и не думали хоть чем-то кормить ссыльных. Только у женщин ещё немного оставалось еды, да и то, потому что ни расходовали её экономно, берегли для детей. Больше всего людей мучила жажда.
Каждый раз, когда состав, подъезжая к какой-нибудь станции, сбрасывал скорость, в людях начинала теплиться надежда: вот сейчас поезд остановится, откроются двери, и их выпустят наружу, чтобы они могли напиться и запастись водой. А заодно и накормят их.
Но ничего такого не происходило, никто не интересовался судьбой без вины виноватых каторжников. В конце концов всё это заставило уважаемых людей снова собраться у входа в вагон. Небольшая группа, в которую вошли Гуллы эмин, Сейитмырат ага, Оразмырат ахун, Тятян бай, собралась у входа для совета. В издаваемом составом грохоте они с трудом слышали друг друга, не говоря уже о других «жильцах» вагона. Что-то говорит Сейитмырат ага. Гуллы эмин, временами поглаживая свою прикрывающую грудь красивую окладистую бороду, включается в беседу. Сидя на корточках, Тятян бай слушает старейшин, до хруста ломая пальцы, и давая понять, что он готов в любую минуту выполнить любую просьбу. В головах, собравшихся вертелась одна и та же мысль: «Где же раздобыть воды? Кто-нибудь заинтересуется нашей судьбой?». Эта мысль не давала покоя мужчинам, которые чувствовали свою ответственность за случившееся.
Наконец настал долгожданный момент. Подъезжая к какому-то вокзалу, поезд начал сбрасывать скорость. Все сидевшие у входа мужчины вскочили на ноги. В это время их груди стучали с надеждой сердца… Мужчины стали дружно колотить по дверям вагона, хотели привлечь внимание охранников к себе. Гуллы эмин, одной рукой упираясь в стену, а другой колотя по двери, громко произносил известные ему два-три слова на русском языке: «Орус, бода, бодо, боды!..», – кричал он во всё горло, просил воду.
Но дверь вагона всё равно не открывалась, будто её запечатали на веки вечные. А раз дверь не открывается уже два дня, где взять воды? Выломать стены вагона, вырвать дверь? Что тогда будет? Неужели те, кто везёт без вины виноватых ссыльных, не понимают, что они тоже люди, такие же, как они, с руками и ногами, чувствами и желаниями. Им тоже надо есть и пить, отправлять естественные надобности? Ещё как понимают! Но при этом знать не желают, потому что не считают их за людей, воспринимают их как стадо безмолвных баранов. А ведь им всего-то и надо кусок хлеба да немного воды, они ведь больше ничего для себя не просят! Разве эти люди не смирились со своей судьбой, и вот уже несколько дней ничего не требуют для себя, молча едут в этом отвратительном вонючем вагоне? Им вдруг стало понятно, что позаботиться о ссыльных должны только они сами, больше никто этого не сделает.
На стенах вагона, намного выше человеческого роста были наискось расположены небольшие отверстия, вероятно, для циркуляции воздуха внутри помещения. Когда стало холодать, люди заткнули их подручными материалами. Когда на улице шёл дождь, через отдельные плохо заткнутые отверстия начинала сочиться влага, капли падали на сидящих внизу людей. Это не ускользнуло от внимания жаждущих людей. Как-то раз вода стала капать на Беки Сейитмырата, молодого человека лет двадцати пяти-двадцати семи, намочила его новенькую белую рубаху со стоячим воротником. Он отодвинулся ближе к детям, и вдруг ему в голову пришла неожиданная мысль. Радостно улыбнувшись, он обратился к сидящему рядом с ним Агаджану мурту:
– Агам, хочешь пить?
– А почему ты об этом спрашиваешь?
– А что, если я найду для вас воду? Тогда садись я поднимусь на твою спину.
И парень рассказал Агаджану, каким образом собирается добывать воду.
Держа в руках белую детскую рубаху, Беки взобрался на поставленные плечи Агаджана мурта и протянул руку с рубашкой к отверстию. Казалось, что он хочет заткнуть эту дырку. Когда Беки освободил отверстие от тряпок, которыми оно было заткнуто, оттуда в вагон ворвался холодный влажный воздух вместе с каплями дождя…
Люди с огромным удовольствием принимали от Беки мокрые тряпки и отжимали их в посуду. А на улице шёл дождь. Теперь все по очереди подавали ему свои тряпки, а он только успевал мочить их и отправлять вниз. Говорят же, если Бог закрывает одну дверь, Он обязательно откроет другую. И это был именно тот случай.
Мокрые тряпки прикладывали к пересохшим губам, людям стало так хорошо, что они начали верить: для них ещё не всё закончилось, впереди их ещё что-то должно ждать.
* * *
После отправления из Мары поезд с ссыльными пробыл в пути шестнадцать дней, и лишь на семнадцатый день остановился на небольшой станции Кашиков между городами Акмола и Караганда. Вначале «пассажиры» этого необычного поезда подумали, что это просто остановка, каких было много на их пути, что, постояв немного, состав поедет дальше. Ведь уже много дней они ехали по территории России, проезжая такие крупные города, как Оренбург, Орск, Торск, Челябинск, Петропавловск. Не зная, куда точно едут, люди были уверены в том, что едут они в эту пресловутую Сибирь. А поезд, пройдя через многие незнакомые места, снова прибыл в Казахстан, правда, теперь уже с другой стороны.
– А ну выходите, прибыли, ссыльные, прибыли на место! – доносились с улицы требовательные крики.
Когда дверь вагона, словно занавес, была отодвинута в сторону, охранники увидели толпу людей с горящими взглядами. Спустившись из вагона на землю, они стояли молча, не двигаясь с места, будто не верили, что наконец-то их долгое путешествие закончилось.
Народ был уставшим, обессиленным. После Петропавловска к ним снова стали подходить, давать им воду и еду, интересоваться их состоянием. Именно это привело их немного в чувство. Больше всего ссыльные переживали, когда на стоянках из вагона доставали тела людей, умерших в дороге, накрытыми они лежали внутри вагона.
Глядя на бескрайнюю степь, раскинувшуюся за одноэтажным вокзальным домиком из красного кирпича, ссыльные испуганно думали:
– Неужели это и есть то место, где нам суждено провести остаток своей жизни?
– Ого, сколько тут земли!
– Голая равнина, хоть скачки устраивай!
– Ага… Кажется, счастью нашему пришёл конец.
– Почему?
– Эй, разве ты не видишь, здесь есть хоть какая-то жизнь?
– Зато посмотри, какой здесь простор! – произнёс Оразгелди, с жадностью настоящего хозяина земли разглядывая открывшуюся картину. – Сколько хочешь, сажай хлопчатник, пшеницу, земли на всё хватит!
– Ты думаешь, хлопчатник здесь вырастет? – возразил стоявший рядом с ним Агаджан мурт.
– А что, если есть земля, есть вода, что ещё надо хлопку? Разве он в Египте не растет…
– Ну, не знаю. Вполне возможно, что в Египте и растёт. А ты наверх посмотри, небо вон какое серое, обложено тучами… Если всё лето не видно солнца, про пшеницу не знаю, но хлопчатник точно не вырастет. Для хлопчатника нужно много солнца, а оно есть только на нашей земле, – с грустью произнёс Агаджан мурт, вспомнив, вероятно, в эту минуту покинутую Родину.
Это станция Кашиков появилась в ту пору, когда строилась здесь железная дорога, расчёт был на то, что со временем сюда начнут переселяться люди. Здание вокзала было построено в европейском стиле, оно выглядело намного наряднее двух-трёх появившихся чуть позже построек. От дождей и ветра его фундамент за многие годы потемнел, но особого ущерба зданию это не нанесло, похоже, строили его добросовестно.
Считалось, что казахи заселят эту местность и осядут здесь, а это здание станет для них своего рода маяком, но не тут-то было. Народ, тысячелетиями вместе со своим скотом кочевавший с места на место, невозможно заставить сидеть на месте. Предки казахов были саками-скифами, они были похожи на огузов, считали всю планету своей, поэтому кочевали с места на места.
По обе стороны вокзала стояли толпы людей, прибывших встречать поезд. Они стояли возле тракторов и телег, курили, о чём-то переговариваясь. Они ждали, когда ссыльным позволят выйти из вагонов. Прямо перед зданием вокзала стояли три здоровенных мужика, они выделялись из окружающей толпы своим хозяйским видом, и были похожи на пастухов, выбирающих из отары своих баранов. На двоих была надета коричнево-серая военная форма, на поясах одинаковые ремни с маузерами на боку. Один из них, среднего роста плотный крепыш был работником ОГПУ Шадмановым, которому поручено следить за порядком в номерных барачных посёлках, в последнее время, словно грибы после дождя, выросших между Карагандой и Акмолой. Это был не понятной национальности человок лет сорока-сорока пяти, лицо его было плоским, словно придавленным пятой верблюда, подбородок вздёрнут, нижняя губа выпячена. Советская власть именно таким людям – неизвестноо рода и племени доверили руководство. Он был комендантом 31-го барака. Справа от него стоял подтянутый в облегающей его стройную фигуру форме человек по фамилии Кочетков, его сверху направили сюда для контроля за приёмом ссыльных. Третьим был Иван Захарович Решетников, волжанин, в прошлом году сосланный сюда вместе с семьей. Здесь его назначили председателем 31-го барачного хозяйства.
Посоветовавшись, решили определить половину вновь прибывших туркмен это хозяйство.
После того, как ссыльные вышли из вагонов, на земле немного размяли ноги, сняли свои вещи, специально назначенные люди забегали, размещая их по повозкам. Первыми в телеги посадили женщин и детей. Когда же было сообщено, что до места им добираться ещё два-три дня, люди поняли, что им снова придётся затянуть пояса.
Багаж, который не поместился на телеги, поделили между собой мужчины и несли на себе.
И вот эта огромная толпа отправилась в путь. Их окружала тоскливая, безлюдная казахская степь, которая начала оживать с появлением людей. Люди шли вперёд, а вокруг ничего не менялось, картина оставалась прежней, отчего им начинало казаться, что они кружатся, топчутся на одной местности. Земля была влажной. Наверно, здесь несколько дней подряд шли затяжные дожди. Почва была тёмно-коричневой, тоскливо-загадочной. Временами по обочинам дороги появляются жёлтые островки ромашек. Откуда-то доносится знакомый голос перепёлки. Казахское лето не похоже на обычное жаркое лето, скорее, оно походит на туркменскую весну, которая вот-вот расцветёт во всей своей красе.
Тройка, которая следила за высланными и только что стояла перед зданием вокзала, теперь превратилась в надзирателей толпы. Прохаживаясь между телегами, они покрикивали на людей, сидевших в их телегах, отдавали приказы. Когда на каком-то отрезке пути по этой бескрайней степи люди вдруг снова ощутили знакомый горьковатый запах полыни, не сразу поверили в это. Разве это не дыхание Родины, по которой они так истосковались?
Когда они сошли с поезда, ссыльным объявили, что они прибыли в Акмолиснкую область Казахстана, что место их поселения находится в 75 километрах от города Акмолы. Многие тогда, посмотрев по сторонам, подумали: «Если это казахская земля, то что-то не видно их приземистых домишек, верблюдов и табунных лошадей?». К тому же в окружившей их толпе людей видно только одно казахское лицо.
Поэтому, если не считать горьковатого запаха полыни, ничего не указывало на то, что они находятся на земле Казахстана.
Сейчас под ногами ссыльных раскинулась огромная Сибирская низменность, называемая Голодной степью, на северной окраине которой находится Тобольск, на западе Тургайская область, на востоке – Семипалатинск, на юге – Сырдарья.
Эти земли ещё во времена Сибирского правителя Кучум хана, спустя двадцать с лишним лет после первого разбойничьего набега крещёного татарина Ермека, впоследствии ставшего Ермаком Тимофеевичем, которого алтайцы утопили в реке Катуни, эта земля полностью перешла после этого к русским. Народ, предками которого были тюрки, разделился на племена и роды, был вынужден, оставив родную землю, мигрировать в Китай, Центральную Азию. Оставшиеся под началом русских люди были насильно окрещены и стали адептами новой религии. Не подчиняться русским и не желая менять веру, малочисленные казахи переезжали с места на место, и в конце концов стали одним из сибирских народов.
Не знали люди, которых сейчас гнали в неведомое место, что уже отданы на растерзание этой Голодной степи.
Теперь толпы ссыльных каждый день проходили мимо барачных посёлков один за другим с надписями: «Барак № 3», «Барак № 10».
И видели они, что беда, называемая ссылкой, коснулась не только их, ею охвачена вся огромная страна.
Комендант Шадманов сидел на самой первой повозке и руководил всем этим караваном. Время от времени оборачиваясь с недовольным видом, покрикивал на возчиков: «Двигайтесь быстрее, вы ползёте как казахи, которые своего покойника через семь кладбищ проносят. Если мы будем так двигаться, не то что за три дня, а и за пять дней не доберёмся до места!». А когда повозки начинают кое-как тащиться и отставать, он останавливал переднюю повозку и подтягивал отстающих. В этот момент он был похож на собирающего своё стадо пастуха.
Председатель Решетников был более внимателен к тем, кто шёл рядом с его телегой. Он останавливал телегу и ждал, пока подтянутся идущие за ней люди. Один раз он празвернул коня, чтобы справиться об отстающих, и увидел, как идущий сбоку Сейитмырат ага, пытаясь проскочить перед конём, запутался в собственных ногах и упал на землю.
Решетникову всё же удалось остановить коня до того, как тот добрался до Сейитмырата ага. «Стой!» – крикнул он и остановил коня. Испугался, что конь может затоптать старика. Кровь прилила к его лицу, отчего его лицо и шея приобрели багрово-красный цвет. Немного придя в себя, он соскочил с телеги и сразу же протянул руку ему, не желая, чтобы другие увидели его падение.
– Вставай, старик! Держись за мою руку!
– Ноги что ли сплелись, не пойму, отчего я упал, – проворчал Сейитмырата ага, отряхивая одежду.
– Нельзя падать, тем более сейчас, – эти слова он обращал не только к Сейитмырату ага, но и всем, глядя куда-то через плечо и о чём-то думая.
Старик посмотрел по сторонам и виновато улыбнулся… Полушутливое обращение Решетникова, а также то, что он усадил рядом с собой в телегу обессилевшего старика, заставило людей задуматься. «Интересно, что за место, в которое нас везут? Кому там доверят нашу судьбу? Хорошо бы, чтобы это был человек вроде Решетникова, тогда и наша жизнь могла бы быть не столь ужасный. Видно же, что он нормальный человек, способный понимать чувства других людей».
Огулджума с детьми вместе с ещё одной семьей сидела в доверху груженной вещами телеге. Тесно там было всем. Возницей у них был широколобый старик с бородкой клинышком, вид у него был благообразный, отчего делал его похожим на муллу. Видя, как перегружена его телега, он садился в неё только после того, как уставал идти пешком, чтобы дать отдых ногам. Всё остальное время, держа поводья коня в руках, шёл рядом, волоча ноги в просторных сапогах.
Выполняя мелкие поручения матери, Алланазар то спрыгивал с телеги, что снова садился в неё. Он присматривал за Рахманназаром, чтобы тот, ворочаясь с боку на бок, не слетел с телеги, пока мать, лёжа на боку, кормила грудью маленького Рахмангулы. То немного отставая от телеги, то, поравнявшись с шедшим рядом отцом, скакал как резвый жеребёнок.
От всего этого мальчик получал удовольствие. Больше всего ему нравилось идти рядом с дедушкой Потапом, изображая из себя возницу, управляющего конём. Понимая душу ребёнка, старик время от времени давал поводья в руки Алланазара, ласково предлагал: «На, сынок, ты тоже немного управляй конём». Глядя на Алланазара с любовью, он ещё что-то говорил на непонятном языке. Алланазар по глазам старика видел, что он говорит какие-то добрые слова, но постигнуть их он не мог. Старик и ребёнок понимали друг друга без слов, у них были родственные души. В этой толпе людей возница выделялся своим благообразным видом священника, поэтому он был для них обычным старым возницей. О его судьбе люди ничего не знали. И только работники ОГПУ вроде Шадманова знали, что этот высокообразованный человек много лет служил писарем в царской канцелярии. Да он и сам, опасаясь ещё большего наказания, не очень-то распространялся о своём прошлом. Сюда старика привела та самая работа на царя. Та самая участь, как и других выселенных. Алланазар сдружился с этим стариком, чем-то напоминающим его родного деда – Кымыша-дучзы.
И в этот раз Огулджума, видя, что хлеб высох, и еды стало совсем мало, выставила узелок с сухим вареньем, сушёной дыней и урюком. Видя, что муж ничего не ест, только делает вид, что ест, едва касаясь выложенных ею продуктов, сказала:
– Возьми, положи в рот!
Но Оразгелди снова ничего не взял, только сказал: «Дети поедят».
– И детям хватит, и тебе тоже достанется, – она с жалостью посмотрела на осунувшееся лицо мужа. Заставив его поесть, она собрала кое-что из угощения и протянула Алланазару. – Иди, сынок, угости дедушку арабакеша!
Старик как раз в это время на арбе собирался обедать и с удивлением смотрел на семью: «Интересно, что они с таким удовольствием едят?»
Подбежавший Алланазар молча оставил перед ним, что-то незнакомое а когда дед распробовал это, довольно закивал головой: «Вкусно!» Старик был благодарен, что эти люди вспомнили и о нём, угостили его.
Эти двое – старик и мальчик, люди разного возраста, не понимая языка друг друга, нашли общий язык своими сердцами. Именно на этой дороге началась неожиданная дружба русского добродушного старика с туркменским мальчиком, которая окажет влияние и на их дальнейшую жизнь.
Была объявлена остановка. Алланазар расстелил рядом с телегой выданную матерью подстилку, после чего снял с телеги Рахманназара и помог матери сойти на землю. Держась за край телеги, Огулджума спускалась на землю, держа на руках Рахмангулы.
– Ты уже проснулся? – ласково спросила малыша мать.
Каждый раз, когда объявлялась остановка, люди быстро соскакивали с телег, и начинали шумно переговариваться между собой, собиралась целая толпа. Воспользовавшись такой возможностью, ссыльные старались и детей накормить, и самим что-то перекусить. При возможности кипятили воду, чтобы заварить чай и выпить горячего, из каурмы, залив кипятком, готовили шурпу. Видя сзади идущего отца, несущего на спине тяжёлый груз, Алланазар подбежал к нему, помог по мере возможности снять ношу со спины. На расстеленный дорожный сачак снова выложили сушеную дыню, сухое варенье, сухофрукты, буханку чёрного хлеба, выданную по пути, поставили сосуд с водой. Сев за сачак, Оразгелди взял полоску сушёной дыни, разломил её пополам и вместе с куском хлеба дал одну часть Алланазару, а другую – Рахманназару.
– Возьмите, поешьте лучше хлебом!
Оразгелди и себе отломил кусок хлеба, сделав из него бутерброд с кусочками сушеной дыни стал медленно есть. С любовью посмотрел на маленького Рахмангулы, который, положив ручку на грудь матери, сосал её, аппетитно чмокая. Видя, что Рахманназар с завистью смотрит на материнскую грудь, произнёс:
– Похоже, он и сейчас не отказался бы от груди, – и вспомнил, как тяжело отнимали мальчика от груди, что он и сейчас, только позови, от этого не откажется. Каждый раз, когда он видел, как маленький Рахмангулы, дрыгая ножками, лёжа сосёт молоко матери, его охватывало чувство радости.