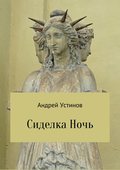Андрей Устинов
Король эльфов. Книга III
2
На июльские ноны Эламир вызвался в государственную экспедицию развеживать новые серебряные копи: Маренций дал добро, ибо денег на величественный флот, которого требовал красавец Ламарх на борьбу с пиратами, никак не хватало. Неизвестно, что досталось бы Ламарху, что его любовникам (ха!), но походникам дельце сулило удачу: крупные самородные пластины открыто меняли на муары даже в центральных кабаках и счастливым старателям наливали щедро… на окраинах же сих старателей лапошили красной медью вместо золота, то отдельная песнь! Но ходили и легенды о Маркусе-толстяке, что ныне держал жратейную в родном Линдоваре… брехались, завистливо сплевывая белесую харкоту (а ну-ка кто дальше!), что в таком-то походе утаил на пузе чуть не пуд серебра! Так что большинство старожилов гласно и негласно искало участия; меня же с дружескими тычками и ухмылками оставили на рутине, как новобранца/иноземца. Эламир бы своевольно взял, но списки лично расчеркивал великий кормчий Леремонт, коему своих родовитых бедняков хватало.
Потому-то меня примкнули временно к палатке старшего декана Дарьяна и душные денные вахты мы переживали в Дарьяновой караульне над Старыми Метаровыми вратами. Отношения у нас сложились закадычные! После коротких деловых вопросов, напомнивших манеры опытного приказчика в горшечной лавке, что умеет и прозвонить кувшин, и не разбить, – ах, даром ли постоянно видывал меня с Эламиром! – милорд Дарьян будто сбросил латы и принял облик словоохотливого приятеля…
Я сиживался обыкновенно у окна, чтобы белый свет баклером не казался – поговорка такая! А это монетка мелочная со щитовым оттиском: в муаре их должно шестьдесят по весу, но недаром у казначея гиря! Дарьян вчера рассказничал с хохотом, причмокивая пивом, аж кровная драка бывала за те баклерки! Еще и гиря оказалась подпилена!.. То-то ж!
Окно было вырезано наспех из бывшей бойницы и также неровно дышало, щелкая о стену раскрытыми ставнями. Ах, жаркие путаные дни. Облака набегали иногда длиннотной вереницей, будто бы безымянные паломники неизвестного бога, и давали передышку, сменяясь затем белым несносным жаром; так и все вахты те запомнились переменным бегом неясных теней по белёной стене да треньканьем обеденной склянки. Сию песочную склянку Дарьян лично выставлял поутру по королевским часам на соборной башне, и дальше весь распорядок крутился ее оборотами – ворота открыть, первый перекус, обед, ворота закрыть…
Дарьян выдался ценителем ячменного эля – каждый рассвет, аккурат к раствору пешей калитки, нам прикатывали свежий бочонок с закраинной пивоварни. Фактория взамен была под крепким присмотром: пару блаженных гвардейцев одалживали на ночную охрану. Тоже счастливчики! Но угощал декан щедро: лично вворачивал серебряный краник (ох, показушник!), лично разливал на пересменках каждому братцу по кружке, иногда плеща пышной пеной на сапоги с грубоватыми шутками о посвящении в дворянство, и ежели к ночи на дне что-то еще булькало – краник скручивался и киснущая каска выставлялась благодарным нищим, истово возглашавшим здравицу. Также льстило, скажу откровенно, что меня новый приятель держал при себе, избавив от нудного пересчета овец и тюков-бурдюков, и болтал ежедневно совершенно как с родственником, откровенничая всё пуще:
– Расходы, мсье Гаэль! Расходы погубят нашу государственность, даю вам честное слово. За комнатушку сию мне приходится выручать любезному кормчему дюжину муаров в месяц! За то, что полагалось бы даром, как естественные условия службы. Хорошо вашему декану Эламиру быть единым наследником богатейшей верфи! Я же ей-ей будто пришлый троеродственник на горбе семейства. Поневоле взвоешь философом: если бы не смертные оспы и войны – зачем вообще плодить лишних наследников? Как младшему отпрыску вам эта горесть очень знакома. Право, мсье Гаэль, – выпей же! – я душевно завидую твоей решимости пересечь Неморье…
Дни тянулись и тянулись. От окна веяло жаром и лезла в голову всяжная несусветица: караульня плыла в глазах, превращаясь будто в сущие Гадесовы палаты. Где радушный господин их, сам отираясь от пота, также разливает пивцо по черненым кружбанчикам (наследственный сервиз!), а за голыми стенами – ха-ха и ах! – черти в аду голыхаются с новыми приезжими. А я, мсье Гаэль к вашим услугам, – на особом гостевом положении. Плету вишь Гадесу басни о коголанских обычаях!
Иногда я удивлялся, – а зачем же норны наколдовали все это? In principo, я не любил долгих разговоров… скажем точнее, бесед бессмысленных, не несущих сердцу любви или навыка уму. Такие перетолки влетали у меня в правое ухо и тут же вылетали из левого бойкой синебрюхой мухой. А смешно, правда? Так махнул рукой по виску, и вот осерчала красотка, будто правда все Дарьяновы любезности прожужжала. Так зачем я здесь? Чувствовал себя, будто в елизеровой красочной книге зрителем промежной иллюстрации, которую перелистнешь – и уже не вернешься к ней никогда. И синебрюхие мухи бражили в воздухе, и самый воздух бо дрожал перед взором ячменным роздыхом, и голоса спорщиков под воротами словно бы репетировали один и тот же речитатив.
Но чихнешь – то караванная пыль налетела облаком в окно! – и опять прохладные каменные стены покалывали спину и сообщали устойчивость, слышались курантусы с башни, все казалось незыблемым, жизнь была вечной синекурой.
Хотя, за такую неделю я больше узнал о реальной экономике, чем за предыдущий месяц. И трудно было не расщелкать (это каламбур про соленые орешки к элю! ха!), о чем столь сокрушался Эламир: смешки смешками, а Дарьян ни на баклер не гнушался купеческих подношений. Торговля в Авенте была затеяна легко: берешь жетон на некий товар на дарёное количество тюков, и больше (официально) провозить ни-ни. Ну а что значит берешь дарёное… такая вот эвфемия (ну, благоречье королевское) в расписном контракте, на деле-то именно даришь казначею кошелец серебра! И когда с Эламиром на воротах иногда стражевали, так и было: больше – ни-ни! Я ще удивлялся по незнанию, почему же торгаши-обозники будто и не спешат в королевские стены. Кто-то вовсе вопрошал, чье же дежурство, и разочарованно исчезал в сторону вечно переполненного стойбища. Зато с Дарьяном у тележного схода царила полная суматоха: почитай каждый набивал тюков больше стандарта, да и те чуть не полуторные против объемного образца, набитого сеном прямо при створе… но живо находил с Дарьяновым начётчиком общий язык. Язык заключался в звонких муарах-левах-динарах, кои Дарьян часто сам принимал в караульной и весьма придирчиво перевешивал личными гирями: кажется, были у него разновесы для любой мировой монеты! Еще изрядно прибытка шло от рукастых старшин торговых домов, ждавших богатый караван и плативших загодя готовым товаром или золотом – тут уж Дарьян мог и ловкой скидкой удружить! Да взять хоть долговязого магистра Валдиса, которого я запомнил по смешной ругани с Эламиром. Подлец вырядился тогда в голубой камзол и выкрикивал всячные глупости, на которые Эламир раз только глянул искоса как на лишнюю синебрюхую муху. А нынче цеховик (вот же линялый глист!) наоборот быш-быш угодлив и льстив, и даже ничтожному помощнику (мне, бишь!) пожал на прощание десницу и умудрился втиснуть двойной муар. Дарьян ажно рассмеялся моему звонкому речитативу вслед захлопнувшейся двери и охотно забрал липкую монету в счет общих закусок. Объяснялся он просто, за пару дней отбросив лишние в торговле придворные манеры:
– Благодарю весьма любезно! И не стоит вопросничать, мой дорогой Гаэль! Благородные наши семейства – почитай, все до единого! – вхожи в торговые дома во втором поколении. Почтенный господарь мой, скажем, вложился к ткачам с юности, еще до осеменения несчастной моей матушки. Маренций-король и сам – давно-подавно не государством озабочен, а причастными винокурнями, помнишь ли вчерашний караван сусла с личным его золотым жетоном? Завидный замах! Но кто мы против высших радетелей отечества?
Болтовня, болтовня! Ах, барьера бесполезной речи, столь мне тягостного, для Дарьяна будто не существовало. И опять, как некогда с Эламиром, чудилась в задорном баритоне ярмарочная нотка. Да что же за потешная реинкарнация с ними со всеми? Жара ли или избыток солода? Голубых, можно сказать, кровей, но едва заговаривали о тщеславии сокровенном, так сразу… Знаете, когда мальчишки-лотошники злословятся друг другу на собственный залежалый товар:
– Не надо удивляться, мон шер Гаэль! Говорил ты давеча, вы сотоварищи любили в ликейоне рыцарские романы пролистать? Так ведь и здесь у нас, почитай, тот же круглый стол. Из казны на себя не потянешь легко – там круглый совет лордов, надо каждому содержание возвышать. А роскоши хочется не мне одному, не разжилось у нас книжных ланселотов! Будь здоров! Еще представится дворцовая вахта – увидишь: оранжереи развел заморские наш Маренций, дабы пуще фавориток смущать! Пф-ф! Так вот каждый от круглого стола и ворует… А еще эльфийскому ордену скидка! А еще и церковь беспошлинно, так что думаешь? Авгуры и за половинную мзду лишний обоз припишут! Ах, Гаэль! Мы давно страна старцев-торговцев, а не берсерков! Так лучше мне на житие, чем им на бытие, сам рассуди… Так у нас говорят! Сколько ни отщипывай, а сыт не будешь! Будь же здоров!
А что я? Ах, отвечал шутливо на тосты и бывал здоров, но в душе соглашался с Эламиром: пусть скорее придет Володьяр и все наладит по-рыцарски!
Но пока так все и повторялось день-деньской: in principo (выражаясь елизеровски), очень я не любил долгих разговоров. Но такая выпала планида, что каждый маломальски образованный дворянин в Авенте (а к Дарьяну много заглядывало на дармовый кружбанчик; будто те же разряженные мухи!) считал за честь и долг меня приветствовать. Тем более, что как стал (гран-мерси Эламиру за протекцию!) хаживать на бойцовские тренировки, то хоть сколько-то знакомых завелось. Хотя, каких знакомых, ежели доселе мне они даже не воображались, оставаясь в памяти зряшными бесцветными пятнами. Дворцовая камарилья, известное дело!
А с Володьяром поручкался – ох и воин! Но вопросами-то больше донимали мелкие оболтусы: Коголан, ибо, мнился ими центром цивилизации, и каждому местному неучу хотелось блеснуть кое-как языком и – ей-же-ей! – известным анекдотом про каламбуровое дерево. О Глах! Как будто мы еще в ликейоне не распевали мальцами: Pleurons tous en ce jour, Du bois de calambour!
Дарьян же любезно болтал целыми вахтами. Тоже рассиживался, распустив камзольный платок и даже безбожно сняв амулет, чтобы проще от пота отираться… рассиживался разглашенно на крепком стуле со спинкой, вырезанной фамильным вензелем (говорил, из отцовских палат утырил – так и говорил, смеясь в мокрые пивом усы: утырил-утырил!)… эдакий ладный чернявый субчик, как сказали бы в Коголане: не сильно-то и старше меня, стрижен коротко, серьга тоже в ухе, чисто серебряная, тригородцы почему-то блесткие камни не признавали. И болтает весело и вообще ладный… ну легкого как бы складу, да и на почве эля мы нашли неплохое согласие друг в друге. Но каким-то образом вся живость его, стоило отвернуться, куда-то блекла, речь будто бы веселая, совершенно не запоминалась… о чем же он? А помнилась от тех дней только подкупающая удивительная честность лорда Дарьяна, а вернее сказать – полная открытая бесчестность. Мнилось, он соблюдал внешние правила не из верности им, а лишь из нежелания неприятностей. Или даже из лени – и потому именно был так радушен со всеми, ибо проще притворяться другом, чем говорить открыто. Скажем, я все-таки выспросил однажды, на пятой-то кружке:
– Но милорд Дарьян, ежели не обижу: может ли быть, что господарь Никеандр совершенно лишил вас достойного родословности содержания?
Дарьян ажно развеселился. И опять разоткровенничался в усы, то ли в шутку, то ли всерьез:
– Мсье Гаэль, какая может разжиться обида меж младшими братьями благородных семейств? Вам лучше прочих ведомо наше стесненное положение, ежели из престольного Коголана удрали к нам за удачливой синептицей! А сию сплетню… Вам ее расплетут донага и разложут на три блюдца в каждом дворе от нашего присного “Кабана” до эльфийской “Лиственницы” и воровского “Мерила”. Ей Глаху, Гаэль! Я даже и рад поведать самостоятельно, дабы сохранить сочность истории!
Действительно! На сочном рыночном разложут Дарьян оживился сверх обычной дружелюбности, как будто самый разговор о желто-розовых кругляшах в потайном кармане бодрил его лучше бесценной настойки мандрагоры. И прямо на глазах опять матамофриз… тьфу-ты! метаморфизировался из дельного воинского декана, только что зло отчитавшего часового на калитке (прозевавшего лишние мешки), в разбитного рыночного хлыща:
– Извольте, cher ami, – весело заблестел глазами, взбалтывая пиво в кружке до высокой пены и приглатывая побольше-наподольше. – Извольте! Все дело завертелось из-за клятой девчонки. Вы же знаете, Гаэль, я к прекрасному полу отношусь естественно, Эламировы менады мне непонятны. Почтенный господарь, pater meus, доказал нам всем излишенность сих страстей. Но знакомец мой тогдашний, молодой Кальтерон, жил здесь без родни и влюбился без разбору в некую падшую эльфийку… Скажем, и впрямь дива голубоглазая, ежели Глах вложил вам в душу эту сердечную чувствительность. И оттого бедняга прокутил на щелчок да на свисток всю передачу из дома и бегал одалживаться по всем тригородским дворам. И, право, приятель-то никудышный, и подумалось мне… прямо осенило: но что за глупость сия, милорд Гаэль? Добродейно отсыпать горсть серебра на чужое баловство, при том позже и не взыщешь, не красные же карты! И хотя был у меня капиталец, но такую шутку провернул – право, дорогой Гаэль, и по сю пору смешно! Сыскал доверенного менялу вложиться в антерпиризу, в нашем же семейном ткацком цеху. И Кальтерону подсказываю эдак за удачными картами: рад бы, друже мой, и простить, да сам в путаных сетях у ростовщика. Вот, говорю, по серебряные пуговицы! Но счастье моё, хотя бы делец надежный, по всей Авенте до Линдовара не растрепещет, ежели проценты платить размеренно. И то, подмигиваю на его соколиный расшитой берет, рядом брошенный, можно не золотом отдавать, а вещами бышными – там, хоть одеждой парадной, сей жалкий барышник все возьмет.
Дарьян так распалился от собственной ловкости, что даже рыгнул с хохотцой и отставил кружку ради бурной жестикуляции:
– И знали бы, дорогой Гаэль, как легко цыкнулось дело! Камзолов-то лишних да сапог с серебряными пряжками у каждого немало! Потом еще старший из братьев Замейских, а мне что тригородцы, что немейцы, лишь бы звонкий звон несли! Случайно пресеклось, когда прибыл на ассамблею Кальтеронов предок и всё из глупца вытянул мигом… где-де последний подарок благородной матери? Аха! И послал к мойному барышнику аж лорда Леремонта с калеными щипчиками на разборки. Ах, Гаэль! Такая лафа была, пардон за мой говор, так я безбедно жил… конечно, вышел с выгодой, всё отдали до золотой нитки. То не благородные долги! А хотя…
Тут Дарьян, уже вставший и горячо шагавший по караульне, звеня подковками берцов (то сапоги новомодные на бычьей шнуровке!), попал в солнечный пыльный луч и буквально засиял одушевленным золотом:
– Аще торговался о благородстве, старый хрыч! Обещал не бесчестить перед отцом за прощение ихнего долга, ну подумай! Да у меня же все в пергаменте у стряпчего, мсье Гаэль, не щегол же бесперый! Так разозлил меня, и говорю: при всем уважении, ваше лордство: платите и говорите кому хотите!
Ах! Дарьян сделал пальцем неприличый жест, опять сбиваясь в мальчишечью браваду, раскатываясь звонким рр на имени приятеля:
– Кальтеррона глупца отправили домой, местных коз пасти и с ними же блудить, не знаю! Эльфийку не видел больше, хотя… полезно было бы использовать ее для моей политики. А на меня весь бочонок благородства и покатили… ей-же ей, каламбур!.. видишь всё сам: молодежь бездельная вся со мной хохочет, скоро и по два бочонка придется на вахту закатывать! Pater meus чуть ли поседел на разборе… хотя посуди: чем хуже дольного торгашества? Да и звонче! И я лишь перед Глахом честен, где они стыдятся. И меня же сюда назначили барыши с караванов охранять! Будь здоров! За бездольное благородство!
А я… что же? Ничего не имею супротив купцов, но не купец! И будто мысли мои закрутились в душном пьяном водовороте: и зачем норны наколдовали все эти барыши? Всех этих путаных Заморейских-Кальтербесов, одним дегтем мазанных? Сущих призрачных чертей, никогда на вечернем ристалище не виданных? Еще хотел было выспросить Дарьяна про фамильное проклятие, как-де живется с эдаким грузилом на душе, да осекся – и тут бакшиш приплетет и сам Гадесу душу продаст да обсчитает! Он болтал и болтал с удивительным энтузиазмом, и как кислого воздуха хватало? Крутился по комнате, поворачивался то одним боком, другим… иногда голос его терялся, и только тень его плясала на противоположной стенке, будто плоский говорливый шут на картинке в рамке. Будто… будто я гляделся в калейдоскоп детский, что видел в Коголане у дяди Резволдера, но стенки-то не блесткий пергаментный картон, а тяжелые каменные… стены жизни. Ха! Чертячий получался калейдоскоп!
И зачем норны наколдовали все это? Ах! Недавно я рысил с молодчагой-Алтеем по полям, высился с другами-эльфами на святую гору, где белесая дымка вьется вокруг вершины, как девичья фата, а теперь киснул здесь заради обеденной склянки… так подумал, лениво потягивая пивко… Да, сам-то как кочерыжка сквашенная в каменной кадке! Или только подумал подумать, утопая в угаре?
Брр-р!
Да, жизнь словно потеряла инерцию! Лишний раз расфилософствовался так, когда толкались в охранении у Глахового храма: Деметриус – королевский инженер, представленный нам кратко Леремонтом, прибывший аж из Линдовара починять отстающие курантусы, – затеял их полный перебор. На травянистый откос у башни рабочие вытащили огромный золоченый маятник и там он лежал, подобно поверженной пчеле, примяв ярким телом сорную крапиву и слабо покачивая на ветру длинным жалом. Не так ли, огорчался я, и жизнь моя раскачивалась мерно до поры до времени, а затем вдруг замерла почти, едва дрожа, до починки или полного расстройства? И благословен будь Глах, не давший мне заржаветь!..
Жах-х! Дверь вдруг испуганно ойкнула всеми сучковатыми досками под кованой оплеткой (ах! будто боец под панцирем зашелся ребрами под знатным ударом), размахнулась вдрызг из запетрой щеколды и приложилась с размаху о стену, брызжа штукатуркой, будто вышибленный из седла рыцарь. Ой-е! Еще удивительно: солнце из дальней бойницы ударило через коридор прямо в раскрывшийся проем, лишая нас глаз, но тут же проем заполнился чьими-то темными тенями. Заруба ли? Мы оба поперхнулись пивцом… ах, и без того нынче было пшеничное и стояло поперек горла!.. закашлялись, пуская пузыри, запоздало привстали на полусогнутых, ажно пьяные кочеты, но – уфф!
– Аг-га! – будто барибал (бишь, черный горный медведь), ввалился в комнату огромный косматый воин, вскидываясь на Дарьяна с распростертыми лапами. О Глаше! Да не воевода Яромах ли сам пожаловал из клятого Тригородья?
– Аг-га! Что за охранение, Дарьянушка?! Пьяный ч-черт! Так бы тебя и на ножи, поколь хомутаешься, ааа! – Яромах облапил моего славного декана и закружил по комнате настоль потешно, что двое вошедших следом расхохотались врозь (старший снисходительно, а юнец вовсе похабно), уклоняясь от Дарьяновых берцов, летающих по кругу краше тяжелых стрекоз. А уж дышал-то сей медведь пряной медовухой так, что нашего пшеничного отвара в комнате уже и не чуялось.
– Глах тебя, Ярик! Глах тебя побери! – отбивался Дарьян, молотя воздух. Да-с! На глазах превращаясь в бессильного подростка против старшого брата. Казалось, столичная купеческая спесь, захватившая его будто янтарная капля, вдруг стаяла разом под жарким дыханием родича, обнажив нежное ребячье тельце. Дивная метаморфоза! – От же оказия, Ярик! Откуда же ты свалился?
Я же… уже оправился от всполоха, но и сам смутился детски: как было представиться незнакомцам? Официально ли во фрунт, так сказать, но дружеский угар не располагал… еще и возрыгну от выпитого, не дай Глах… только на курий смех и поднимут. Но Дарьян – сия детская, светлая честь его – сам меня выручил, оторвавшись от братца и покачиваясь еще после круговорота. Ухватил меня за плечи, смеясь, и выдумал на ходу:
– Ярик, сие есть заморский принц Гаэль инкогнито. Но между нами-то! Голубая кровушка на киселе, вроде меня, третий кузен пятого Коголанского наследника. Или десятого, mon chéri? Отважный мореход и прочее… тут в гвардейцах тешится. Слыхал ли от Володьяра?
– Ищет протекции… – продолжал баснословие, но слышал я его глухо, ибо Яромах-барибал облапил теперь меня, рыча невнятные медвежьи приветствия аж в перепонку и тыча ажно в нос огромной черненой серьгой… и также отправил в медовушный вихрь вокруг комнаты берцами вразлет. Когда высвободил, клянусь Глахом, я был трижды пьянее, чем до замечательной встречи! – Гаэль… сие стрый Костанций, patruus наш любезный. И кузен Геладий, младший наш бездельник по женской линии, сам же линдоварских корней… потише, Гелка!.. ребячились мы все вместе под Констанциевым оком, покуда…
На этом слоге Дарьян помрачнел ликом и будто выдохнул обиду, но история была мне понятна без слов: покуда старик Никеандр вершил господарские дела и Володьяра-наследника при себе держал, лишая молодости и изнуряя менторами, сии-то балбесы росли у благонравного дядьки в вольном отрочестве, махались мечами на навозном дворе, гонялись в ночное со старшими конюхами… почти как у меня! Странно было чуять от Дарьяна этакие душевные муки и подумалось еще: лучше бы и остаться ему там, деревенским князем, чем в столице соблазниться барышами и продаться Гадесу! Что скажете, собратья мои во Глахе?
Но скажите! Когда – исполать! исполать! – врывается в ваш сонный мирок ватага незнакомых рыцарей и приятели кажут вам звонкие клички их: Констанций, Геладий… не мнится ли поначалу, что имена сии парят будто в воздухе, отделенные от потных тел, и вы даже путаетесь – n'est ce pas? – кто есть кто? И только при дальнейшем толковом разговоре имена их словно бы наливаются живым знанием – сладким или горьким – о людишках сиих, свалившихся невесть откуда в вашу жизнь? И липнут к избранным телам уже крепко-накрепко, будто божеские латы. И думаете вы, ежели не лишены разума, зачем и надолго ли привел их Глах по вашу честь, исчезнут назавтра же, будто краткий сон, или мучительный оставят след? Пустые ли они сполохи жизни, либо вехи путевые? И как отличить? Ведь ежели наметаны уже судьбины наши священными норнами, то при первом взгляде на рыцаря должны мы твердо чуять, друг он или враг? N'est ce pas?
Констанций мне пришелся по сердцу и Геладий сразу нет. От одного прыщеватого лика его (под сладкой помадой, конечно ж!) сразу желчью полоснуло по печенке… Судите сами: у кого из воинов есть время поутру мараться египетским кремом? В Коголане на балах насмотрелся на таких ухажеров! Придворная зараза!.. Ах, а если приглядеться, такой же пыжистый юнец, как и сам я был бы, кабы задержался в Регвольдовых палатах! И если бы не Катинка, душа моя пропащая! Но оттого-то – и был мне сей юнец сто крат противней!
А Констанций, хотя и Никеандров брат, но сам был светел вроде Володьяра, и теперь я понял отколь… от каких кровей царят в нашем принце прекрасная внутренняя сдержанность и благородство, не терпящее мишуры. Ежели Яромах разодет был богато напоказ, а Геладий – ха! – напоказ нелепо, то Констанций будто кутался в благородных карих тенях: походные туфли из кордована, палевые кюлоты и песчаный бархатный жилет, и кауровый берет, который он нынче берег в руке, не решаясь пристроить на наши потертые стулья. Седина вилась уже в его светлой кудрявой бородке, но только придавала мудрости, что ли? Или же бородка изящно удлинняла его лицо? И карие же глаза со светлыми прожилками – ах, видели будто насквозь, и хорошо, что не осудили меня, но коснулись с некоторым радушием!
Ну а Геладий – сам-то сущий заморейский попугай! Вырядился красочно только с той мыслью, ежели можно называть мыслью сию физиологию, чтобы лукавый взор любой встречной субретки и даже взрослой дамы бросался только на него. Ах, даже линдоварская серьга блестела огромным камнем, оттягивая мочку уха, но с какой-то фальшью: то ли винисовая вставка вместо благородного лала? И ладно Яромах с медовухой, а тут эдакой медуницей потянуло – ну прямо услада услад! Тьфу! И наверное же, подумалось мне, у кого-то он и имел успех? Вот Польянка, допустим, так же легко продалась бы ему, как и мне хотела? Ах, грустные мысли!.. Но как боевой рыцарь Геладий не стоил, по-моему разумению, ничего. По бурному разговору кузенов уже виделось, какова была его роль в их счастливом детстве: оба извечно трунили над ним как над приятной живой игрушкой, способной зело жужжать. Да, типа ручного шершеня: хотя и родственником, но местным тригородским положением настолько ниже, что почти незначимым, так что бедняге (о да, тут даже пожалел его, но не нынешнего, а того несчастного мальца!) оставалось лишь самому исподтишка куражиться над прислужками. Так гаденышом и вырос – из тех, что любого инородца оттолкнет походя в слепую грязь.
А Яромах! Ох, как главарь в сей детской пирамиде, он и вырос дикопольно (есть ли такое словцо?) несдержанным. Поглядите хотя бы, как хозяйски хаживал по Дарьяновой тесной комнатухе, шутливо переворачивая вверх дном все кружки и разливая остатки на пол. И еще – пускай и сам чернявый как смоль (ах, будто при рождении окунули башкой в сапожный вар!), – но еще имел и странный вкус одеваться во все черное: даже жилет был из черной бычьей кожи, так и отливающий чернотой на солнечных лучах, будто в испуге от него отскакивающих. О Глах, что за аллюзия!
Уселся, ясенно, на знаменитый вензельный стул (так что свой шатучий я весьма галантно уступил Констанцию, удостоившись благородного кивка!)… уселся на фамильный стул, но не аристократически нога на ногу, а распыжившись коленами во все стороны света, и, ковыряя мизинцем в зубах какое-то заячье мясо, добродушно выспросил густым басом:
– Так вы взаправду принц, мосье Гаэль?
Ах, так мог бы великан расспрашивать лилипута: сударь, правда ли вы князь карликов? Так меня это насмешило, что я ответил, беззаботно смеясь, будто на карнавале. И сам чуть не сунул палец в рот, фокусничая, – поковырять десну и (на-ка!) вытащить обжевок кролика того же:
– Истинно, милорд Яромах! Передо мной всего лишь тридать три и сто претендентов. Но надежды не теряю! Время военное!
– Напрасно же вы шутите, мессир, – негромко отозвался вдруг Констанций, слегка взмахнув рукой. Но движение его, хотя и легкое, волшебным образом поколебало солнечные потоки в комнате и все мы поневоле обернулись. Говорил он старомодно и старчески, но весьма торжественно: – Пускай тридцать три и сто, но сие благородные капли крови! Я виделся множество лет назад с коголанским посланником, и нахожу множество общего в ваших чертах!
– А мне вот мнится, любезный дядюшка, – встрепенулся гнусавчик Геладий, ну вылитая навозная муха, потирающая лапки на солнце!.. Ха! Как же это? Учили же и ругань! А, crepitum ventris reddere! Сказал, что пернул (пардон за мой латейский!): – Мнится мне, что ежели на одну голубую каплю приходится тридцать и сто деревенщины, то подвигов ожидать можно разве лишь на сеновале!
– А вы, милорд Геладий, – ответствовал я столь же быстрой любезностью, помноженной на нонешнее простонародное пивцо, – кажетесь мне ой-завидным сеновальным экспертом! Однако же, ежели провести наглядный эксперимент крестьянским серпом, то получается, поверьте, что кровушка-то одинаково красна!
Яромах только смачно хмыкнул, все еще ковыряя зуб, Констанций затеял было монолог о кажущейся и истинной природе вещей (ах!.. на деле ни слова он не молвил, но такое впечатление!), Геладий напыжился до красноты, не ожидав отпора… И Дарьян поспешил перевести беседу в приятельскую, щедро подмигивая мне:
– Любезные мои, господин Гаэль здесь не лукавит. Но ежели изволит, то поведает сам, как экспериментил на непутевом сержанте в метарских краях! Достойная сшибка! Да и по учености, Гелка – выпей-ка! собственное! – ты мне гостя не задирай, ибо он глашьего ликейона мученик и слов ученых больше нас четверых знает!
Тема сия вдруг зажгла Констанция, и пока Дарьян с Яромахом что-то там братски гундосили у окна, смеясь и плечаясь (кто крепче, а?), так что комнатца казалась темней и тесней, старый рыцарь затеял разговор. Глаза его карие будто разжелтелись ярче:
– Знамо вы, мой сударь, выпускник Метарейского ликейона? Стало быть, изрядно научены путям богов? И, осмелюсь предположить, осведомлены уже о несчастном пророчестве, павшем на моего брата-господаря и, – тут повел величаво рукой и тень ее широко побежала по комнате, – сих отроков его. Так истолкуйте же умысел божий?
Я был настолько воодушевлен, что добрый старикан не просто ведал о ликейоне, но даже знал имя покровительницы нашей, что отнесся серьезно, насколько позволяло выпитое. Припомнил враз всю нужную софистику и высказался важно, тоже разводя воздух руками:
– Полагаю, мсье Константин, что негоже относиться к пророчествам запросто, но и тяготиться надоть осторожно. Допустим, ежели тактично коснуться предмета, возьмутся судари сейчас за кинжал и утратят рассудок. Но! Но не говорит знамение утратят ли разум денно либо навечно, до смерти полоснутся либо до детской царапины, и потому почитанием бога и жертвами Метаре вполне можется и легкий исход выможить!
– Ого! – встепенулся вдруг от окна Яромах, так что вмиг стало светлее и загородным ветром пахнуло. – Милорд Гаэль, да вы и впрямь проще клирика облегчили наши раздумья. Констанций, молю же вас, распорядитесь о достойной жертве богине. И более не пужайте меня завтрашним жребием. А вас, шер Гаэль, любезно зову выпить со мной на брудершафт из походных наших фляжек!
– Брат Яромах, завтрашний жребий ваш и без оракула всем мертвецки известен! – пропищал вдруг Геладий, срываясь юношеским голосом, и настолько к общему смеху, что даже Констанций только добро сощурил глаза на нашего воеводу.
Братство есть братство! И так в конце вышла почти та же скука, напились все изрядно, но Геладий, явно ободренный первым успехом, все же вылез вставить глупость. О Глах, взаправду, каково же твое предназначение эдакому персонажу? Вот же гаденыш! Видать, с момента окорота его, все ерзал сердцем, как бы хваткого инородца уесть, и искал любого подвоха. Запел сладко:
– Любезный Гаэль, но расскажите же наконец о метарском подвиге вашем, прямо жжется душа услышать!