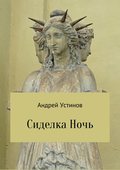Андрей Устинов
Король эльфов. Книга III
Что же, прямо при Дарьяне, хорошо знавшем (сам я выболтал в первые же дни!) подлинную историю, пришлось мне тут выкрутасничать и выдумать чистую байку. Так что и сам мой декан, к удивлению родственников, хохотал громче всех и хохотал так искренне, ибо вышло все по его же ниточкам, даром ли подмигивал мне складно, нарекая заморейским принцем? Но мне (получалось, и тут ему обязан!) деваться было некуда…
Вышло у меня (пьяная болтовня сама клеится), что Катинка была дочерью метарского дворянина, которой я благонамеренно увлекся, пока служил Раваховым гвардейцем, и отец ея, сущий деспот, подговорил герцога удалить меня от двора, отправив штрафником в солдаты за какую-то пустую дуэль с кровушкой, и скотина сержант пытался на мне выехать, не понимая про голубую кровь, но когда хотели нагнуть меня с пьяным подмощником, тут уж вскипела душа и выдал я им напутствие.
Дарьян аж глаза круглил от смеха, слушая сию басню; Яромах всю суть пропустил, чуть не мух в ладонь ловя (а ловок, черт!), но довольно заблестел глазами при деловом описании схватки; Геладий опять пыжился что-то, но временно молчал – ха! – обнаружив по локтем пивную бутыль, которую мы подняли наверх, чтобы не бегать поминутно к бочке. Констанций же заметил сурово, аж поставив ладонь ребром, что стыдится за метарское дворянство и лично Раваха, которого (был грех!) встречал и недолюбливал за излишнее чернокнижие. Чтобы дворянина сослать в потешные войска, так я (Гаэль Франк к вашим услугам) еще ангельский нрав показал.
– Давно пора бы, – заговорил он презрительно и резко, как бы продолжая речь на королевском совете, – войти в Метару с войском и навсегда обеспечить там стратегический пост, чем нам заигрывать с Равахом в союзные любезности! С такими-то манерами!
Меня же вдруг ударило в пот от стыда за надуманные глупости, даже запунцовел щекой, будто шлепнули, да благо на солнце не видать! И благо – я даже рад был скандалу! – тут-то гаденыш Геладий не выдержал. Прямо будто терпел-терпел, да не вытерпел, так и завихлялся тощим телом вдоль стены, бормоча опьяненно:
– Но любезный дядя, вы слишком снисходительны! Все же сие явные бунт и дезертирство, как ни киньте! Позор и трусость! Любезного Гаэля сия история характеризует как обыденного авантюриста! Ах, что же еще и предугадать от заморейских бессережников?
Тут мы вспыхнули возбужденно и разом…
– Твое понимание чести, Геладий, – начал было Констанций, вздыхая и вздымая десницу. Готовясь, ясенно, разметать очередное ожерелье перед поросью!
– Гелка, Гелка! – вскочил и замельтешил руками Дарьян, единственный предполагавший более-менее мой характер. Спешил напомнить кузену кто тут у кого угощается на шару, в конце-то концов! Я знал уже Дарьяна хорошо: никогда не скажет заткнуться к Гадесу, но всегда намекнет на неудачные обстоятельства купли-продажи. Пф-ф!
– Кузен! Гм! – даже Яромах привстал живо, блеща черными глазами, и видно было по пружинистой повадке, как же он опасен в живом бою…
Но я и сам уже шагнул, горя стыдом и злобой, трезвея и торопясь покончить с нелепой историей. Шагнул, будоража воздух, звеня каблуком, на сердцевину комнаты и, хотя удержался от прямых эпитетов (le bétail purulent!), но высказался едко:
– Скажите-ка, любезный Геладий, а мне-то как быть? Как отличить подлинного дворянина от подлого, ежели каждый… в наше гнойное время норовит прицепить в ухо дешевый опал, не отличая жидкой венисы от красного лала? Ежели бы не заверения моих собратьев, пожалуй, то где-то на рынке я бы сходу различил в вашей серьге фальшивку!
В караульне настала мертвая пауза от такой моей тирады и слова будто еще звенели между стенами, метаясь взад-вперед и осыпая шутукатурную пыль. Чем бы кончилось в другом раскладе не знаю, но как будто Глах командовал моим телом! Бывает, друзья лиценциаты, что мы слышим мысли свои в голове и сами спорим с собой и называем сей процесс мыслью. Но бывает, когда ваши впечатления и знания, ваши чувства окружающего мира, все переплавляются в быстрое движение души, и тело – безрассудно следует ему. Так и было.
– Вот извольте, любезный Геладий, – продолжал я нарочитым наисветчайшим тоном, подходя к столу и ловко, от первой искры, разжигая трут и затем желтую свечу, почти целую из-за светлых летних дней. – Есть, однако же, доставленный нам историей ромейцев яркий способ проверить закалку характера. Извольте, великолепный сударь, повторить за мной!
И я поднес – ох, сгоряча! тоже Муций нашелся! – поднес десницу ближе к разгоревшейся свече, самое запястье, и держал там, не глядя, но чуя шип от кожи и горелый запах, но отстраняясь от боли, будто из самого Асгарда взирая на сию людскую сцену, а богам-то нашей боли не видать!
И глядел только зло варвару-гаденышу в глаза, как будто боль от огня переводя во взгляд и прожигая гаденыша взором, так что он начал даже крючиться как-то у солнечной стены, изворачиваясь от моих очей. Истинно! Варвары!
Но я слышал, слышал мягкий баритон Констанция и встревоженный тенорок Дарьяна, но все это были бесполезные звуки, вроде мушиных жужений и комариных писков. Но еще – услышал, как рыкнул, ажно рыкнул за спиной Яромах, услышал его тяжелый шаг (и на столе нашем зазвенела какая-то склянка, будто раздраженный неудачным ударом доспех!), и уже темнело в глазах от наливающейся боли, но увидел… гаденыша будто порывом ветра сдуло от стены в открывшуюся дверь… и ожидал… что? Тычка мечом от Яромаха в спину? Таки ж родня, пусть и кривая? Ясенно, нет, не замарал бы чести, но может быть гулкого вызова, как Эламир пугал? Но Яромах лишь захватил меня сладким выдохом, лишь приобнял минутно за плечи, случайно отведя тем и руку от свечи… ох!.. и такое охватило меня медовое блаженство, что не слышал даже речи его, но достаточно было добродушного тембра, дабы понимать, как хотел бы воевода таких рыцарей больше иметь в своем походе. Ах, и я хотел бы! Так и представилась ночная сцена у костра, где походничаем вместе, и спина мерзнет, а руке-то жарко!.. и нашел даже силы – вслепую, но в сторону двери! – молвить дежурные слова благодарения за комплимент.
И слышал гневное бормотание Констанция, и поспешный грамматикой m'excuse Дарьяна чуть не в ухо (и попутно препоручение команды на остаток вечера!), и каждой ступенью слышал, как родичи-тригородцы гулкой ордой шагали вниз по лестнице… И остался в сквозном ветре от окна к разбитой двери. И остался на миг в звенящей пустоте: лишь свечка бо вспыхнула перед глазами ярче солнца, а комнатца кружилась кругом вокруг нее. Ей-Глаху, будто в оракуле оказался узнать судьбу? И еще, когда рыцари уже под самым окном шествовали, ухватил конец их перепалки. Голоса, лишенные тел, звучали необычайно ясно:
– Гелка! – тяжелый глас Яромаха припечатал легкий фальцет юнца, будто гром мотылька. – Позорь себя, но не фамилию! Глах великий! Сей Гаэль проткнул бы тебя и больным пальцем!
– Не скаженный, – глухо-сухо подтвердил и Констанций, пришаркивая, будто говоря старую ветеранскую притчу, – не скаженный, а истый берсерк!
А что же я? Зряшно голошился на обожженную руку, почти как щенок скулил, и гадал, какая же синебрюхая муха меня так зло укусила? Что я доказал и кому? Судьбу какого Рима отважно спас?
3
Позже, много позже я спрашивал Елизера: и зачем же все это было? Зачем должны мы проживать смутные части жизни, от которых никакого проку ни свату, ни брату? А затем, jeune ami, ответствовал Елизер с добрым прищуром, будто вглядываясь в вечные желтые раздолья нарциссов на холмах за окном, что ничто не соткано наперед. Ничто! И ты не прав, ежели думаешь, что соткано. Ах, jeune ami, не соткано, но лишь наметано! И три вечные норны пряжут жизнь твою каждое сейчас, стерегут тебя каженный камушек песочных часов. И испытывают тебя, как поведешься, ежели такой виток вплести или иной петелькой завернуть. И судят тем, что сделал, и тем, что не сделал, и ежели полюбишься им, то в награду выплеснут золотую ручейную нить в твое полотно. И помнишь ли, еще говорил с добрым прищуром, и темные глаза его блестели на солнце ярым фиолентом: знаешь ли, что пряные раздольные нарциссы, столе тебе любые, – суть жестокий смертный яд? Но из них создана красота. И жизнь твоя, Гаэль Франкский, выткана из смуты и боли, но жизнь твоя – праздник!
Утро началось с простейшей народной приметы: на полуденном перекусе в казенной едальне кухарка выдала мне плошку водянистой каши (вроде пшено, но перетертое как-то? не с опилками ль? не разобрать в масляном чаду!) и пару крупных яиц от славной курицы-краснушки. Эх, присный завтрак стражника! Горячих ще! Но второе яйцо выказалось на разрезе двумя желтками и собратья тут же бодро захлопали мне по загривку, ажно в обожженную руку отдавало: знамо, к волчьей удаче! От ёж-моё! К такой-то удаче, что едва не закашлялся кислым пивцом от их ребячества, хотя и так-то еле шло… куда сей знатной жиже до Дарьянного эля!
Ох, как говорится на родине: quand on parle du loup, on en voit la queue… Помяни волка всуе! Тут же и вызвал декан в разнарядную комнату, да с таким еще постным ликом – чисто той тертой каши тарелка, только усы чернявые топорщатся невпопад. И куда девался говорливый выпивоха? Злился ли за родича? Впрочем, едва я вышагнул за дверь – и сам язык проглотил.
Первое, что почуял ещё за пару шагов от стражничной – ох! Благословенный la fougere парфюм, что помнил детской памятью про богатые приемы у дяди. Знаете ли: пышные многослойные дамские платья, строгие камзолы кавалеров… И парфюм! И парфюм: обязательно кумариновый миллезим для господ и лавандовый для веселых придворниц. Ах! Так вот при аромате нежном, при виде красоты ближней, я и сам-то… глаза глазеют, уши слышат, а язык немел. И как я-малец завидовал тем бойким ловеласам, увлекающим горделивых дам в вольный танец с вольными объятьями (а затем и в лабиринтовый сад на прогулку! ха!), как следил их жадными взмахами ресниц, измеряя нежный просвет меж телами… а сам-то так и стоял-пыжился у бархатного пристенка, разве что губы крепче сжимал, приглатывая напавшую слюну.
И вот – открылась мне в разнарядной комнате картинная композиция…
Сам-самыч господарь Никеандр тяжко меряет центр залы, потирая седую бородень. Не иначе в бедственных сердцах?! Три шага вперед, неровно цекая друг о друга шпорами, гулкий вздох, аже приказы-папирусы на столе дыбятся нервно, и вот – разворот хрустящий, почти парадный, и три шага назад. И как мала комнатка для его размаха! И веет от него печалью тысячелистника, любующегося от края поляны на дивную розу. Ибо у единого окна, куда уже затеяло глазеть золотое солнце, протягивая лучи-длани сквозь защитную решетку, – сиживала сама Фалерия-жена в розоватой уличной робе, плотной, но вышитой так по фигуре, что сослепу и не поймешь, не Метара ли, вышедшая поутру из перламутровой купальни? И корсет ее, от которого дыхом от оконного створа веяло лимоном и ванилью, сладостью всех времен, приоткрывался нежно двумя лепестками на каждом вздохе. И тень от решетки так ложилась на нее, что прямо птица в клетке! И да-да-да – самое светило наше будто тщилось к ней через прутья потрогать и обнять. Ох!
Ах, Фалерия… Ах! Або вздохнул и не выдохнул! И то ли взор голубой с поволокой, то ли аж рыжеватая на солнце волна прически, то ли рука весенне-белая, завершенная будто цветочной кистью с алыми ноготками на концах перстов… Эх, бывалый герой! То не в таверне с Милоном победными живопырными баснями меряться! Так и задохся тщетно от пунцового бессилия описать ее. Растворился будто в ее нектаре, и на голубую Луну бы залез для нее за любовным лунным камнем, растворился и пропал в ней…
Рядом еще вспомогательные персонажи букашествовали, будто детские оловянные солдатики, криво покрашенные: клятый лорд Леремонт в камзоле наспех (криво торчит златонитный ворот сорочки) непривычно мнется в углу собственной караульни и косится-зыркает на цветущую красавицу, но тут же тушуется глазом, едва господарь оборачивается к нему шагом. И с Фалерией-то – приплотнился рядом брюхатый некий пестрый купчик, полный смешного тщеславия и подобострастия. Ах, муж! Но так привык воровать казенное – желчной горстью гребет с Леремонтова стола земляные орешки, щелкает как будто свои, настырчиво шевеля щеками. Хотя бы на пол скобленый (господарю-то под ноги встречь!) не решился скорлупки вышвырнуть, а в пухлый карман сюртука запрятал пужливо. От же чучело живое!
Ах… Что было правда, что головокружение, за единый вздох сей парфюмерной отравы легко наворожённое, уже и не пойму! Но тогда и ощутил впервые волхвический свой дар: ты замри телом, або пень стоеросовый, но душу лучезарную выдохни в сторону собеседника. И поплывет душа и с чужой душой сольется и будешь чужие чувства чувствовать и чужую книгу жизни читать! Ох, Элизер гордился бы мной! Ибо – говорю вам! – сознание мое распылилось по комнате солнечными крупинками, и был я уже не скелет костей в мускульном мундире, не светлые разумом зеницы черепа, не трезвый глазом юноша именем Гаэль, а будто… бо ментальное чуткое облако, веящее по комнатце от персонажа к персонажу, вдыхающее разумления и заблуждения каждой тени мирской до малейшего вздоха. Но (ибо впервые растекался духом!) не ждите велеречивой связности! Не разумел я еще моих персонажей трезвоцельно, но по-детски чуял их смешинки и былинки:
– Говори же, Дарьян? – я-Никеандр нарочито развернулся от несносного отпрыска к пустой стене и сердечнее брякнул шпорами, демонстрируя явно, что кураж на исходе. На шестом-то десятке не важновато уже крутиться простофилей на месте, изводить себя бессмысленной и неотвратимой задержкой, но таков уж был – пускай обрюзглая оболочка, да Гадес ее побери хоть завтра, но душа ей-прежде пылает изнутри. Только потому и жив еще, что коросту черного проклятия, стягивающую дыхание, прожигаю сердечным боем насквозь! Проклятия мне глаголите?! Еще посмотрим, кто кого! Вон даже на шершавой стене безмозглый паук-секоножка замер вдруг в щели. Боится тени моей даже и молодец! И хотел было прибить его латницей, но сделал мудрее: выдохнул тяжело все миазмы души, опершись десницей о стену, и – не мираж ли Глахов? – секоножка побурел на глазах, погибая в проклятом воздухе, каплями осевшем на тельце. Эк полегчало! Аж помолодел! Да и у меня проклятия не хуже боговых! Кто кого! И готов был уже вскипеть на бездельников, вскинул голову… Но тут луч солнечный ударил в висок, обжигая, и оглянулся. Аах! Фалерия-дива любовалась от окна, и улыбка ее была как цельная мера масла для кипящей волны. Ох, теперь она уступит!
Еще звонкий оборот! Лицом к ней! А прочие… скажут, бес в ребро, скажут, снова на те же грабли! Будут мудрить о будущем… Будущее! Ха-ха-ха! Менестрели карентийские плетут вирши о любовных контрактах, но любовь – вот глупцам секрет! – суть простой временный договор на беленом листке! Получить здесь и сейчас! Я‑Никеандр ясно читал это в ее голубых глазах, драгоценно сияющих в золотой радужке: важна ли ей потеря бездельного кошелька на рынке? Но через глупого мужа она пришла сама, готовая уступить себя. В обмен на мою силу и волю. Силу и волю! А потерял бы власть и назавтра сбежала бы к иному дворцовому приблестню и была бы права! Приблестню! Как желчью по желудку плеснуло! – Дарьян!!!
По крайней мере, стяжальный бездельник отучился кривляться на службе. И заговорил кратко-делово, хотя и всклокоченным юнцеватым голосом, прямо как сам я‑Никеандр в молодые годы:
– Мой господарь! Смекаю собрата Гаэля, здесь призванного, переодеть заезжим мотом и пустить живцом на рынок. Мсье Гаэль благородного рода и едва из Коголана, рыночники ще его лица не признали, и отлично сойдет за нужную роль. Такожь, будут обычные стражники бражить, но в отдалении от господина Гаэля, которому дается задача удержать промышленца до подмоги.
Таак! Плутовство да к делу! Даже крякнул одобрительно: хорошо, будто и набирается ума!
Глянул искоса на бесполезного Леремонта, неморейского дохляка, Маренциева шурина. Вид опухлый и неловкий, как будто забыл подвязать кальсоны под камзолом! Дарьян-подлец и тот нынче давал больше проку, чем сей позор нации. А рожа-то – прямо беличья, разве что раздутая всемеро! Тьфу! Я‑Никеандр потер сильней бороду, выдирая седую бестолочь, давая глупцу поразмыслить, хотя дело представилось ясным:
– Господин Леремонт??
Тот дернулся, будто нехотно просыпаясь из вчерашнего застолья со спесивыми девками, до которых мастак лапаться. Ходят слухи, без натираний членных и не может уж? Ха! Опозорился ли давеча? Будто расслышав, Леремонт поперхнулся стыдливо, пожевал кривой губой, подергал каблуком, растирая въедливо крапчатую букашку в щербинке на полу, бормоча неискренний ответ:
– Мой господарь, наслышан и я о нашем собрате Гаэле, от обоих деканов весьма высокие характеристики…
– Ах, позвольте! – нежная красавица у окна вдруг-те встрепенулась и сталась бо садовая эсмеральда, привлекающая всякий жадный взор прозрачностью крыл. Но бабочка, разбалованная бессмысленными приличиями, королевским запретом её браконьерствовать, и – сама не зная пути! – вольготно флиртующая легкими взмахами со всеми кавалерами зарядья:
– Но чем же юный рыцарь Гаэль отличился для господина Эламира? – всхлопоталась я-Фалерия, наивно раскрыв голубые очи всем мужским обманкам. И пока ответственный муж надувался что-то ляпнуть, чуть слюной не капая в телесный лиф, пока раскипался пожилой магматической страстью господарь Никеандр, пока подавился кашлем-смешком молодой Дарьян, быстро перебила их мужские логические умы еще одной долькой лукавства:
– Но неужто прямо из Коголана! О, сеньор Гаэль, мой дражайший муж и я будем бесчисленно рады услышать ваши дорожные эпизоды. Убеждена, вы с блеском завершите сей, ах, розыск… пожалуйста-пожалуйста, будем рады видеть вас на званом вечере. Приходите вместе с господином Эламиром!
– Моя госпожа Фалерия! – О-о! Как низко гудел его голос. О, Метара, да если бы господарь Никеандр был хоть на дюжицу лет свежее, клянусь Метарой, далась бы ему прямо при всех! Какой магнетический тимпанум, какой густой порыв! Даже красавчик Эламир был перед ним игрушечный мальчик, нужный лишь, чтобы раздразнить покрепче. Хотя и приятный каприз! Ох, не скучать же без него все летние недели! Разве не безумный проступок – пропасть столь надолго?
– Мой господин? Молю женского прощения, что прервала ваш наказ. Но хотела лишь открыть глаза отважному сеньору Гаэлю, что же ему нужно… О-о, пожалуйста, сударь!
Это муж, надувшийся наконец достойно, чтобы молвить сентенцию, напомнил о внешнем положении дел. Раззудился ж! Положил одутлую, нездорово пахнущую руку на плечо, чуть не под лиф прижал свойно-купечески и забубнил политесно. Ах, забавен иногда! Забрызжил слюною в ухо:
– Позвольте, сокровище мое. Это все весьма мужские темы, розыск и прочее… мы лишь желали, благодарение милордам Никеандру и Леремонту, утешить вас…
И поколь Евстархий растекался так ореховой слюной на каждом многоточии, подошел… да что там, нагрянул всем телом! Ах, господарь Никеандр нагрянул столь центростремительно, что налюдно отдавил бедному супружнику туфлю, заставив безвольно отпрянуть. О-о! Какой же низкий страстный тембр. И как противиться? Как отдасться с честью? Сущие хаханьки! Как счастливо было плыть по течению страсти, собою же вызванной! А Никеандр молвил, будто решая конфликт собственности:
– Моя госпожа Фалерия! Моя честь вам порукой, чему свидетель и знамый кормчий Леремонт и сын мой крайний…
Говорил размерно, будто литании читал, тяжелым ликом к солнцу, и будто белесая сольца копилась на губах с каждым сдержанным словом. Ажно сила страсти обращалась в живой звук:
– Ибо для чего иначе стража, как не охранять ваш бесценный покой? Леремонт, Дарьян – ежели доверствуете сему молодчику, то немедля снаряжайте засаду. Моя леди Фалерия, позвольте вашу руку…
Да, так и назвал предрешенно: моя леди! И так повел в дверь (и куда дальше? хватит ли неприличия немедля отделаться от Евстархия богатым торговым поручением? немедля!), и муж-перемуж только слышался сзади грузной припрыжкой, и мальчишки Дарьян с Гаэлем стояли по сторонам двери как парадные часовые… и ах, какие юнцы!
Я-Фалерия замерла на мимолетном вздохе, проходя рядом, овевая завороженного Гаэля мнимым цветочным фужером, желая еще раз позвать смелее заходить. Желая еще раз испытать окружающих мужчин. Ах, какой торжественный момент жизни! И господарь Никеандр, полноправно владеющий уже ее белой свадебной рукой, уводящий послушную баловницу в фигуральный сад наслаждений, благородно задержался и переклонился через жаркий солнечный луч, блеснув испариной в бороде, похлопал юнца десницею покровительственно. Прогудел, что медовый шмель (и Дарьян дернул щекой, будто от слабого укуса):
– Добро пожаловать в Авенту, господин Гаэль. Мы здесь ценим благородство. Уверен, вы не подведете службу.
И глупец Гаэль – тот я, что молчал всю сцену и слюни слюнные пускал (хорошо хоть, успел манжетой отереться!), возвращенный вдруг из дворцовых образов в убогого себя, – хотел было молвить да милорд, а проговорился: да, миледи. Леремонт скривился вдали у окна всей небрежной фигурой, Дарьян ревниво скруглил глаза, господарь Никеандр уже не слышал ничего, кроме гулких сатурновых труб, глупый муж… как будто вообще не существовал боле. И только она-она-она, оборотясь сквозь пробившийся грубый запах распалившегося, увлекающего её самца, нарочно задевая шуршащей робой, – ах, Глахова прислужка! – поцеловала лучистыми глазами-ресницами так, что побежал бы на Луну прямо сейчас, незнамо зачем, если бы только слушались ноги.
Как славно дышит воспоминаниями наша память! Не сомневаюсь – и приукрашивает порой!
Должно быть – то был шумный яркий день. Давеча посвежело, никто не сиживал по полатям, и рынок яро гудел, бил в глаз и бил в нос красками и ароматами, весь просился на язык розовыми вырезами первых гарбузов, вдруг навалившихся на прилавки… и ловкими уличными акробатами, переплетающимися в живой узел за ломаный полубаклер (монета нищих!), и красными мебельными лавками для роскошных дворянских гостиных, и пыльным манускрипо… тьфу! манускриптотейным закутком для ученых чудаков из местной высокой школы, и ещё новомодным излишеством – горячей чайной верандой, где галантные кавалеры с дамами могли надкусить свежайший трдельник за свежайшей болтовней… И в дальнем углу – как же без них! – линялые шатры гадальных шарлатанок и приворотчиц, белые лавки (а то ж!) всяжных черномагов и прочей их своры. Маренций специальным эдиктом загнал их братство на отшиб, и хвала королю! Хотя и тише здесь, но будто и солнце не дышит, теряясь во влажных миазмах из глухого оврага. Ах, прочь отсюда, скорее к живой толпе…
Ах, и химы зеленокожие, и сюда добрались, прощелыги! Ах, и карентийцы!.. Да, тяжелые шубные прилавки, топорщащиеся обыденными рыжими хвостами и драгоценными чернобурыми. С выгодной летней распродажей! Прямо из Каренты! И напялены ще на тополиные поленья, но будто прячется в них жаркая карентийка! И – шаг в сторону – россыпи пудры на сладких кондитерских развалах. И – шагай! шагай! – кровящие мясные ряды, где освежеванные туши с хвостами, целые быки, но уже не могли они теми хвостами от кусачих мух отбиваться! И еще – уличные актеры-насмешники, кричащие свежие сатиры, даже и Маренция легко задевающие. И – tempora et mores! – известный по ухмылкам собратьев бордель с изыском (там и лавка со скабрезными картинками!), где надо постучать известным стуком в винное оконце…
Ах, эта-то пакость и помнится в первую очередь. Но вторичной памятью, будто и не со мной бывало, а с кем-то, кто однажды смачно об этом рассказывал и даже казался забавным… Что же, был зол после драки (расскажу еще, расскажу!), да и Эламира не было рядом, так и шагнул от скуки. Ждал ли чуда? Но – после яркого и пряного базара – не почувствовал ни женского вкуса, ни запаха… лишь толчащиеся бледные тени за занавесью, почти лишенные тела и голоса, и бессмысленные мелочи, вроде увлекших меня чем-то заманных гравюр:
– Ха! Весьма запальчиво! Но бедра, знаете, я бы круче вырезал. Да, знаете ли, как у ваших жарких карентинок? А личико беспечное…
– Охо! Сударь имеет вкус и не терял таланты даром в наших рубежах! Ежели в карентийском стиле, то вот извольте… мастерская чекань! Говорят-с, – одутловатый приказчик в полосатом кафтане аж засипел, склоняясь ближе и переходя на приятельственный шепот, – кажут, откровенно с натуры выбита-с! Можно и модель энту сыскать, ежели явите живой интерес…
Оох! От склонившегося сводника так полыхнуло гнилым зубом, что только за жарких карентинок и свататься! Но если от энтой мелочи отвлечься, – я был вполне впечатлен. Давеча в караульне до того обомлел, что так и не мог понять ее лица, боялся очи поднять на белый ее лик в окружии золотой укладки с золотыми нитями же, но что-то видно краешком глаза захватил. И в гравюрной лавке сейчас, – будто ясенно распаленную Валерию развидел под отблеском факела, вживую выбитую на чеканке (ох, стался бы бесстыжим мастером!), и сплетничал в охотку, чуя горячее довольство во чревном сплетении:
– Ликом, знаете, сиятельнее надо, круже, но не девственным светом, ежели понимаете. А светом урожайным, как в бабье лето, когда последние разгульные дни. И по косам тяжким прожилки золотые от свадебных нитей, как у вас и матроны замужние вплетают по нынешней моде. Также и губы должны зерном раскушенным гореть, и румяные ямочки на щеках последних пчел приманивать, и в глазах затуманная радужка вокруг василькового зрачка. Когда, знаете, истома в душе такова, бо разнузданно из глаз изливается, и уже безотказна и все равно ей с кем!
– Охо! Сударь красноречив, что и картины не надо! – парень коротко хохотнул, крутанул вяло кафтанным хлястиком, переступая по скрипнувшим доскам: то ли заезжий франт и прям мастак по веселым картинкам, то ли болтун спятивший. Читалось ясно на шепелящих губах: да что за присказки юнцовые, девка и есть девка, бери и пользуй до изнеможения? Даром ли живые есть на любой фигурный вкус? И не тратился бы временем, но тугой кошель на поясе гостя (меня) манил неуемно.
– Еще, сударь, имеем особую коллекцию на задах, – пораздумав, решился осторожно затеять ловушку на желтоперых…
Но дурак уже утомил меня хуже смерти: и мерзкий пахучий зуб, и слепой сумрак входной комнатцы с коптящим полукружным факелом… и чуть ли не крысы под полом пищат… али сношаемые девицы за занавесью? А за линялым полотняным пологом при входе бьются в щель солнце и воздух! И что Валерия… такова планида: белые намытые женские тела… ах! сущи во дворцах каменных, на белых простынях под балдахином на зеленом балконе! А в энтих лавках – толь смуглые неопрятные девки, пусть и упругие по младости, да уж напробовался, и что? Даже милая Катинка была выше сих всеобщих девиц, и Валерия была еще неприступней и белее, и что? А прав Эламир, вот что! Вот сам сказал выше, – а выше чем же? Все они белым тестом одинаковы, и на годы вперед не угадаешь судьбы, так и приходится выбирать по фигуре и голосу певчему. А хорошо ли это? Прав ли сей приказчик? Да Глах знает!
От мыслей таких путаных сделалось минутно-грустно, будто солнечная тень-стрела сместилась и пала на сердце, и вышел вон из палатки даже без прощальных тумаков подлецу…
Но поначалу – мне счастливилось играть роль. После того караульного разговора, где только – долго искал уничижительное словцо! – только бдел бесполезным пнем, когда другие думу думали, тут я сам был бог.
А дело было так: я сиживал у какого-то лотка на передыхе и глотал кислое пивцо из глиняной кружки. А народ вокруг – суетился, толкался, бегал по каким-то своим делам, будто пружинные игрушки. Так подумалось, когда второй или третий раз увидел тех же водоносов и тех же разносчиков сластей… да, как будто они так крутились неизменную вечность. Но стоило мне кого-то тронуть – и жизнь начинала бурлить по-другому. Заходил к кому-то в лавку, мед или злато, гравюры или шелка, приценивался, шутил с крашеными девицами, кидал им медяшные баклеры на приманку женихов, и сам будто… такое знамое чувство пронзило, будто сам решал, кому любить, кому исчезнуть с глаз долой, кому говорить, кому молчать. Истинный бог!
Хотя, какой там к гадесовым чертям бог? Тут же дворцовые стражники провожали во дворец караван бочек с рыбой – свежими муллами в крапиве. Бишь – краснобородками. Вопили и толкались так, что и пришлось посторониться, абы простому смертному. И едва не сбил с топчана какую-то бабку с пирожками, заругался было…
Но так была похожа на кормилицу морщинистым ликом! И осекся: какой из меня-то бог, но вот бывает (кормилица и говорила), что выходят норны в народ и так вот торгуют мелочью, смотрят, чего достойны мы. Уф! Купил аже два – с кизилом и ежевичиной, – чтобы благословила меня вслед, как с покупателями принято. Помогло ли это или с пути сбило? Да Глах знает!
Да, рынок огромнейший, палатки-лабазы-палатки-лабазы, не Метара захолустная. И как тут прохиндея-воришку сыскать? Но надо позарез начальству отчитаться, так Дарьян-подлец и пояснил с живой ухмылкой, крутя усы и повторяя врастяжку позарез, неважно кого, но завтра надо поутру на центровой площади (где рабские торжища) на кол чье-то тело достоверное вычленить, затем и стража. Там-то Леремонт и выступит с назидательным приказом. Вот так вот тебе – вчера один украл и рад-радешенек, небось, и Меркуриусу воскурения и прочее… а ныне другого неудачника да задцом на шест смазанный, брр… Думал ли, когда в Метаре подковы таскал, что с другой стороны закона маршировать буду? И таких же мальчишек-Гаэлей за ухо на кол тащить?
И распродажи рабские! Эту тему с рабами, признаться, я совсем не понимал, да я и не эконом. Но в Коголане этакого срама отродясь не было. Разве в прадедовские дни? Потому проще же малые недельные платить, и сам дурак пусть окормляется где хочет, чем харчевать здоровенного беспечного лба, разве нет? А свободный отравится у трактирщика дрянью какой самогонной, так и по заслугам и не жаль? Ха!
Вот разве утешные девы, тут я как-то опять усомнился в рассуждениях: вот военная добыча, чистый же приз, кто взял – вот и наслаждайся. Для хорошего солдата, так единственный способ чистую сыскать. Понятно, что избалованная горожанка сама-то не пойдет, так на то и война и рабство. Хотя, продолжая злую мысль, ежели берешь рабыню, то и содержи ее в теле, а надо оно навечно? Расходов часто больше, чем пользы мужскому здоровью. Так-то сбегал по нужде в бордель, и дешевле выходит. Уф, ну что за экономика!
Но когда наоборот мыслил, когда себя в загоне жердяном представлял да с выйною скобой, то аж на солнце вздрагивал. Убил бы, убил бы гада-хозяина и сбежал к пустынникам… даже Фалерия золотая купила бы для ярых утех, так на ложе и убил бы. Даже и разца не тронул бы ее золотое лоно! Ах… а кто знает? Не хотел бы такого испытания.