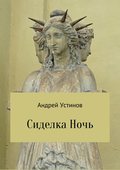Андрей Устинов
Король эльфов. Книга III
Он был уже у эльфов совсем своим и ничуть не стеснялся и не пыжился, а легко помахал взволнованной толпе перепачканным обшлагом. Эльфы радостно зашумели и захлопали шутнику, но даже бывалые из них не ожидали эдного откровения – Воробушек, хотя и подглядывал на несчастный обшлаг, но в промежутках вздымал очи к потолочному голубому огню, как будто поминая божий день и вычитывая строки из эфира. Строки наивные и прекрасные, рифменно безыскусные, – такие как раз эльфы и любят, ибо любят дорисовывать поэтические картинции силами души:
Я жил на облаке высоком
И подо мной цвела земля,
Простерши, сказочно стоока,
Нарциссов желтые поля;
Скользила лента их беспечно
По темным головам холмов
К ручью серебряному, встречный
Его едва заслышав зов!
Они тянулись вдоль реки,
Как радужные пузырьки,
Танцуя на ветру, волнуясь,
Желая эльфами казаться,
Живого отклика взыскуя…
Я созерцал и созерцал
И поневоле сам устал
Парить, на облаке кочуя…
И сердце золотом зажглось,
И вниз от счастья сорвалось,
И распахнула встречь земля
Нарциссов желтые поля.1
О, что тут было! Какие именные восклики в честь воробушка (“Орест! Орест!” – и уже не казалось смешным его помпезное имя) и радужные слезы, так что даже последующая мистерия об Элине-юнице-лесной-охотнице не оказала подобного эффекта.
И до того он нас охмелил энтими стихоцветениями – каждый вечер зачитывал! – что и Арель мой вдохновился. На очередной поэтике для начинающих стихоплетов вскочил вдруг и он, краснея и заикаясь, и вычитал без цер:
Хвали, зови любовь,
На сумеречный луг:
Храни меня, любовь,
Где первоцвета круг!
Живей, сюда спеши,
Росинками звеня,
Ко мне, ко мне спеши
И опои меня!
Живей, сюда лети
На ветреных крылах,
Ко мне, ко мне лети,
Покуда легок взмах!
Спеши, покуда длится
Песни краткий час,
Пока перо жар-птицы
В небе манит нас,
Покуда ярок счастья
Желтый огонек,
Покуда чую страсть я
И не чую ног!
Сюда-сюда-сюда,
Где зелен майский дол,
Чтоб здесь через года
Я первоцветом цвел!2
Казалось бы – сущая тарабарщина! Ха! Но кто влюблялся, тот знает – так и звучат наши юные клятвы! Арель признался позже, что повстречал на городской прогулке некую придворную даму и, ще не зная имени, уже воспламенился всей эльфийской душой! И снова я плакал! И знал теперь, что видели в нем Она и Лэрд. Эльфы таковы! А я-то – знамо, вообще плохо чую людей!..
Все же – изрядно крутило голову золотое вино! И воспоминания плыли вокруг головы золотым нимбом тогда, и плывут сейчас, стоит лишь глотнуть эльфийской мальвазии, стоит лишь ощутить тот вкус на нёбе и терпкий запах, поднимающийся будто в голову золотым паром, окрашивая все мысли в благодатный цвет! И лица вокруг мелькали, загорелый Арель и Воробушек, пуще пошедший веснушками, и говорили что-то светлое, и пускай Эламир хмурился тучей где-то на окраине просветленного сознания, но эльфийские девы скользили мимо, как наяды и дриады сапфических времен. Да вот к примеру, подсела к нам вдруг-вдруг большеглазая эльфийка-гадалка и гладила долго-долго десную ладонь мою, и сама заблестела вдруг очами, и поцеловала только руку мне и ушла без судьбы, и что это было?
И мы пили-хвалили вино всеми вечерами, вдыхали-хвалили их стихи, и обсуждали – да! – а насколько же все реально? И о чем это все? В таверне эльфов – среди сумрака и пляшущих Асгардных отражений на сцене – сие казалось важным и нужным вопросом.
Ах, это и есть настоящее воспоминание – воспоминание настроений и чувств, по которым мы гуляем во снах! Эльфийская пословица даже гласит: лишь то, что снится, достойно воспоминаний! А что… а что до воспоминаний людских, буквальных, то было и есть одно… для которого никогда не надо было усилий, которое будто случилось минуту назад, от которого будто все еще дрожу… расскажу через переворот часов! Ах! Удивительно, как хорошо я жил в ту пору и как мало видел. Все напряжения авентийской политики, все мирские страсти были вокруг, вились ветряными вихрями на рыночных площадях, бились прозрачными ключами с песчаного ложа Авицы, но я был слепее слепца и глупее глупца и не чувствовал неизбежного, наслаждаясь миром в сердце и обещанием Лэрда.
Лэрд тогда сказал мне все и не сказал ничего. Все оракулы таковы! Не будь я столь пьян эльфийским золотом и песнями, сам бы чувствовал неотвратимость магии в тяжелом янтарном воздухе… как же говорил тот смеющийся философ, потративший золотые таланты на бесценные словеса… Демокритус?.. что воздух суть соединение электронов – бишь, мельчайших янтарных частиц. Которые, легко домыслить самостоятельно, могут быть легковесны или полновесны, и когда тяжестны, то хранят в себе могущественный заряд: достаточно Глаху кинуть гневную искру в их золотой покой и запылают зарницей! И что же беспечные купания наши? Говоря уж о греках, как мог я, бывалый лицеист, не помянуть еще одного печального наставника судьбы – Гераклитуса Темного? Не он ли молвил однажды, также глядя на беспечно купающихся в Каистре юношей и дев: река времени течет мимо вас, слепые щенки, и никто не останется прежним.
8
Приспел и канун сентябрьских календ, согласно ромейскому календарю, заведенному в Авенте чуть ли не самим Глахом. Былина, ясенно, хотя и приятная эльфам: благовейно почитая Метару и ее родословье, Глах дозволил и старое название месяца – вересень. И не зря же: языком чуялась терпкая вересковая горчинка в ярком солнечном воздухе, сулящая богатый медосбор и богатый расплод жужжливых пчел к долгой зиме, и богатство на всю жизнь. Народец становился веселее на лицо, нетерпеливо обновляя праздные вышиванки в ожидании Троеночия: Перемены Лета, Посвящения Дев, Кострования-на-Костях и прочих прелестных языческих мистерий. Во всем нашем стольном граде, ей-глаху, один Эламир продолжал мрачневаться: хотя и оставался истово прилежен в одежде и цирюльничал всегда сам, не доверяясь криворукому отрядному тонзору. Фамильную бронзовую бритву с мрачной агатовой инкрустацией он с вечера оставлял вымачиваться в крепленом вине и поутру, перед построением, наощупь соскабливал со щек одному ему явный позор или недуг… но все же черты его, бывшие раньше столь яркими, что самые разбитные девицы на улицах благовейно жмурились, ныне будто затешились под сей бывалой бритвой, он был будто добрый и доблестный меч, но защербившийся в ночных дозорах и терзаниях с ночными духами, от слез которых уже тянется по бороздкам несмываемая ржа… Иногда в ночи, глядя на яркие звезды Кассиопеи, – самохвальной красавицы, повергнутой богами! – я думаю, мог ли отвратить неизбежное? Ибо Эламир Нейский – по-прежнему мой друг, несмотря на грядущее зло, и верный образец высокого рыцарства. И всегда он – свидетельство того, как слабы мы перед каменными ликами богов, ежели попадаем не в тот горний переплет, но как тщетно должны мы гордиться, чтобы не давать играть нами попусту, воинами жизни, будто безголосыми марионетками на шатких рыночных подмостках.
Но тогда… дни шли за днями, думы путались… я и сам был охвачен торжеством расплеснувшихся по берегам Авицы лилово-розовых вересковых кущей, по которым влюбчивые парочки уже протоптали мнимые тропки, был слишком взлелеян августейшим воздухом, слишком ярко напитан янтарным эльфийским вином, после которого заманные эльфийские распевы всю ночь звенелись в ушах, но пуще всего – запутан доверительным обещанием Лэрда, что всё-всё сбудется, что мне не надо бежать и стремиться, но надо просто ждать неизбежного счастья. А неизбежность – бывает и к худу, и к добру, и зависит сие от трех старушек Норн, неспешно перебирающих инертное руно бытия серебряными спицами.
В ликейоне нас готовили в адепты и безнадежно учили по сибиллическим талмудам – древним свиткам, где вычищены знаки речи и фразы – ей-ей! – каждый день читаются по-разному и переливаются смыслами, как перламутры на заре. Но что может понять кудрявый отрок о живых богах? Как расщелкать схоластическую скорлупу учения? Норны и Мойры! Мои трепыхания на Метарском берегу можно счесть несчастьем, да зато – хвала юношескому рассудку! – я позабыл всю школьную несуразицу, кроме купы затейных анекдотов о Глахе и Метаре – да будет вечна их любовь, скрепляющая мир! Но вот что привилось к душе от наших библиотечных вечерниц – настроение иногда философствовать…
Не забавно ли – дни идут-идут чередами… но какой-то становится переломным, будто бы насильно вставленным богом в календарь, как Великий Юлий когда-то вживил в февраль вторичный шестой – bissextus. И все глупые никчемные детали этакого дня помнятся, будто вчера: словно погремушки, бесцельно блистающие вокруг издавшего крик младенца… или напоминают иллюстрацию в кожаной энциклопедии: красочно разодетую свиту круже главного героя. Также и мне – в этом авентийском деньке, изукрашенном линялыми календарными флагами у каждого храма, доселе помнится вся наша бессмысленная солдатская бытовуха. Ибо в едином дне мнятся и жизнь, и удаль, но умножьте их на легион и выходит полная бестолочь. Так ли, думалось, и мне всю жизнь промаршировать по своим же следам? Под чужими флажками? Но я был… ах, знаете, как путник на многодневном перевале. Когда уже через скальный перелом видать за горевейной дымкой и зеленую переливчатую долину со зрелыми виноградными террасами и гранатными деревами, и даже синеглазый океан весь в беззаботных издали барашках, но тут-то и присядешь на полчасика распустить слюну: перекусить остатками нежного рябчика или жилистого кролика и парой сухих яблок. Набраться как бы сил, но не перед спуском, а перед грядущим. Вот так-то и было – Авента и Эламир изменили меня, а клубок жизни – так говорят! – не упрясть назад даже вещим норнам! Бывал я порывистым, как ветер, и кидался веселым щенком на все четыре стороны, но ветер завернулся бо в раздумья, будто я наконец стал взрослым. Кто бы предполагал? Поэтому и был сконфужен, потому и ждал спящей душой небесного сигнала от Лэрда, как задремавший на жаре солдат ждет сигнала трубача. А во снах – ох! Дело молодое, и какие только красотки мне не являлись! Ох, les émissions nocturnes! Но если раньше – были темные и поспешные, будто ночью тайно сбегал по нужде, то теперь сонные девы были светлы и нежны, аки золотой эльфийский рассвет…
Я проснулся рано и легко – от полоски света из качнувшихся ставень, пробежавшей по векам вместе с мягким поветрием. Трубач? Ха! Трубач (буцинатор, бишь) и должен был быть, но ваканция казалась проклятой: немеец Меларон – я плохо его знал – сгинул в несчастной Эламировой экспедиции, а нашего любимчика-пухляка Левандра, тоже метарца, но прибившегося пораньше меня, одолжили во дворец на чьи-то серенады. А временно раздувать щеки и таскать за пару добавочных баклерок тяжеленный линдоварский карникс, увечанный бронзовой головой дельфина, – пфф, благодарим покорно! Потому-то и новые собратья-кадеты, Картех и Дементус, еле выбранные Эламиром из безнадежных заезжих соискателей, еще сопели не в лад, беспамятно раскинувшись чреслами. Мда… Вообще, в каждой комнатце предполагалось три двухъярусных койки и одна широкая деканская у окна, да с отдельным притумбием, но ввиду нехватки зарплат на полный строй давно уже жили по четверо, при мне иначе и не бывало. Я-то всегда лез наверх, где воздух чище, складывая вниз одежду и прочий обряд, но новички и на то ленились… то-то, легко спрыгнув, налюбовался я на их нижнее царство!
Кривая лежанка Дементуса недружно поскрипывала вдогонку его сиплым горловым руладам: в давешней бузе с тригородскими караванщиками болвану крепко пробили носпырку и тяжелые сны свои он выдыхивал пересохшим ртом, аже водный слизень на отмели. Да и вонища от его потной бледной ноги, выпяченной на проход; и грязный опухший ноготь (аж не в навозном грибке ли?) требовал цирюльни… Брр! Вот уж примерный братец! А вот чернявый Картех был помоложе и посметливей, да и похвастливей… вот уж завсегдатай королевской цирюльни, чего стоили его подвитые патлы, вымазанные модной помадой из пчельного воска? От его дыхания млели даже мухи, будто сбившиеся на пряный зов и развратно ползающие по космам груди, подыскивая делянку для кладки. Ха! Точь-в-точь миловидные девицы, коих-двоих-троих наш живчик собирал вечерами по всему городищу! Вот те на! – даже на выперенное из сенной подстилки ухо, пробитое будто насквозь жесткими черными волосками, вчерашние красавицы намотали разноцветные локоны, приваживая молодецкую страсть!
Эх! Попади я изначально в палатку Дарьяна – нещадными пинками растолкал бы героев (ужо дрыхачить!) и заставил за себя прибираться. Сколько сам в Метаре настрадался от верховных! Но Эламир наказывал без шутки: службе полезнее, ежели каждый бдит за себя. И были резоны согласиться… ну как доверить кадетам драгоценные коголанские порты? Ха! Постирают на Авице по-местному с ядреною галькой и ходи перед местными Фалериями в голодранных дырках… Аха-ха! Фалериями!.. Сам-то Эламир нынче не ночевал, встречался с горевейным Володьяром (видал их вечор, перемолвились) и остался тосковать в достославном “Топоре”. Запрещено, конечно, но… койка его была аккуратно уложена и благоухала ще дворянскими приправами, даже приходящая прачка у него была своя! Никто, ясенно, и не думал присесть на его ложе впопыхах нечистым задом, даже долбаные мухи – и те будто уважали офицерское благородство.
Что еще? Во-первых, припекло вдруг по малому и пришлось прервать раздумья. Сбегал в дощатый дальняк: ох, не надо было столько пить козьего молока на ночь-то! Но редко завозят и Корвалис советовал для живота ейную горчинку… Оохх!!! И мухи зеленобрюхие устроили радостный хоровод!
Еще помню зубодробную колодезную водицу в умывальне… ежели первым встал: употеешь, пока вытянешь бадью. Ох, сие инженерное сооружение было! Не прямой деревенский колодец, где ведро под конец рукой перехватить, но цепь к вороту шла через верх, через пару круглых железных барабанов, так что бадья – аж на четверых хватало! – бадья сама вытаскивалась выше солдатского роста, цеплялась окованным краем за штырь-зацеп и изливалась в подогнутый почти плотно к краю желоб, наполняя умывальный чан. Вот уж получил разминку! Ох и хорошо!
Зато потом окатишься смело, не бережа для очередника, – ох и благодать. А с пропотевшего и ночные мысли лучше смываются, и светлый день ярче бьет по бровям из-за дырявой изгороди. Красота! И когда Тиморий, ещё юнец из соседней палатки, тоже нашего деканата, вывалился нечинно во двор, глашно спотыкаясь о булыжень, зевая и протирая зенки кулаками, – не знаю сам зачем, но так славно окатил его из руколейки прямо в сонную рожу, что заорал аж благим матом:
– Гаэль! Глахомать!
– Где твои манеры, собрат Тиморий? Не забывайся! Милорд Гаэль!
– Милорд Гаэль! Глахомать! – он сам уже ржал, вытирая ручьи с лица. – Ох, благодарю за службу! Не будет ли милорд любезен потереть спину?
– Разве что сею бадьей, собрат Тиморий? Ну-ка проверим твой хребет?
– Глахомать-ать-ать! – побежал вприпрыжку. Слов много он не знал, наш Тиморий, но в кабачной драке резв, а что же лучше? Нехудой собрат и, глах знает, вырастет еще в солдата. Я же вырос.
Но пока просто кивнул ему без панибратства, накинул чистую тельную рубаху и дошагал до едальной залы, порыскал там по открытым сусекам, надыбал черствый позавчерашний хлеб – и то дело! Для нищих ли кто-то отложил или собак бродяжных? Но и то дело! До едальной пересменки-то еще две склянки! Вышел на солнце, пожевал… побродил и по худому нашему двору – трава и та еле дышит! – поглядел на выстроившуюся уже муравьиную переправу через людскую тропку: какие-то пряные крошки таскали с запертого кухонного амбара. Мне бы туда! Эх, кухонные воры, ха! Не так ли и я с кузни подковы тыровал! Молодость!.. Но странно! Каждый день шелестят тут тяжкие нашенские сапоги и давят мурашек несчисленно, но все же творят заново свой великий пряничный путь. Кем мы мнимся им? Богами или демонами? Молятся ли они нашим образам в своих муравейных молельнях?
Когда добрался до оружейной – уже вся собралась вся наша ратия: ох, и шибануло в нос портянками из гулкого полумрака! Затейное изобретение тоже, из Метары недавно пришло: Равах Метарский был изрядный эконом и в армии умел навести единство, сапоги водились лишь трех размеров, так что кто-то и по две портяницы наматывал. Зато интенданту будто бы удобство! Излишне говорить, в Авенте пользовались этим благом лишь безземельные Дементусы, коих прихудилось (каков каламбур!) набирать и в гвардию: представить Дарьяна или Эламира, наматывающего на белую ногу сию стираную-в-дыры тряпицу и одевающего казенный сапог, – ахаха!
Но через сей сочный запах, ежели притерпеться после улицы, – бьется дружеский веселый гам, все-ж-таки собратья! Кортех с Тиморием и еще братьями затеяли гонять залетевшего как-то воробья, швыряясь в сердцах старыми никчемными шлемаками, ох и грохот стоял! А, вот что – завезли обновки с оружейной! И Левадий, широко улыбнувшийся мне, стоял бычьи растопырившись перед двумя недотепами, в поте бледных лиц начищавшими ему богатырскую кирасу, все же недавно выкованную по размеру – Эламир добился! И Симеон-молчун подмигнул мне дружно. У обоих теперь свои палатки, и смешно, как Левадий разважничался, но Симеон – крепкий молодец! Все снаряжение безжалостно сам чистит и свойных юнцов нещадно тычет – сопят с ним рядышком, чем не младшие черти?!.. Эх! Вот ты безусый необразованный сопляк, вконец рассорившийся со скупцом-родителем и явившийся во стольную Авенту завоевывать крашеных девиц, но натяни кирасу – и уже блестящий рыцарь во цвете лет! Вот вам важность доспеха! Ахаха!
Но так оно и было: ставни были закрыты, но все же пробился к ним ближе, где свежее, и веселился сердцем… так и вижу опять: факела не зажигали, не зима, хватало полусвета… мелькали перед глазами все эти лица/имена, которые не поминал уже сколько лет. Может ли быть, что что-то и придумал лишнего?.. Но знаю, что распахнулись ставни, шибанув светом, и Эламир вдруг сел рядом, прихлопнув по плечу и прервав раздумья, и оттого ль, что вспоминал его много, какой блестящий рыцарь был при моем прибытии в Авенту, – то показался немного другой, будто ломаная рука склеилась немного не так… Так – будто в строгих глазах надлом поперек серой голубизны, будто больше и в косице ломаных волос, да и голос зазвучал не крепкий и дельный, не приказом по всему деканату, а тихий в окружающем молодецком шуме, будто только для меня, будто в чем-то признательный, будто вторящий вдруг пробившемуся со двора соловьиному возгласу:
– Ты все же был прав, Гаэль!
– Ах, Эламир! Приветствую! Но о чем же прав? – я был растерян его незаметным появлением, и молодецкий бессмысленный гомон вокруг, только что зело радовавший, теперь изрядно мешал.
– Ах, неважно. Хотя… – Эламир взмахнул рукой к небу, будто извиняясь за детскую глупость. – Помнишь ли в “Топоре” резонировали о твойном Метарском подвиге. Вот там-то был и прав. Ох, и приложились тогда винцом! – он улыбнулся как-то кривовасто, опять признавая допущенную слабину, но все же то была частичка старого доброго Эламира!
– Ах, Эламир! – я загорячился, не совсем понимая его затруднения, но чувствуя, что говорить надо что-то успокоительное, в хорошем смысле льстивое. – Напротив, мне всегда льстили ваши нотации, даже если горячился ответно, то впоследствии всегда в них находился изрядный намек.
– Не разводи мучительные словеса, Гаэль, ради богини! Ты знаешь, я не ценю пустых прений. Но помнишь, учил тебя разуму, зачем из Метары сбежал вместо тамошней карьеры? Вот в том и прав, что сбежал. И не только в том…
– Но все же признай, – переменив позу, он вдруг заговорил энергичнее, что еще больше меня насторожило, – благо тебе, что ты взаправду мелкопоместен и смелеешь уступить, где рыцарь уступать не должен. Так что, пожалуй, и не до конца был прав!
Речь его оставляла много вопросов, но местоположение для споров было неподходящее, да и Эламир, энергично опершись мне о плечо, уже вскочил на ноги, объявляя утреннюю перекличку. И только взор его скользнул еще раз, будто по моим суматошным мыслям, и в светлых глазах – то ли облака, то ли что? Отголосок какой-то нежности, которая когда-то в нем была, которую, похлопав по плечу, хотел мне передать.
И, может быть, и не случилось тогда никакого рыжехвостого соловья за окном? Быть может, все это придумала моя память, приукрасив былое? Но какая ко глаховой матери разница? Ибо в моем вечном воспоминании, когда вижу я Эламира Нейского, рыцаря моей молодости, сияющего отвагой, блистающего доспехом, – соловей всегда поет, выкликивая его несбывшуюся любовь на все безответные лады.
А главные события дня заняли времени даже меньше, чем мои утренние шаги наперекрест двора. Вы, ясенно, тоже замечали: думы тянутся порой бесконечно, а настоящие события жизни коротки и жгучи, бо взмах зарницы? Потому это, что богам сомнения неведомы и дел у них множественно, и вершат они их взмахом каждой ресницы!
Да и как описывать жизнь? Бесмысленно описывать, не картина же: надо прожить ее всю – прожить и меня, и Эламира Нейского, и каждого муравья, о котором вещал давеча, и всячного-пустячного прохожего, встретившегося тебе на беду. В Коголане у нас была пословица житейская: dans des petits sacs les bonnes épices! Как бы переладить? В маленьких мешочках резкие пряности? Ахаха! Не расчихаться бы по пути!
А когда мы вспоминаем, мы вспоминаем частями, фрагментами, мы помним чахлый кашель одного встречного и путаную бороду другого, пошедшую сединой, но в жизни – все было сиятельно и одновременно.
И так и было:
Подметальщики уже заканчивали работу… они же, под петушью зорьку, вывесели на Глаховом храме золотые календарные флаги – так любой мог понять настоящий день. Полотнища тяжестно трепетались на вялом ветру, и также вяло трепыхался в грязопенной луже у каменного столба подбитый мальчишками голубь, а поодаль, почти у кованой двери, ожидая полуденных служений и медных милостей, дремал еще на циновке Леон – безногий наш ветеран… А вот – разморгался на звук воинских набоек! И голубь, и ветеран – жили только сим янтарным моментом, только минутными интересами тела: и не сказать, рассчитывали или не рассчитывали они как-то пережить градущую зиму… а просто не знали о ее существовании. Оба они были только здесь и сейчас, нежась в теплом ветерке, и больше нигде. И я вспомнил, как Эламир сказывал однажды про волков, живущих единой минутой. Но потом вспомнил и свое приключение, когда бывалый вожак легким горловым рыком придержал щерявого белого щенка, зная жизнь хотя бы месяц наперед. Вот сила вожака! Но кто из нас, городских гвардейцев в блестящих кирасах, знал хотя бы сутки наперед?
Эх… кинул Леону баклерку и пошагал дальше.
Ах! Несмотря на раннее утро, мой разум уже утомился блуждать в этаких философиях… я был рассеян, не особо внимателен, и любая деталь, привлекшая внимание, занимала меня раздумьями лишь до появления следующей яркой картинки, будь то заспанный лавочник, рассыпавший яблочный товар вниз по переулку, так что каждое звонкое голошение само кружило в воздухе, будто румяное яблоко, или будь то прохожая девица, спешащая из борделя к старушке-маме и поспешно стучащая в родимый ставень… а промежутки между картинками я совершенно пропускал – будто их и не было. Тело и душа легко-согласно разъединились – тело шагало-припрыгивало, даже будто бы шутки шутковало с товарищами, а разум, чьи воспоминания и читаю сейчас, был растерян и нерасторопен.
И потому, когда Эламир тронул вдруг меня за плечо, и объявил людно:
– Должим обход: Гаэль за старшего, по Масличной к рынку, по мясным рядам и к Зеленой башне. Там ждем…
… слова докатились до меня не сразу, он уже уходил вверх по Скобяному переулку, как-то выхорашиваясь четко печатать шаг по кривой булыжне, так что серебряные шпоры, признак придворного отличия, подрагивали ровно и звонко. Дарьян-то ей-же-день так сваливал от муштры, завязываясь на разные коммерции, но на Эламира непохоже. Странно! И холодком потянуло из узкого кривостенного переулка, где он пропал, и меня опять захватили те же философии: куда ушел он? кто знает будущее? Можно ли знать, что Эламир существует, ежели тень его больше не марширует рядом? Можно ли знать, что мы живем и жируем потому лишь, что мы о том так знатно рассусоливаем?
Рассусоливал, ясенно, только я. Молодежь была как сегодняшний голубь, только не подбитый, а еще вчерашний и здоровехонький, но ведь голубь и не чувствовал разницы! Они жили-не-тужили этим янтарным утренним мигом: отхлебнули из ведра у знакомого водоноса, спешащего на рынок, и шутливо поохали, пятернями держась за прихваченные ключевым холодцом зубья… полюбезничали с парой смазливых служанок, вызнавая их свободный вечерний час, довольные уговором – пересчитали звонкие монеты в дырявых карманах и даже стрельнули у меня полмуара до завтрашних жалований… и ничто не предвещало, что ныне их последнее утро.
Так механически мы прошли через рынок, вышли к башне, и Эламир неожиданно вычудился за плечом, и тут-то я встряхнулся и даже дважды обернулся на него: Эламир, да, но будто пустое место, будто выцежена кровь… и самое страшное: чистые голубые глаза с красными жилками. Ах! Он убил кого-то. Но… но и что? И я же убивал. А зная Эламира, – быстрый мах или резкий укол, и чьи-то глаза стекленеют и душа спешит убежать ко Глаху. Конечно, то была бы почти артистическая работа. Но чья смерть могла его так перетрясти? Никеандра? О Глах… вспоминая утреннюю обрывчатую беседу… О Глах. Но среди солдат, среди толпы опять было не место безумным расспросам…
И мы снова погрузились в обход: он не говорил ни слова… я и не оглядывался, просто чуял его потерявшие ритм шаги за спиной, продолжал механически давать указания собратьям: что там в тупике? поглазейте на задворье, не выломана ли черная дверь драгоценной лавки? что за перепалки в кабаке, ночи ли мало, вытрясите их на глашьи очи…
Так и кружили по нашему кварталу, пока с Придворной стороны не донесся набат. Набат был не пожарный, не боевой, но гудящий о тревоге, требующей общей сторожности. Ограбили ли какого лорда? Я послал Картеха сбегать за разъяснениями, сами мы также двинулись через рынок к северному краю, ближе к набату.
Рынок, только что манивший сладкогорьями дынь и арбузов, будто пожух… уже каким-то образом знал раньше нас, хотя и в неимоверном количестве версий: убита служанка-цветочница, убита знатная дама, принимавшая троих любовников разом, убита послушница Метары, прямо на ступенях храма… Подоспевший Картех навел страшную ясность: каким-то уличным бродягой заколота ясная леди Фалерия, выходившая со служанками из дому на Метаров молебн. И да-да, уличная цветочница с перепугу расплескала цветы на ее тело…
Набат. Слухи. Слухи приняли теперь гвардейский оборот: весь город закроют, все осенние праздники отменены, нет, отменят лишь свободные часы для гвардии и всякую маломальскую даму будут по всяжным делам провожать по-двое, да и к рыночным девицам каждой приставят насильного кавалера, да еще завтра объявят облаву на приезжих и ихнюю децимацию. Словом, кому набат, а кому и Гадес не брат – любой бродяга, дремлющий пьяно у шершавой стены, был теперь интересен как предлог для крепкого пинка – верно ли дрёмствует или притворствует, есть ли авентийский жетон, не просрочен ли? Кадеты наши восприняли все даже с энтузиазмом – хотя бы и в галерную клетку бродягу волочь, а все развлечение. Что до Эламира, им хватило ума не огладываться на него. Все знали, кто была Фалерия, и никто не хотел лезть в это пекло… это не воинское дело. Проблемы знатной сучки, pardonne moi! Скорее, Эламиру они сочувствовали, и даже рады были этакому божественному возмездию… и рады были оттянуться на безвинных прохожих. С веселыми рожами потрошили зачем-то обоз с бочками – окунь в крапиве ко столу Маренцию… какого глаха? Ну, может в бочке кто? О Глах! Кто там, убивец под крапивой?.. Глахомать!
Так остраживал их вполуха, а сам все переживал: но может и не виновен Эламир, а прослышал раньше нас? Что солдаты, они и не знали ее, кроме известных слухов, но даже я, только видевший мельком, и то чувствовал расстройство, и лик ее златовейный будто слепил мне глаза откуда-то сбоку, поднимаясь вслед за светилом в Асгардные веси, а с теневой стороны, где собаки грызли мясные отбросы, примерещилась вдруг ее светлая голова в крови… о Глах, как же так. Эламир не смог бы ее убить, я бы не смог. Но о чем же он говорил?
И в сей момент некий шум отвлек меня… Из того самого узкого Скобарского переулка, куда мы вернулись на третий круг, донесся высокий женский выкрик, буквально симфонический визг, будто пичужная стая разлеталась по сторонам, и будто звук поножовщины. Переулок выходил другим концом на богатую торговую улицу, уже не нашего квартала, но – знамо дело! – у кого-то под обилием слухов подсдали нервишки? Картех и Дементус выскочили было вперед, будто боевые псы, но тут же присторожились у темного входа: из переулка выметнулась вдруг светлым пятном женская фигурка, за нею – о Глах! – припрыгивая по булыжне и пачкая кровавым следом, выкатилась голова Тимория с разинутым в изумлении ртом; Картех и Дементус попятились враз, но окоченели будто, и черный демон, выделившийся из переулочной тени, проскользнул между ними, славно закрутившись в воздухе, и оба тут же пали на булыжень без единого слова, держась за животы.
Из переулка, должно быть, налетела и на меня волна сжатого ветра, так что зарябило в глазах. Видел я как будто сполохами в темноте, отдельными цветовыми пятнами: вот – лицо девушки, серое от испуга, дражные бисеринки пота над широкими светлыми бровями, моляще искривленные губы… наверное, так плотно были сжаты все преследование, что крепко слиплись выступившей и запекшейся кровью-киноварью, и нет теперь им сил раскрыться? Вот – голова рыцаря, шлем рыцаря, блестящий парадный шлем с серебряными вставками с изображением известнейших битв древности… бойницы очес, черные колодцы, ледяные скрижали ночи.
А звуки – звуки лились отдельно, бессвязно с увиденным… чей-то сиплый умирающий дых, порочащий Глаха, эфемерный звон серебряных шпор захватчика, мерный и неотвратный, будто метроном. И девушка… не видел, но прошуршала мимо резвым облаком и затаилась… Верила ли в нас? Кажется, и назвала Эламира по имени?..
Переулок опять дыхнул на меня черным воздухом, даже волосы под шлемом заежились, и черная фигура выпрямилась в десятке шагов впереди. Черные доспехи как тень. Какой там бродяга – божеский рыцарь-посланник высшей пробы с черным кеваларским мечом, пробивающим наши скобарские кирасы аки папирусную гниль. Скобарский переулок! Картинка будущего сама высветилась у меня в голове ярче завтрашнего дня: Картех и Дементус по шершавым стенкам, расплющившись задницами на влажных нечистотных канавках, еще ворочающиеся непонятливо, держась за гузки, и посередине – я, Гаэль Глахомать Франк, еще стоящий будто, но коленца ще дрожат… и почему-то с переломленным по виску шлемом, как будто самое я, сознание мое, кто-то черный отрезал от тела. И так будет?