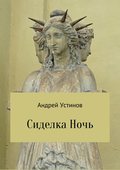Андрей Устинов
Король эльфов. Книга III
4
Смерти я не боялся никогда, что же плохого оказаться в Асгарде? Но вот выжил – и стал бояться калечий. Хотя собратья и дотащили до Глаховой прихрамной лечебницы, но кинули меня наперво в общем призренном покое на скрипучем осиновом полу, пахнущем помоями; так и лежал в рядок со прочими славными горожанами и лечение шло болезненно: первые часы (дни ли?) и не помнил вовсе, лишь горячечный фантасмагорический бред, бо уже ткнулся носом в землю и заглянул в Гадесов ад, полный болезных и зловонных инвалидов без рук или ног, раскиданных по палате, как куски безобразного мяса. И выжил – лишь благодаря господарю Никеандру.
Ах! Когда лежал-бился на ссаном матрасе да в мокрых полотенцах, снятых неизвестно с какого прокаженного и накутанных на меня от адского жара, то каждый светлый промежуток – вскидывался на ажный крысиный шорох от порога, надеялся еще: быть-может-быть-может, Фалерия-солнце воспомнит о забавном молодце, пришлет с той горничной надушенную поздней фиалкой записку, от которой воспряну духом… или даже сама явится, как Метарова ангелица во плоти? Под ее дыханием да голосом медоточивым – и умереть бы! Но куда там… лишь копоть от лампад слезила глаза, да крики бедолаг, наскоро кромсаемых местными студентами, резали слух. И спас меня лишь придворный лекарь Корвалис, назначенный господарем… Наперво и он являлся, словно бес в бреду: узкий желчный человек в зеленой хламиде, пропахший медициной всеми частями тела и гардероба, от одного потертого обшлага разило ромашкой, от другого раствором мышьяка. От чесночных запахов его и сознание минутно оживлялось, но и боль в животе тут же прогрызалась заново.
Извечно угрюмый, Корвалис лишь бурчал под нос разные разности, но больше и больше с каждым визитом, так проявлялось его ко мне добродушие. Начал он категорически: хмуро глянув на мокрого распеленатого птенца (меня), тут же раскрыл принесенный sac(de)voyage бычей кожи, протер коголанский же скальпель (какая ирония!) белой винной тряпицей, и без лишнего словца предупреждения принялся взрезать блестящим серебром красный нарыв с мертвенно синими продавами от ремизных ниток… боль была этакая, что меня (подскочившего до Глаха!) немедля захватили под плечи местные студенты-цирюльники, глазевшие на дворцового хирурга… да и сам я щасно потерял сознание, хотя и странным образом: слышал еще некоторое время свойный нечленораздельный вой.
Вот же отблеск господаревой силы! После визита Корвалиса служки живо перенесли милорда Гаэля в отдельную от инвалидов палату, обрили аж до паха и остригли ногти, перестелили постель и – немаловажно! – справно помогали мне с ночным горшком по первому зову в свинцовый колоколец; а также трижды за день протирали края раны подготовленным соком подорожника и щедро распрыскивали благовония от навозных мух. Неделя выдалась ливневой, но даже переливчатый пасмурный свет сквозь оконце радовал меня после пережитого ада. Вскоре Корвалис явился вновь, еще раз перекривился носом и повторил операцию на краю шрама, тоже вскрыв и перемыв нутро нарыва разведенной винной эссенцией, сильно бьющей в нос; на сей раз я сознание не терял, но и чувствовал мало, кроме режущих взмахов ножа, когда терзал зубами набитые в рот простыни – после оказались прогрызены до дыр.
Ах! Заодно – истинный гиппократ! – и десницу мою, сдуру тогда у Дарьяна обожженую (помните ли?), Корвалис намазал какой-то белой густой мазилкой и обмотал суровой марлей. И опять бурчал, бурчал… ох!
Настроение лекаря улучшилось тогда лишь, когда он уверился в успехе лечения и мог рассчитывать на премиальный кошелек от господаря Никеандра. Но не тщусь наговаривать! Возможно, он лишь обрадовался, что местные прилипалы сбежали вдруг на убийственный крик от дверей (опять ли поножовщина в амбарах?), оставив нас почти на небесах – еще и солнце за оконцом заиграло наконец полной силой и такой настал покой! Что бы ни было для него важнее, царский кошелек или жизнь моя, но, полив заживающую рану желтоватым миртовым маслом с характерным врачебным запахом (оох!) и повыдергав (от некоторых стежков аж опять до зубовной дрожи прохватило) последний конский волос, Корвалис вдруг утратил постоянную болезненную хмурость и пробурчал самодовольно:
– Так-то, мсье Гаэль, будете у себя в Коголане, не забудьте рассказать, что даже cavitas abdominis лечим мы тут весьма успешно, думается, каждый третий выживает в моих руках!
– Да буду ли, – охотно ответил я, вздыхая. Пока Корвалиса ждал и тщетно трещины на потолке разглядывал, думы-то всякие терзали, но сейчас блаженствовал одно: не калека! И хотя разум мой утратил былую прыть и трудно было разом думать разное, но высказал (хотя и несколько хвастовато) главное для человека чести: – Но я, мсье Корвалис, ваш очевидный должник. Не знаю ваших гонораров и вряд ли могу выплатить разом! Однако же, ежели от стражи нужна будет помощь, то обращайтесь непременно. Чай, не без связей!
Корвалис буркнул нецерковно под нос, потер его зачем-то под косматыми ноздрями той же винной тряпицей, и глянул вдруг на меня пронзительными желтыми глазами:
– Вы, однако, наивный церемонный вьюноша. Ежели мне требно что-то от стражи, то иду я к господарю Никеандру, а то и прямо к его величию Маренцию. А вот им когда икается, то зовут со стражей! – собственный каламбур так изрядно его насмешил, что он закашлялся и еще раз протерся винной салфеткой.
– Но чем же я обязан, – спросил я, морщась. Морщился и от тянущей по освобожденному шву щекотки, и от того, что не понимал толком, что же высказать, но хотелось подольше задержать лекаря. Дернулся даже щекой. Ах, спросил-таки тайный вопрос души: – Но кто ж молвил за меня петицию господарю Никеандру?
Корвалис уже закутывал меня в свежие покрывала – ах, крахмальные простыни! – и собирался уходить. Но при дворцовом вопросе ясенно обрадовался показать близость к интригам и даже местами зачмокал губами, как все мы делаем, вспоминая нечто приятное:
– Значит-ца! Заглядывайте ко мне во дворец, мсье Гаэль, когда пойдет сила в ногах, неделица-другая, я полагаю. Пропишу вам сердца артишока для настроения – замечаю, что тело ваше живо вполне, но духом блуждаете не по нашим пажитям. Не стоит, мой мсье! Ведаю о вашей галантной экспедиции – молодой Дарьян всем во дворце нажужжал сию историю с некоторой, намекну, долей иронии о вас, но господарь Никеандр знает лучше. Ибо то, что стража полгода не могла сыскать, вы доблестно открыли за день… золото тю-тю, но драгоценные браслеты не все пропали и частично были сысканы. Особо царственная леди Карина возрадовалась! Затем господарь Никеандр и узнал о вашей ране, в шутейном пересказе господина Дарьяна, прожужжавшего ему – между нами! – всю улитку уха… тут же вызвал меня проведать ваше здоровье. Также и о деснице вашей декан развил повесть, и вы, господин Гаэль, вполне можете чувствовать себя лежачим анекдотом! Ха-ха! Но прискорбно, что господин Дарьян не доложил точнее о вашей плачевности, потому задержался на день. Еще бы чуть, и уже разгной ваш перешел бы в лимфу и разнесся бы до внутреннего мозга, как учил еще Алкмеон Кротонский, за три дня бы и отмучились.
– Ах… – я почти расстроился. Ежели действительно стольким придворным дамам вернул драгоценные безделицы, то могли бы все как одна зайти ко мне и вернуть к жизни?! Но так еще был слаб после болезни, что воображению не хватало красок… никаких ярких картинок не привиделось душе. Недоумевал только: Никеандр… кем я был для него? пылинкой на периферии взора… но возможно блестящей его глазу, вот и позаботился? Ах! – Передайте… передайте господарю Никеандру мое почтение. Нижайшее почтение.
– Не смешите же меня, мсье Гаэль, – лекарь опять закашлялся, замахал у носа любимой винной тряпкой, и пришел в такое-сякое благодушие, что присел на край кровати, достал из саквояжа-рундука два костяных стаканчика и налил по чутку волшебной эссенции. – Держите-ка лекарство!
– Благодарю! – я смутился, но выпил махом, и тут-то охнул горлом и почувствовал наконец во всей онемевшей юдоли своей живое шевеление. Корвалис также глотнул изрядно, поперхнулся и вдруг вспыхнул сварливо:
– Каши и супец, мсье Гаэль, продолжайте с неделю только так! Местным аптекарям строго наказано, что вы мой протеже, так что ежели опилки и короед в каше зашевелится – всех ногтей лишатся и на галеры врачевать! На галеры! И жалоба не в горьком хитине per se, как могли бы вы подумать, но в покое брюшины, которой вредно брожение желудка…
Я ажно опешил от сей пьяной вспышки, как будто Корвалис спорил сейчас с заочными оппонентами, почитателями грубого помола, а то ли и сам мучался животом? Но старик кашлянул, нерешительно глотнул еще и на сей раз удачней, не пролив ни капли:
– Да-с! А ваше нижайшее почтение… на кой оно глах господарю Никеандру? Великий воистину муж, ибо, будьте здоровы, судит по вашим делам, а не льстивым велеречиям. Дарьяну вашему цена баклерка! Приковы… ковыляйте ко мне, коли будете стойком держаться, представлю вас господарю живым, дальше уже ваша карьера!
Лекарь так неожиданно расцвел, что и мне, несмотря на дурноватость, помноженную винной водкой, еще хотелось задержать его, прежде чем заново окунаться взором в паутину потолочных трещин:
– А вот кстати вопрос, господин Корвалис, – зажегся вдруг близкой сердцу мыслью. Обыкновенно, боялся утонуть в бесплодных разговорах, как в Дарьяновой коммерческой болтовне, но тут потянулся живо, взмахивая рукой. И за рукой моей (не смешно ли?) тут же запрыгали по стене световые какие-то пятна, будто отголоски волшебства: – Но почему не пользуете вы магию в облегчение операций? Моя былая рана, извольте видеть, сей кривастый шрам, бегущий из под вашего, прошла мне легко, ибо некий удачный маг усыновил, фактически, мое бренное тело, и взялся за воскрешение…
– Эхе, молодой человек! – Корвалис пил потихонечку и вприхмурку, будто запивая каждое словцо. – В неразговорных мы реляциях с верховным нашим магом, весьма! Но были бы без надежды, так бы господарю и поведал, он-то и призвал бы. Хотя…
Корвалис поцокал языком, длительно вздохнул, взболтал осадок и тишком допил остаток:
– Магия… кто знает, монсье Гаэль, что она берет взамен? А мое лечение – лишь золота-серебра требует, куда яснее. Магия науке невластна, никто не разберет, что сие есть и чем обернется. И не приходится раз на раз! Я потому ее избегаю всей душой…
– Но позвольте, а… – тут уж вышла моя очередь поперхнуться. Даром ли мучался в ликейоне столько лет? Даже, кажется, я сбил старика с некой важной мысли: – А Глах, а Метара? Вся религия наша не суть ли рассказ о великой магии?
– Ааа… Предполагается… – Корвалис затеял было говорить, но как будто не хватило дыхания, и, неожиданно заметив в руке пустой кубок, оглянулся на мой, просветлел, что тоже пуст, и живо налил нам еще на глоток. – Предполагается, что это великая магия, да. Так несомненно и есть! Но, мсье Гаэль, даже вы в ваши полубородые годы должны различать, что истинных святых не существует. Маги, положим, есть, но святые? Находясь, собственно, в настоящей Глаховой обители, много ли чудес вы узрели, кроме чуда преображения настоятеля при имени нашего господаря? Ха! К тому же, и у самого благого клятвословия найдется оборотная сторона… да то сказать, сам господарь Никеандр уже на себе познал цену глупых волшевейных поклятушек! Хе-хе!
– Действительно… – что-то я хотел горячо возразить, даже попытался бессильно приподняться на кровати… как будто развидел несостыковку в данном помысле, но вздохнул глубже: и правда, от Метаровой ревности такие последствия! Хотя господарь и не худший придворный тут… Эх, неисповедимы пути!
– Выпьем живее, монсье Гаэль, за ваше здоровье. Но не напрягайте себя тем, чего нам не познать… Вы любопытный молодой человек, не без извилины, будет молвлено! Это я вам могу, хех, сказать без Гиппократовой трепанации! Заходите почаще ко мне во дворец, побеседствуем без стеснений.
И ушел неприветливо, неряшливо хлопнув дверью.
Ах, дворец! Золотой иллюзии хватило на полчаса мечтаний… вот Никеандр пришлет гонца с тяжестным кошельком… вот назначат деканом… Но затем, бо лекарство миндальное принял, так и хлынуло горечью на язык: да что же я за герой, если жизнь той девы ненаглядной готов на желтые монеты разменять?
Spiritus быстро испарился из души, нутро так и ныло неделю, хмурые мысли так и не оставляли меня. Ажно расчехвостил (господаревым именем!) местных служек сдвинуть ложе мое к подоконнику, где светлее… валялся днями на крахмальной постели, тщетно крутил Глахов амулет на шее и разглядывая желтые ястребинки за окном – раскрываются на солнце и закрываются на дождеце, раскрываются и закрываются каждый глахов день. И воображал себя бесполезным владетельным герцогом, которому заботы нет… и боялся выздоровления, боялся стражеской рутины, где кабак и караульня каждый день, боялся прежней жизни без прикрас, без хорошей женщины, которая одна, словно чистое солнце, может придать тепло этому миру.
А так – после краткой водочной радости, – казалось, перенял Корвалисову желчь и любое событие мнилось бесполезным, глупым или просто подлым. И бывшие близкие люди – казались будто искаженными тенями, скупым отголоском былого, потерявшим весь звон и осевшим в шепот. Так что не обессудьте за скупость строк. И сам чуял, что жизнь поблекла, да поделать что?
Скажем, заходил Эламир, на днях вернувшийся с гвардией из Долины Теней – долгой холмистой равнины между Авентой и горами. Сам не бывал, но видел во внутреннем салоне “Топора” славную картинцию на широкой стене: свысока да на рассвете – сухая долина с ее придольями казалась рыжей пятнистой шкурой невиданного зверя. Но визит не вызвал в душе подлинной радости, хотя и обнялись; да и Эламир – оттого ли, что сбрил в походе светлые усы свои? – был темен лицом под стать крапчатому дождю за окном. Сбрасывая морось с плаща, рассказал в трех предлогах, что поход прошел с небольшим ему прибытком, но без особого почёта, да вот и Милон убит пустынниками на обратном переходе, там и похоронен под тремя камнями… Все это не вызвало никакого отклика в душе, не выспросил даже деталей несчастливой засады. Рыжий толстяк Милон рисовался где-то в туманном прошлом, экабы давеча, малость перебрав на пирушке, шагнул прямо из гостиной “Топора” в тот картинный багет, да и пропал там. Давеча…
Давеча я и обомлел бы от эдакого коленкора – до вот этого шумного дождя, занавесившего окно желтой вязью, до вот этой недавно пересеченной aller-retour (ну, туда и обратно) линии жизни; теперь же пребывание Милона там, а не здесь, не вызывало ни вопроса, ни интереса. Мелькнуло тенью крупной птицы другое сомнение: Эламир, возможно, знал уже про Фалерию или нет? Но я был безучастен даже к ней и не спрашивал…
Забегал еще и весельчак Дарьян, изрядно наследив по полу рыжей глиной, и даже приважил бутыль заводского эля. И хотя много я передумал горького о нем и откровенностях Корвалиса, но уже не юнец, уже правду-матку не резал в голубые глаза, а лишь поддерживал никчемную беседу, впрочем, с некоторым подтекстом. Будто прихлебывая и запивая внутреннюю горечь, но будто настырно ожидая от Дарьяна разъяснений. А он поначалу мялся и мялся, небрежно звеня шпорами, межевался от стены к стене, брызгаясь глиной, и на оконном свету даже рыжий волос пробивался у него в бороде – от тайного стыда, не иначе.
– Видишь ли, mon cher Гаэль, – Дарьян глядел поверхностно, бегая глазами по убогой общей обстановке, но отмечая взмахом ресниц и крахмальную постель, и серебряные приборы на широком подоконнике… тоже будто прикидывая, как половчее для себя передать новости, – кхм! Я не ожидал от тебя, ей-ей, этакой щенячьей детскости, подставиться румяной девке под нож! Так прислушиваться к этим… менадам. Вот ты учудил! Отрадно, собратья следили ваш забег и успели тебя подобрать… так что отдай и мне должное! Мой… мой господарь не верствовал, но – хвала Глаху! – наш план сработал и все мы в удаче!
Я подивился про себя, когда план успел стать нашим, разве лишь к концу предложения? Но больше заинтересовался денежной ноткой в разговоре. Дарьян явно тщился что-то высказать…
– И что же выиграл милорд Дарьян? – спросил, еще отхлебывая из бутыли и чувствуя-таки некоторую отраду от прохладного напитка. Спросил по-былому шутливо, но и с подковыркой, ибо если план наш, то следующая фраза напрашивалась сама.
– Ха! – Дарьян облегченно оживился на знакомой стезе. – Некоторые полезные перестановки по службе! Мой господарь освобождает меня от казарменной стражи, но по согласию Маренция возвышает торговым головой всей Авенты. Ха, Гаэль, они неизменны! Лишь бы дворцовый товар беспрепятственно тек в их палаты! Посему продолжу дневальничать на Метарских воротах, и ты, дорогой иноземец, всегда мой желанный гость! – тут он несколько закашлялся… Подошел к окну, понюхал свежий воздух, выясняя завтрашний день, и взмахнул рукой, ей Глаху, будто только что Глаху молился и при выходе готовился бросить нищим щербатую баклерку на потеху.
– Ну это будущее, с августа. А пока, говорю тебе, cher Gaël, неудачно попал ты под бабский нож, но все же я похлопотал, чтобы господарь вызвал тебе лекаря. Слышал от Корвалиса, что все образовалось изрядно, с чем и поздравляю… Награды, уж извини… попомни мою поговорку: награды всегда знают момент! Мало что-то сделать, но надобно еще явиться на награждение! Иначе – извини…
Cher Gaël! Ох, ну и туземный выговор! Он отхлебнул еще и продолжил с кривой ухмылкой болтать, будто пытаясь за словами скрыть недосказанность:
– Отдаю, однако, и тебе должное. И не подумал бы на девку! Надо же! Но пойми… кхм. Кошель тот королевский, ты же знаешь мои расходы на собратьев, уже не вернуть и не поделить. Хах! Но знаешь ли! Вот… вот золотой дуплет на вино и девок и бери еще неделю, считай что отпуск по отличию. А? Вижу, тебя тут харчат как на убой, я сам иной раз хуже столовничаю! Подлечишься тут на сих церковных сухарях, хех, чтоб я так жил, и вернешься уже к Эламиру своему… ему тожно повышение вышло, ни за что считай. Говорю тебе, все в прикупе. Я все уже старику Леремонту подал, и, между прочим, подал ему отличие. Знаешь ли, есть у нас достаток за увечье на службе… Так и получишь полмуара прибавки каждый королевский платеж, а сие, ежели рассудишь и за годы верной службы сочтешь, будет понадежнее, чем минутный кошель! Что же скажешь?
– Благо! – я притворно кивнул, допивая бутыль единым глотком и чувствуя, как ячменная дурь бьет по мозгам. Спорить о чем-то со старшим деканом сейчас? Не такой я вылитый дурак, еще стражничать вместе. Да и правда, что деве той нежной нежно поддался… а лучше бы, за что и винил себя горько, лучше бы ловил ее на той щербатой мостовой. Может, и ушиб бы ей личико, да и зажило бы начисто, но владел бы ею сейчас самолично. А что кривые баклерки-монетки… Ежели бы нужны были, как в Метаре пришлось, так полстражницы бы местной продал и не моргнул бы. Ха! И какие еще годы службы за полмуара? Завтра бы милорду Дарьяну самому и продал в полцены! Ахаха!
– Благо! – так и хлопнул бутылью по подоконнику, едва не разбив. Но и нарочно, играя пьяного скомороха, крикнул излишне громко: – Как встану стойком, непременно буду заходить!
– Вот и дело! – Дарьян подрасслабился всей фигурой (боялся ли ябеничества Никеандру? ах, всех по себе меряет!), тукнул опять сапогами, гулко прикончил бутыль и беспечно выкинул в раскрытое оконце на желтую поляну. Проследил бледными бусинами-глазами как катилась и припрыгивала и еще ухмыльнулся в черные усы: – Нашепчешь еще, как там бегал за эльфиней дикой! Бравое почтение!
Что же! Я дождался у окна, пока декан выехал от крыльца за тяжелые ворота, чинно отдал лошадиным задницам прощальный салют… то-то в экипаже уже! торговый голова!.. кряхтя и пошатываясь, прижимая животину рукой, – но надо же как-то шевелиться? еще служить и служить до пенсии! годы службы! ха! – выковылял во внешний двор, подобрал бледную Дарьянову бутыль и кинул подальше от любезных ястребинок… куда-то к Гадесу. Да и свою, зачем-то более зеленую и тонкую, потянувшись осторожно и сняв с высокого подоконника, отправил путешествовать следом. Туда и дорога мальчишеским мечтам!
Брр! Вздохнул, оглянулся… Вроде – я и жил, спасибо Никеандру и Корвалису. Но вот зачем? Чувства были мертвы, и желтые ястребинки казались мне пришелицами из какого-то другого веселого мира, которого я больше не знал.
Когда я вышел из лечебницы окончательно, – тоже свернул от дверей, хотел разглядеть поближе поникшие под наново нахлынувшей жарой ястребинки. Помечтал даже заказать настоятелю полив на Дарьяновы грошики, да что толку, тут подлинный цветник надо высаживать и свинцовый водовод громоздить. Видал такое чудо в Коголане в богатых садах. А так: мертвые цветы – мертвые чувства.
Я еще числился в недельном отпуске на восстановление, мог бы и впрямь утешиться с девками, но без задержек пошагал к казармам: дворцовое платье-отребье, в котором смерть встречал, да не встретил, пускай и в засохшей кровище, но следовало чинно вернуть. Там и помылся на задах под широкой братской бочкой, поспешно набранной для меня дневальным, – хотя и был после банных процедур (тоже Корвалисом заказанных) весьма чист, но хотелось сполоснуть с себя самый лечебный дух! И переоделся наконец в те мои коголанские штанцы, которые так и бросил на нижней койке, когда наскоро переодевался в щеголя, – кто-то на них уже посидел, но вроде жирным задом особо не испачкал.
И даже получил жалование за вышедший срок, на полумуара-то больше, тусклая серебряная монета с кривым Маренциевым профилем. Был бы королем – запретил бы себя печатать – сплошная карикатура. К тому же – каждый дурак да на кривой зуб трижды за день пробует, не умора ли? Пошутил об этом кстати с кривозубым же казначеем, ухмыльнулись, на кухне обеда ждать не стал, через ругань поварницы зачерпнул что-то из бадьи типа свинской похлебки, но на жаре много не съешь, да и состояние организма… будто из гадеса вышел лишь на побывку и в земной пище нет уже нужды, только привычка. На Метарские ворота не пошел, кто еще где служит нынче тоже выспрашивать не стал, Эламира не искал тем паче… но протолкался на рынок пошататься и вспомнить, где ходил тогда радужным гоголем и как бежал-выжил. Будто сие проникновение по местам, где бывал живой, могло подсобрать частички собственного духа, по рынку развеянные, а там глядишь и выживу действительно. Но зачем?
В кармане штанцов перебирал грязные монеты – взгрустнулось: ах, те-то новенькие Леремонтовы муары кто-то спер, то ли ратные друзья, тащившие в лечебницу? А скорее, плешивые санитары в Глаховой лечебнице – святой народ, а то ж! Мог бы и повыбить из них, наверное, но зачем сейчас деньги? Той беляночки, что манила давеча, не было уже в рабском загоне, кто-то ей уже попользовался и дай Глах, чтобы не истоптал зазря… Вот же я стал чувствителен к этим темам… не чувствительным, неверное словцо, но весьма меланхоличным.
Даже воскресный театр марионеток, осажденный радостной толпой, меня совершенно не тронул. Аристофеновы басни! И единственное, что всколыхнуло, когда на рынке прямо столкнулся будто со вчерашними призраками: ей-ей, с охраною из четырех дворцовых гвардейцев (шоссы и все дела), разметающих народ на все четыре стороны, прошествовал прямо перед очами от портняжного к медному ряду сам-с-бородам Никеандр-господарь со спутницей под руку – златоволосой феей Фалерией. Ах! А та – была вызывающе бесстыдна в своем владении господарем: хотя Никеандр и хмурничал, до морщин озабочен буднями страны, но зрил я и ниточку жизни, которую давала ему Фалерия, золотую ниточку, простонародно заплетенную в косы… которая будто вилась на жарком ветерке и весело обнимала Никеандровы седины… которая и самому мне нужна была бы от давешней эльфеи, но оборвал же собственной бестолковой рукой! И стоял-дивился, как далеко зашел господарь в сей страсти, так и Эламир не отважился бы с замужней купеческой женой через рынок наперерез пройти! Никеандр же все позабыл и превратился в обыденного старого дурня, окрученного легким локоном. Хотя… не те ли господаревы ма́ксимы о житейском договоре ты-мне-я-тебе-здесь-и-сейчас, подслушанные тогда в караульне, дошли здесь до полнейшего максимума, простите за каламбур? И Никеандр – все свое отдал и все её получил? Ах, знамо, еще не все я ведал о любви…
И чувствовал я не брезгливость и не жалость, но даже солнечную зависть к господарю, истинно господарю судьбы, пускай под проклятием и знающему грядущий конец, но бросившему пророчеству вызов, да такой, что и Маренций, видать, не стал противиться! Ах, говорят же на родине, что лишь влюбленный не дурак! Ne bien conseillé qu’amoureux!
Народ по обоим прилавкам судачил вполголоса и отпускал язвенные скабрезности, кто-то весело звенел ковшами вслед, но пара плыла по пыльной брусчатке, звеня золочеными шпорами и шурша златотканным подолом, как будто… как будто боги элизиума прошли над ветреной землей, видящие только себя и невидящие всей шушары под ногами. Живые среди теней!
И не сочли сии счастливцы даже взмахом ресниц бледного молодого дворянина в черных одеждах, с простой серебряной серьгой – до того простой, что не стоило сомневаться в его благородстве: Володьяр Тригородский. Глядел вослед пары из-под крыши льняного лотка, и лицо его выражало что-то… что-то тоже почти неземное, но и не божеское: ужасную страсть презрения. На минуту песочных часов (тут же кем-то перевернутых на соседнем прилавке – в шашки ли играли?) открылось мне его переживание: перекушенная губа и холодная ярость зрачка – глаза были будто скважными колодцами, посылающими вослед прошедшим ледяные клинки.
Мне однажды (в будущем!) поставили памятник, но какой с меня памятник, смех один. А лучше бы слепили с Володьяра, нашего про́клятого принца, как уже начинали кликать его в народе. Пусть и незначительно для сей повести, но хочется – воздать должную память одному из тех, кто был для меня примером, но не нашел себе места на скатерти богов!
Итак: представьте яркую картину, как я вам и передал выше. Рынок и пестрые торговцы, медные горшки, сияющие на солнце, желтые головные платки, пурпурный халат на проходящем мимо вельможе. И прямо с картины – бьют вам в нос и уши запахи и голоса, и сами вы уже чувствуете телесный жар! И контрастом к ним – черный принц: черный в одеждах, но бледный ликом, как будто сама холодная смерть, заглянувшая на базар рассчитать завтрашний день! И лицо его – лицо владыки, который и не должен печалиться о челяди и дворянах, который может вызвать в ночном небе серебряную комету в стеклянном шлейфе и обрушить ее на погрязшие в пороке города. Глаза его – глаза бога, ищущего веру, устремленные выше небес, выше Глаха самого, в поисках той коловратной силы, вращающей звездные миры…
Но как-то почуяв мой взор, он будто осекся во внутреннем лютовании и истинный лик его подернулся вуалью придворной любезности:
– Ах, мсье Гаэль! – дворянин даже улыбнулся сухо. – Не правда ли, вот за что вы едва не положили живот? Согласно приказу, вестимо, но не мнится ли вам, что не все приказы… – юноша придирчиво пожевал истертой губой, подбирая полноценное слово, – не все приказы высокозвонны?
Я не осознал сказанного, точнее, зачем вопрошать вещи очевидные? Зачем усомняться в положении дел? Каждый в королевской гвардии знает сердцем, что половина приказов начальства – полнейшая ерунда, вредная отечеству. И все же мы служим. Но опомнился:
– Господин Володьяр! – поклонился по этикету. – Большая честь для меня, что изволите помнить имя.
– Вижу, вы ошеломлены, как и все мы? – Володьяр двусмысленно махнул рукой вслед родителю и будто продолжал беседовать сам с собой, заменяя мной собственную вторую личность. – Видите ли, мсье, король Маренций ныче же утром, по нижайшей просьбе господаря Никеандра, отрешил прекрасную госпожу Фалерию от купеческого брака, столь неподобающего ее… как же было велеречено?.. ее безмуарной красоте, – говоря это, Володьяр продолжал истово жевать несчастную губу, – так что ждет нас свадьба, пышнее карентийских, и безмуарные гостинцы всем безмуарным гостям…
Володьяр не смог говорить дальше и что-то похожее на человеческую искру (бишь, искренне жгучее) засияло в уголках ледяных бездонных глаз, от прямого взора которых я поспешил отшатнуться.
– Благодарю за общество, мсье Гаэль! – Володьяр взял себя в руки, сухо поклонился и удалился быстрым пыльным шагом.
Как если бы – смертный вестник задержался рядом на ту песочную минуту, спросив тяжело, какая же склянка, и прошел дальше. О Глаше! Как если бы я и сам, хотя от взора его уклонился, но захватил все же часть смертной ауры, вившейся вокруг принца, ибо и сам превратился опять во что-то бесчувственное, бесцельное, смертоносное поневоле. И опять примерещился мне памятник принцу Володьяру, но монумент не людской, не незыблемый, а такой, который только и может являться в откровениях… Уф! Запутанная мысль, но поняли ли вы меня, любезные собратья? Нет? Да и Глах с вами! Стало быть, не герои еще…
Жизнь пошла вкось, будто река после грязного обвала переменила русло. Раньше я буквально обожал яркие краски дня и спешил покинуть тусклую казарму. Хохот собратьев, шагающих рядом по звонкой булыжне, шпорный дребезг (хотя и пешая вахта, но мы надевали иной раз для пущего понта), разноцветные солнечные отблески от витражей в Глаховом храме, розово-румянные яблоки на щеках местных красавиц, панорама (ежели с Часовой башни на городище зыриться) лиловато-зеленых крыш, уходящих вниз по холму, сливающихся за стеной с плешивыми прокосами и буйством приречных пажитей… Теперь же – спрятался от жгучего бесплодного солнца в безымянный кабак с полувыцветшим-полуоблезлым миндальным щитом, намалеванным на двери плохой молотковой краской… жизнь совершенно изменилась, не вернуться ли в Метару? Пинту темного, да погуще! Ах, с этими пинтами я до сих пор путался, коголанские кувшины были желудку куда привычнее! Но, по чести сказать, пивцо-то затейное: с татарейской горчинкой, доставляемой в Авенту с Линдовара, а туда еще с каких-то морей… Так о чем же? А, да. Здесь мне счастья нет! Эламир, Володьяр, Никеандр и даже Корвалис, все казались резными шахматными фигурками, двигавшимися будто не по собственной судьбе, а по воле, вдохновленной в них высокими игроками. Да, мушиными фигурками, ползающими по загаженному щербатому столу… Ха! Препятствия жизни!.. И даже последняя страсть господаря Никеандра, сей вечный порыв, – был ли то его искренний порыв? Али же вдохновлен в него каким-то Момосом, злобно хихикающим над неведомыми последствиями? Неожиданный движ на королевском фланге, так сказать? Ахаха! Боги играют нами, а что остается у нас – лишь честь для людских преданий? И целые ликейоны авгуров, ищущих высокое в низком?