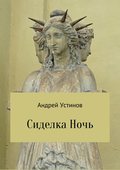Андрей Устинов
Король эльфов. Книга III
6
Ах! На прошедшей перемене несколько любезных отроков вопрошали с сиянием в глазах и голосами, восторженно повышенными на октаву: но кто же такие эльфы? Здесь-то в Коголане что эльфы кудрявые, что химы зеленокожие, всё одна путаная сказка. Но химы из Средиземья – нудные торгаши терпкими кореньями и лавровой перхотью… что о них расуждать. Земная плоть! А народ заморский их делится на касты, которые (о, Глах и Метара!) не смеют пересекаться любовью, и каждой назначен свой цвет. И химы зеленокожие, коими пугают нас в детстве, всего лишь торговцы их, крашеные лавсонийской хной. Иное дело – эльфы! Эльфийская-то кровь поголубее нашей будет, ах и животрепещет яремой, и ежели хоть капля досталась от перекрестных браков, всегда искрится, всегда поет. Но много ходит об эльфах и смешных басен, дескать, остроухи и безбороды. Ха!
Что же! Не больно много живых песчинок в часах осталось до обедни, – падают неотвратно, катятся молча и оседают сухою грудой. Так что пройдусь по эльфам по верхам, да не обидится королевна Элина!
Отбросьте же суеверия и ведайте, что эльфы – суть наши родственные образы, недаром и союзы любовные возможны. Но в темные века племена их ютились по безвестным углам и долинам, по густым лихолесьям мыкались, отсюда и суеверия. А ныне зато мастера по хвойным бальзамам, потому и долгожители.
И пристрастны эльфы весьма, кто какой родни и кому с каким семейством союз назначен, ибо бдят за улучшением крови своей, как бывалый садовник следит за расцветом поколений роз в палисаднике! Помните ли про Клевина моего свадебную песню? Истинно так! Но кто из людей с чистым сердцем свататься придет и старейшинам душу откроет и перчатку Лэрда не обронит на испытании, и того примут. Истинно так!
Но вот история их: когда разделились ветви наши, то жили эльфы в Рипейских горах, откуда стремился в Северный океан могучий Эридан, размывая берега и намывая янтарные слезы. Оттого-то столь музыкальны они, что долгие жизни пращуров их проходили под речные вздохи и перекаты! Но… учили ли предание, когда замерзала земля почти до гладкого льда и затем три года лился теплый дождь, – это каждая из вечных норн цельную годину поливала наш мир-сад из волшебной лейки, отогревая глубины? Тогда-то Эридан заново разверзся изо льдов и размыл долины-луговины, а когда выпарилась и спала вода, то мир уже выглядел иначе. И Авентийское нагорье нынешнее – вот и вся куцейка, что сдержалась от гордых Рипейских возверший. Тогда и началась новейшая история эльфов.
Но опять летописный пересказ! Не хотится ли, собратья мои, вам вживую посетить эльфийскую мистерию в душистом “Вересе” – верховной корчме Авентийского вышеграда, где каждую седмицу ставят новую мизансцену для назидания молодежи? Ах, славный гул! Сейчас же легко вам исполню картину из разноцветных клубков волшевейного тумана, ещё осевшего под скамьями! Следите, как распускаются один за другим, проявляя всё больше красочных деталей!
Виждьте: сводчатый зал, но не очаг единый у глухой стены, как в людских едальнях, но множество мелких костерков по всему полу для подогрева хмельного сбитеня и душистых ягодных чаев в круглобоких медных котелках… а низкие столы-то все под зелеными скатертями, будто кочки полевые. Именно будто дольный выпас, куда эльфы собрались в ночное, гладь которого освещается лишь болотными огнями. Только то – не болотные огни и не светлячки луговые, а пляшущие отблески от столь любимых эльфами серебряных пряжек и заколок! А лица – ах, как и на Альте тогда было! – толком не видны в тумане, и потому мнится, что душа с душою говорит…
Но чу! Своды крушатся выше, чем плотней к подмосткам, – дабы боги, сошедшие к нам, не склонялись зря! Ещё – в самом центре потолок будто вырезан, знаменуя в погожие дни солнечный круг, и привешена на семи цепочках магическая линза, полируемая эльфами из года в год. А на пасмурный вечер – потолок закрыт темными щитами на кованых перекладах, и лишь волшебная линза, словно божий глаз, тратит вчерашний свет… и тут-то вершится чудо… прожектирует она (есть ли такое словцо?) – прожектирует на сцену красочные полупрозрачные тени, а приглядишься, протирая глаза: то друзья твои далекие (вон Клевин приветно рукой машет, да и Пертик рожицу корчит), а то и сами боги Асгардовские гуляют и пляшут на звездных рубежах.
Но чу! Шагает из-за синего бархатистого занавеса сначала Пролог-чтец… и кажет гулким голосом речь о блистательных цивилизациях прошлого – но где они, отважные греки и кичливые ромейцы? les neiges d'antan! – а страна эльфов живет и процветает тихо и мирно…
И спустился однажды сам вершитель Ньорд в сей благословенный край (вон он кажется вдоль сцены, в охотничьем кафтане и полевых пертах с лампасами, крадется будто за ланью – нарисованной хитрым лучом света из-за кулисы) и видит – ох! – румяную ягодницу у морошковых кочек – Скади-деву: ох уж желтокоса! ох уж зеленоглаза! Артистка-то просто зеленые стекляшки между веками зажала, но до чего блистающе горят! Ну и любовь-морковь, как простецки говорят, и по ранней весне принесла дева в зеленом льняном подоле двойню: сына и дочь. Но богом бессмертным (ибо через первенца жены передается) – только сын вышел, нареченный Лэрдом, сиречь Господином. А дочь-разумница – красою вылитая мать (артистки-то сами сестры!), – лишь смертной девой осталась… таковы законы Лахесис-Верданди, и сам Ньорд-Ветрогон не смеет их превозмочь! Смотрите во все глаза – актер даже обсыпался мукой, выражая раннюю седину от такой трагедии. Но все же отсыпал любезной дщери полное лукошко долголетий и назначил владычицей эльфов… да и людских племен, что обитались окрестно… потому-то до сих пор в здешних краях девичьи права высоко чтутся!
7
Что же, осталось немного повести о той эпохе. Эпоха! Многие ли из вас, любезные лиценциаты, ведают сие словцо? Откуда вам, жалующимся Глаху или Метаре на обломанный ноготь! Эпоха – суть перемена участи, личное знакомство с богом! Да-да! Когда ранжируют вас торжественно на выпуск, когда вручат почетные квадратурные береты с алыми кисточками и отправят с улыбкой кудай-то в безбожную провинцию служить и возвеличивать Голоха, тогда живите и ждите. И ежели впрямь возлюблены вы Голохом, братья мои, то однажды – посередке сонной вашей жизни! – почуете его смех в гулком выдохе ветра, его тяжелую вачегу на занывшем плече…
А вот скажите, бывали ли вы под заклятьем? Заклятьем дружественным, когда попадаешь будто в медовую соту и добровольно желаешь так и существовать до конца времен? Таким-то заклятьем и удружил мне Лэрд Светлоглазый и послушайте, каково мне жилось…
Был излет лета и ввечеру ровное тепло разливалось по закату, будто золотое эльфийское масло… будто желтая охра по ровному полотну небес! Эльфы говорят, это Ульрис-лучник возвращается домой, распустив золотой плащ… А ромейцы его называли: Феб. И кто же прав? В ликейоне учат нас с торжественной кафедры, что все они нынче – Глаховы диадохи и служат ему всемерно. Но есть и извечная ересь, передаваемая от студента к студенту смешливым шепотком, что все они лишь Глаховы зеркальные образы, которых он выдохнул поутру, чтобы самому-то подольше с Метарой понежничать на лебяжьей перине! Хах!
И да, блестелась река и распускалась в чистой водице на перекатах зелеными косами водорослей, чтобы через несколько пехов (или плюхов? ахаха!) внеже перемениться темными омутами, что девичьими глазами в грезах! А там, где песчаный берег разлегся на излучине, – Арель однажды зазвал-таки, – открыл я вдруг молодеческое купание, знамо Эламир и не одобрил бы этакое плебейство.
И ожидание, ожидание чего-то… и некие белесые птицы над нашими беззаботными лбами летели на юг ежедневной сумятицей, как предвещение осени.
Да, казалось, самый фокус жизни моей сместился за городские стены – к пышной августовской зелени и шепчущей утешения реке. И хотя я вполне вернулся к службе, ходил и в ночные вахты, иножды дежурничал на разных воротах, шарил даже с ватагой по домам потрошить налоги, а больше просто караульничал по улицам… все это казалось призрачно, будто не со мной, а просто с механическим телом. Которое я с утра заводил, как ловкую ярмарочную игрушку, и отправлял на рядовую задачу. А в теле, механически взметающем уличную пыль или царапающем подкованной пяткой булыжники в проулках, жил другой юнец, который – мечтал. Мечтал, но ни о чем конкретном, но просто фантазействовал. И каждый встрепых тополиного листка на годовалой ветке сулил ветры странствий, каждая дождевая капля будто подпадала под язык и сулила сладкую жизнь где-то впереди под радугой, каждый женский голос на рынке звенел в ухе обещанием вечной карентийской любви. И не голосом той конкретной прислужки, что голошилась в едком споре за корзинку перепелиных яиц для придирчивых господ… или молвить метарилась? ибо богиню и поминала через словцо!.. Не ее базарным голоском, но именно голосом Метары, когда звучит в храме на службе и многим эхом отдается ото всех колонн и из каждой тайной ниши… разве Ее голос не вложен хоть малой частицей в голос всякой живущей девы? И было забавно мне, хотя и непочтительно так любозействовать: а как Глах-то ухаживал за своей золотой невестой? То есть – предназначенная норнами встреча, все понятно, но вот когда зрители ушли проспаться и любовники остались вдвоем? Тискал ли ее грубо и нравилось ли ей и сияла ли глазами в ответ? Напротив ли, целовал ли нежно руку и шептал-шепелявил глупые красивости, буквально как я Катинке? А еще – по мифам всем выходило, что любились сильно, но и ссорились часто. Не раз и на сторону поглядывали взначай или невзначай… сие было мне очень странно, как одно с другим уживалось, не может ли быть, что у богов в жизни та же путаница, как и у нас? То есть – по мифам выходило, что такая же, но в чем же тогда сиятельная божественность? В чем же клятва? Просто в силе кулака и смазливости личика? Ха! Так вон Никеандр крепок, что дуб, и Фалерия аки богиня личиком сияет, а то может и краше!
Так вот мечтал… спотыкался, чертыхался на наш ликейон, где не задавали подобных ересей. Пару раз даже грохнулся со звоном на булыжень. Собратья смеялись и больно колотили по плечу, и охотно припоминали бы сию нелепицу каждую вахту, но Эламир держался хмур и ничего не замечал, ни падений, ни смеха, который тут же угасал. Будто и Эламир заводил себя по утрам на должную службу, но душой скитался в черной какой-то стране, куда никого даже не звал с собой. Унижение ли переживал? Я вот рассуждал временами, а как бы сам повел себя, брошенный красоткой ради знатного лорда? Притом – не скажу, чувствовал ли сие Эламир, – но я-то повзрослел уже достаточно: дело было не в одном богатейном богатстве, хотя редкая дама откажется от блесткой побрякушки да в пику подружке! А было в некой… как же грецкое ученое словцо?.. дело было в харизме, которой от господаря лихо веяло даже при проходе мимо – как тогда в стражничной. Некий магический магнетизм, который в Эламире тоже был, но не разросся ще до магматических величин. Доживи Эламир до благой седины, наверное, Фалерия с ним бы и резвилась?
Но в юности, и это я чуял очень резко, все кажется так несправедливо! Вот Катинка – что с ней? Пострадала ли от язвенного мора, ежели вообще жива? И сколько лет свежести ей дано? Были бы вместе, завели бы маленьких гаэлей-спиногрызов – тут я залыбился и споткнулся в очередной раз о кривой корень, раскорячивший мостовую, – и что? И сталась бы толстой тетехой, как вот кухарка только что за морских ершей торговалась? Пусть веселой и голос нежный – закроешь глаза и слышишь радостно: она! А откроешь и хоть плачь – широколица и широкобедра, и куда девалась юная жизнь? Живое говорливое тело… а любимой-то и нет более. И где же справедливость, ежели невозможно, коли вы не Глах и Метара, вместе долго быть-не-тужить, и вот выбирай – в юности ли встретиться и расстаться и жалеть всю жизнь, или к зрелости только свидеться и только краткие дни до осени наслаждаться, как эти двое? Никеандр и Фалерия! Ох, и скандалили о них в караулке, да и на рынке, когда хаживали мимо со свитой, то прямо какой шур-шур по торговым рядам их сопровождал и медный звон! А от золота нарядов их да на солнце яром – будто бы золотой шар живой и катился прямо по прилавкам, слепя обыденных смертных…
Эламир внешне безучастен был, а мне так и завидно! Ежели не бог, так и надо выбирать судьбу! А боги – что? Зря ли местная мифология, что в Осенний святец урожая, когда последнее тепло, то и боги входят в тайный чистый ключ, и сбрасывают старую кожу, будто пыльную одежду, и выходят молодцами аки вчера! Ах, красивая легенда! И жаль, что Эламир не зрил этого, что его не коснулась благая рука Лэрда, что не снисходил ко всей кружевной суете золотым сиянием разума… ах!
Как там Лэрд глаголил – жизнь, это где мы гуляем во снах? Вот я и гулял и даже купался! Верил и ждал будущего, обещанную судьбой женщину на счастье, а что до злосчастий своеминутного бытия вокруг… да перестал как бы переживать. И поэтому трудно было беседствовать с Эламиром… достойнейший рыцарь, но как-то застрял на детском понимании, будто счастье – это то, что щас думают о тебе собратья. А счастье-то может статься завтра, за синей горой или за зеленой рекой, или через годы-годы-годы… Главное – иметь за душой обещание Лэрда! И надо спешить-ждать. Спешить-ждать, да!
Я и сам знал, что сильно переменился. Повзрослел ли наконец? Улыбался, каким же дурошлепом был год назад! Даже сами пересказы былого (новым друзьям эльфам) будто переменились. Раньше все путалось в ярких красках бытия, будто в беспорядочных разляпах на палитре живописца, и суть терялась в них. Теперь же отсеивал слепящую мишуру и умел эту самую суть легко выделить… а эльфы умели как-то воображать живую жизнь за сухими словами и недаром сияли глазами! Ах! Хотел даже с лекарем Корвалисом сие обсудить (а что? молчун известный!) и постучался разок, но старика не было на месте… по словам прислужника – лечил каких-то детей по королевской милости все тем же чудодейным артишоком! Чистый Элизер!
Вам слышатся, господа мои, пустые и путаные слова? Но сие и было взросление, преддверие настоящей жизни, ибо дотоле – жил, будто рисованный персонаж на людной картинке в огромной книженции, но не ведал об остальных ее страницах!.. И хорошо почувствовал сей перелом, когда Арель занят был родственными делами и я забрел по старой привычке в наш бывалый “Топор”. Из-за потерь после экспедиции и новобранцев – все палатки перемешались: только Эламира и видел близко каждый день. Да и то общались лишь служебно. Даже о повышении не рассказывал, доволен ли? Даже задумался – дружба ли между нами? Но тут – старая компания и жеманные девичьи хихи из приемной! И все же… даже свинские окорочка, раньше столе сочные, чувствовались грубее эльфийских, не хватало какой-то нежной травяной нотки, тимьяна ли, может быть? Собратья были на месте, молча клонясь над расписными мисками с похлебкой на закуску. Но веселье где? Хоть и бывал Милон пошляком-голошняком, а будто он и зажигал раньше беседу… а ныне молчание. И если Симеон всегда был в себе и в кружке эля… туда же теперь, будто ловя отражение черного от копоти потолка, то и дело смотрелся Эламир, едва мне кивнувший, да и Левадий, все еще с розовым шрамом прямо через правый глаз, тоже потерял былое добродушие. Как странно! Я зашел на память старого веселья, но веселья больше не было, все будто потеряли что-то важное за это лето. Ну, за исключением Симеона. Вот от кого не ожидал! Но Симеон был единственный неизменен и целостен после похода, даже живее былого, будто тоже ждал что-то в грядущем, и единственный, нежданно оторвавшись от дежурного глотка, привстал и покачнулся, громко стукнув о табурет бутеролью, и вдруг хлопнул меня по плечу и целую речь отрывистую выдал к общему изумлению:
– Благодарствуй, замореныш! Смешное же тебе выпало порученьице! А вот не верствуй красоткам!
Фраза сия пробудила и Эламира от черных раздумий, ибо тоже поднял вдруг взор, будто толь-толь меня разглядев, тряхнул примасленными кудрями… ого! Так снова кудрявился по вечерам? Для кого же, ради Глаха?.. тряхнул кудрями и тоже, крепче любого собрата, хлопнул меня со всей радости по левой лопатке, ну чуть раны не разъехались!
– Аха! Держись, рыцарь Гаэль, держись! И не верствуй никому, помнишь ли, что учил? Даже мне не верствуй, но Симеону можно! – и встал даже, обшлагом сметая со стола случайную кружку, обидно звякнувшую под столом, и обнял еще Симеона накрепко, потому что была история, кто-то из них в несчастной экспедиции кого-то здорово выручил. Ах, такое братство я и любил!
Забавно еще было, как Левадий здоровым глазом мрачно взирал. От него именно я ожидал бы пышной речи, что верить должно лишь Глаху всемилостивому, но Левадий, знамо, не только от глазной раны страдал, ибо лишь покривился лицом, даже только половиной здоровой, и молвил сквозь желтые битые зубы:
– Живой-целый? Ну дай Глах, дай Глах, – хотя и звучал без особой веры.
Эта рядовая ремарка ще больше раскипятила Эламира, уже возбужденного и пьянеющего на глазах:
– Ради Глаха, адепт Левадий! Защиту вашего Глаха вы, кажется, сами испытали на себе! И не припомню, чтобы р‑рыжему стервецу сильно пригодился его костяной амулет! Разве что могильных псов отпугивать! Лучше бы он тренировал кустодию справа! Глахомать! Наш принц Гаэль!.. Даже Гаэль бы справился… лишь бы от девок гоняться.
Эламир снова вскочил, опрокинув табурет кубарем, и замахал руками, видимо, изображая печальный инцидент. Бутероль его торчала смешно сзади, точно павлиний хвост. Левадий расхохотался, но каким-то вороньим смехом, я бессильно вспыхнул от обиды – оскорбиться ли? – но Симеон дружески округлил глаза, тоже вскочив и свой табурет также грохнув об пол, но ловко подхватил Эламиров и потянул разошедшегося декана садиться:
– Реченье, Эламир! Сеньор Гаэль, вестимо, отличается не только по девкам. Воспомни-ка… да вот тех известных клевретов, коих давеча сам брезгливо переступал… давно хотели мы спросить нашего… уфф! Из-заморского друга, замеченного… уфф, Эламир!.. замеченного мясниками недалече, о распечатных объяснениях!
Речь далась Симеону тяжело, потребовав в конце изрядного глотка, но цели достигла… Ах, и жаль мне стало, что не попал в поход! А то бы также спас Эламиру жизнь и также, небось, фамильярничал с ним братски! И Милона бы спас! Эх… Левадий опять закаркал-захохотал, налившись хохотом так, что шрам покраснел и бурый глаз грозил лопнуться. Эламир неровно шлепнулся обратно на табурет и помпезно шлепнул десницей по столешнице, так что окорочка послушно подпрыгнули на блюде.
– Дознание! Рыцарь Гаэль! – объявил он почти официально-безучастно, но по-старому- по-доброму подмигивая из глубин беспробудного пьянства:
– Рыцарь-собрат Гаэль, как официальное л-лицо обязан выспросить, был ли ты на пятнадцатый день до августейших к-календ в кабаке, грешно именуемом местными пьяницами лимдо… глахомать… “Линдомарский Щит”, что сокрыт на Мясничной прогулке ближе к храму? Ибо был донос… станется и ложный, что узнали тебя наизусть… наизустно узнали, шагавшим из сего клоповника с неким приезжим, и два борделиста… два содержателя были обнаружены совершенно безглашным образцом. Зарезаны, глахомать! Приемом, судя по расследованию, которое мы с рыцарем Симеоном рекогно… глахомать… сценировали, весьма сходным с тем, которому самолично тебя обучил… исполняя деканатство в нашей королевской гвардии. Допью также… глахомать! Доложу также, что клеветники те по неясным страхам клейма, ибо… ыыгрх!.. собрат Симеон разложил им ясно, что бывает за лживый поклеп на рыцаря, отказались правдиво свидетельствовать… сиречь, собрат Гаэль, все и зависит от твоего личного слова. Глахомать! Отвечай же собратьям!
Уф! Эламир и раньше напивался, бывало, но не до таких глахоматерий! Но сидел, раскрасневшийся и довольный собой, постукивая предвкушательно ложкой по миске, будто выпечатывая боевой задор. Я же, пришедший в себя за период сей затейной речи, да еще подбадриваемый веселыми искрами факелов, ярко пробудившимися в глазах обоих рыцарей, и одобрительным сопением Левадия, тоже хлопнул ложой по столу, разбросавшись брызгами, вскочил-откашлялся и не моргнул даже глазом:
– Заверяю вас печатно, декан Эламир, что сие совершенно немыслимо. Ибо, как всем собратьям от меня лично ведомо, после злосчастного ранения по предписанию королевского медика сеньора Корвалиса, известного вам и королевству трезвенника, пью одну лишь авиценную водицу и, клянусь Глахом, ни в одном кабаке её не обнаружил!
С этими словами, под разверзшийся хохот-вой собратьев и очередные поминки мифической глахоматери, я чинно поклонился и тут же глотнул из кубка. Уф! Подлецы, кажется, подплеснули мне редкого зелья – ажно зубы заскрежетали по железному краю и искры снова зазвенели в голове, как при слове рекогносцировка.
– Заверяю и тебя, рыцарь-собрат, – важно стуча ложкой по столу, так что капли жира разлетались, добавил Эламир, тут же громко поддержанный ложками собратьев, так что вышел настоящий барабанный бой, – что и мы не сомневались честью в заморских талантах твоих. Ибо когда спрошены были о ходе следствия обратом… собратом нашим Дарьяном, то честно доложили о трудностях ин… ыыгрх!.. индентин… тьфу!… фикации, и прямо советовали отрядить на поиски дерзавца лучшего нашего следопыта. Глахомать, тебя!
Ах, что за хохот стоял! Ах, как я представил себе рожу Дарьяна в сей момент! Таки будет знать, почем должок! Ах, это было хорошо! И славно было видеть, как отобедав всласть, Эламир вдруг встал почти прямо, кивнул тепло и дружески, будто растопив-таки печаль живым вином, затем приветно махнул маячившей девчонке у стены – Польянке, кажись? – и обнял и удалился с ней в служебные комнаты. Я аж приствистнул, и круглые веселые глаза Симеона только подтвердили увиденное. Молчун наш молвил даже, вскидывая чашу:
– Хорошая жинка! – и будто зависть какая-то щибче завеселилась в его пьяных глахах. Да еще Левадий добавил проникновенным масляным голосом путаную строчку из священного гимна:
– Неисповедимы пути Глаха и Метары, уздою любовной крепящими мир! Восславим и выпьем!
Так что мы снова прыснули, не сдерживая пьяного веселья и даже скабрезностей о достоинствах простонародных дев супротив дворянских кралей. Куда покладистей, а в любовном покое, на ощупь-то, ты ведь и не различишь!..
Но по ежедневным-то, официальным встречам с Эламиром, ясенно было и другое: что рыцарь, ежели в трезвости, весь углублен в себя, посиневшие до черноты очи вызывающе меряют небо, и страшно иногда было находиться рядом. Не тем, что мог бы вживую обидеть – даже вот о клоподейном “Линдоваре” больше не поминал, – но ощущением полной отчужденности и невозможности молвить дружеское словцо. Ибо встречалось молчанием, ибо не понимал больше Эламир простых слов. Будто тупо, именно тупо ожидал будущего, механически перемежая дни, ожидая коронации Володьяра, ставшего бы по местным обычаям полным соправителем Маренция. И вот что тогда? Ох, лучше бы пил взахлеб!
И потому, едва выкраивался свободный час, я предпочитал общество Ареля. Удивительно, но мы приятельствовали крепко: он пошел, по моему напутствию, в эльфийскую милицию, и я охотно разыгрывал с ним наши ристальные приемчики… Либо же!
Либо же! Из эльфийского квартала открывалась собственная калитка за наружные стены, от которой многомаршевая лестница бежала вниз к блестящей Авице – без перил, лишь грубые ступени, вырубленные в граните, но украшенные тут и там голубыми мозаичными рунами: ах, будто летучими рыбешками Неморья! И оттого бежалось без опаски… и мигом-с-хохотом скатывались к реке, извернувшейся подковой вокруг нахолмного городища, и там мы плескались при каждой оказии, несмотря на частые грозы. Купались по эльфийски внагую, хотя и не умели толком, но охотно брызгались и плескались и что-то даже мало-мальское начинало получаться. Особо же, если сигануть в Авицу у драконьего камня и переплыть быстро, держась затем зеленого берега, где безомутно, то река сама несла тебя, будто магического дельфина, быстро-быстро скользящего по волне. Главное было выгрести и выскочить к галечному вылежню, иначе… иначе судьба-печаль будет вычапываться через тинно-осочную вязь под задорные дразнилки эльфийских дев! Ох, купание ценой ногтей! Ох и жалились они надо мной, когда первый раз поплыл – а бурно несет! – перепугался, и, едва рукой почуяв дно, тут же зряшно пытался вставать против струи… так меня поток и снес разом-двазом и кувырнул еще раза три, ажно ногти на правой ноге поотбил о подводные булыжени. А как надо? А коснулся донной гальки рукой – не вставай! – но продолжай шибче грести, не вглубь уже воды, а как бы в стороны, переменяя стиль, чтобы дальше на отмель выцелить, и когда уже брюшцой-то дно огладишь, то и вставай как ни в чем ни бывало!
И так – часто грозился ливень темным набегающим горизонтом, и спешили искупаться от дневного пота, покуда слепит еще с запада золотая ярь, и наваливалось на Авенту половинчатое небо, и плавали мы наперегонки между добром и злом.
Ах, воспоминания! Они и сами как сны, как дни в тумане, не через который идешь, но который ведет тебя! Не замечали ли? Ты вспоминаешь некий день, какое-то настроение, и хочешь припомнить больше, радостные прикосновения и жесты, может быть, говор реки или восклики чайки, выронившей уклейку и по-птичьему поминающей Глаха, но едва ты разбередил их… и воспоминания сами уже диктуют твое настроение, мелькают пятнистыми сполохами листвы на солнце, мелькают пятнами юных тел в блестящей воде. Говорю вам – воспоминания суть то, что ты помнишь и как ты помнишь. А как было на деле? А важно ли?
Иногда воспоминания увлекают тебя глубже, чем мечтал-ожидал. Иногда взгрустнешь, но окажется, что помнилось не то и не так, а взаправду было ярче и веселее. Так вот не хотел бывальничать про “Топор”, не помнилось ничего светлого, лишь грусть о былом ребячестве. Но само взошло в душе то последнее дружеское пирование, будто золотой взгляд солнца из-под тучного горизонта, и как мог забыть? А хотел – да! – хотел что-то рассказывать про эльфов, как после купания ходили в ихнюю едальню-пировальню, где воробушек тот спасенный мною прижился успешно и уже выступал с эльфийскими актерами в некой мистерии про юного Маренция. Ибо – рассказали – королевским заступничеством и вырос эльфийский квартал.
А еще хотел поведать, как удивлялся зело, до чего же окрепло здесь, почитай на рубеже ойкумены, единство церкви и культуры, никаких тебе аристофенов и менандров, столь обожаемых плебсом на широких Коголанских площадях. А всё мистерии королевские или божеские жития… эльфийские сказочные назидания… вот – про людей-теней каких-то? что за история?.. и почему же так, размышлял я, теребя в руке тонкий эльфийский кубок с золотым винным напитком. Как будто знать и народ в Авенте не были ще настоль разделены привычками и томились в общем золотом котле истории?
Но зачем, действительно, вспоминать всячные-всяжные мелочи – крой всаднических bottes fortes и блеск boucles, или façon de pantalon, пардон за франкофонию, когда надо бы вспоминать цвет и рост души? Но мы используем иносказания и говорим о мелочах тела и быта исключительно из-за нехватки высоких слов. И потому эльфийские поэтики – вечера со стихочтениями – были для меня чудесным открытием. Ах, доброе помешательство! И пускай многие из вас, кто восторженно топал ногами при боевых моих повестях, не поймут ни слога, но высшая часть моя была истинно счастлива. А водится ли высшая натура у вас? Подумайте об этом, друзья!
К примеру, сидели раз с Арелем и Воробушком за бокалами красного сидра – легкой эльфийской забавы, полагающейся к стихам. Сами в полутьме, как и положено, и только низкая цветная свечка над столом трепыхалась красочным языком… И Арель живописал что-то, энергично кружа запястьями… может быть, изображал правильные яблоки, нужные для чудного напитка. Ей-Глаху, запамятовал! Но Воробушек, любуясь на ухоженные Арелевы пальцы и фамильный (материнский же!) перстень с розовым опалом, переливающийся светом вслед за движением рук, молвил вдруг сентиментально:
– Ах! Ежели хотел бы разбогатеть, то разбогател бы на огранке! Но в этом мире должны мы выбирать…
Выяснилось сейчас же, что сам Воробушек из семейства бывалых ювелиров и родитель, как водится, более всего мечтал пристроить его к наследственному делу, и все малые годы провел он за полировкой различных камней, покуда не сбежал окончательно и к Глаховой церкви не прибился.
– Ох, это и дело! – говорил Воробушек страстно, будто даже заманив язык свечи ближе и сияя лицом. – А ведь сродни поэзии! Берешь неврачный камушек и душу вдыхаешь! Но знаете ли! – молвил он, звонко смеясь (в тон искоркам, ожившим на Арелевом опале). – Знаете же, собратья, сие столько научило меня терпению, что складывать слова во строфы кажется мне теперь легчайшей работой на земле! Но ты же, Арель, тоже из дома сбегал?
– Ах, да за любовью! – весело воскликнул Арель, но все же краснея, будто сидр отобразился на щеках. – Ей-же Глаху, будто за румяной рифмой погнался. Но кто знал, что ее круглый год денно и нощно требно стреножить! – и оба заливисто расхохотались, понимая друг друга с полуслова.
Строфы-строфы! Но что они знают о мире, подумал я? Соловьи-воробушки! Но все же, когда Воробушек читал сочиненные слова, дрожа голосом, взмахивая и кружа руками:
И кружили хороводы
И кружился дым парной,
Чтобы эль звенел, как воды,
Отягщенные весной…
Ах! И от искренности его – взаправду в волшебной зале наколдовывалась весна, стены розовели отблеском вечерней зари, и эльфы восторженно хлопали наивному естеству сей песенки… ибо это было главное, чему они хлопали! И как я плакал почти (а думал-то, уже взрослый!) из-за гордости за смешного воробья! И думал: ах, он понимает больше меня – но не о нашем мире, а самом Асгарде! И спросил его раз:
– Но, скажи, Орест, откуда берется твоя поэзия?
И воробушек мой, расхохотавшись всеми смешинками, молвил полувсерьез:
– Она витает в воздухе, сир Гаэль! Но ты вдыхаешь и выдыхаешь ее, не чуя…
Или другой раз, в белооблачный вечер, проливающийся к нам сквозь волшебное стекло голубым туманом, выгромоздился он – говорю так, ибо юный наш друг немного запинался, перебрав веселого молодого вина, – выгромоздился Воробушек на сцену объявить грядущую мистерию, но еще запросил внимания, восклицая высокопарно… ах, пускай каштановый воробушек, куцый и взлохмаченный одновременно, но душа-то орлиная! Так и восклицал:
– Други мои любезные! Но пока вы собираетесь вдохами и выдохами, позвольте еще развлечь вас поэцией, вспорхнувшей мне на ум столь внезапно, что пришлось пальцем и соусом отметить ключевые ноты на собственном обшлаге… о господине нашем Ньорде, явившемся с небес и нас создавшем.