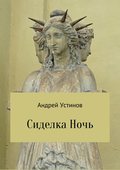Андрей Устинов
Король эльфов. Книга III
И как же несчастный Никеандр попал в это проклятие? Пока не был ему представлен, полагал по былинам, мол, самодовольный провластный вельможа, Маренциев собутыльник-побратим… так и поделом. Но теперь – не сознавал. Достойный же дворянин, и как пышной голубоглазой карентийкой так ослепился, что глупую клятву дал? Как обещать сожитие до смерти, до катафального одра, ежели человек каждое утро разный, не тот уже душой, с кем клятву вчера держал? Да не был ли Никеандр самой Метарой и заморочен из мелкой зависти к кудлатой бороде или по стра… глах!.. по стратегическим каким-то неизвестным планам? Ах, сыграла на женской слабости его, заманила на никчемную (думал так!) клятву, да и прихлопнула, как муху! Ах, прав был Эламир, ни в чем нельзя богам клясться и кланяться, потому-то немореец и холодел к религии – только в себя и верил. И также прав, наверное, желчный добряк Корвалис, опасающийся всей языческой магии?
И – да. В Метару, к Катинке (забрать ее – и домой в Коголан; напроситься на службу к Регволду-дядьке? Но простит ли тяжкий долг за магистрат? Не погонит же обратно в адепты??), но… ах, говоря о долгах! Ажно татарейский дрожный осадок засвербил на языке! Был-был еще должок за глаховыми эльфами! Так они гордятся заветами, и на тебе, мелкий сударь… как его… Арель… и не послушал имени Лэрда? Не знаю, то была пивная злость или живая побратимская обида, – ибо так поверил эльфовским заветам, побратался аж, а все как у людей оказалось, и в смертный час никому нельзя верить? Но кто же мы, какие мы божьи дворяне, если нет правил?
И так был в себе, так полон был темного пива, будто злости, что не услышал местной ссоры у стойки, а затем… затем не стал долго рядить: вжик и все… ведь так решебнее! Опять мне казалось духоподъемно, что я суть неизвестный бог или пивной король на худой конец. Ахаха! И людишки – вечно отвлекают мушиными какими-то нескладными проблемами, которые решаются на единый вжик… Признаюсь искренне, что в голове царил значительный туман, но совершённое помню ясенно. Будто, ей-Глаху, нас там было двое: бренный солдатик Гаэль Франк и бессмертный аватар мой, ведущий сию летопись.
Косая дверь на рынок прикрыта была и будто серые тени шебуршились у прилавка. Вот так и зудили в ухо острыми словцами:
– Нет уж, сударь бывалый путешественник, цена нашей амброзии суть полновесный муар и ни щербатой баклеркой меньше. Но и не больше, честный сударь! Авентийская цена! А ежели вы были столь жаждимы, что не удосужились цены спросить, то уж тю, извините!
– Да пустите же меня, не может быть цен таких развратных, ни в одном затхлом кабаке. Это г-грабеж и я буду ж-жаловаться вашенской страже, вызовите их немедля! – хорохорился почти птичий голосок.
Этот писк вызвал у раздатчика и охранника-распинщика живейший смех с нарочитым прихлопыванием жирных ляжек и новой сальной издевкой:
– Ого! Едля-медля! Ясенно, сударь, что вы и впрямь путешественник из культурных мест. А то видели бы целых д-два препятствия вашему п-плану в нашем любезном закоулке.
– И какие же, честные судари! Я бы истинно желал полюбовно…
– Хвала Глаху, разум возобладывает в вашей слабой головешке! Ясенно и стрижу, стражники первые лишат вас последней меди, так что останется вам, любезный паладин, только на рабскую площадь продаваться в бордель какой, может и станетесь мил какому извратнику! Хотя хиловаты чреслами, не обессудьте! А затем, чтобы выкликнуть клятую стражу, ей-Глаху, сударь, вам же сперва надо миновать дверь, верно? А как вы это собираетесь сделать, ежели я ее припер сапогом?
И еще взрыв смеха и довольные рожи, как два кота, играющие лапа-в-лапу с зажиточной мышкой.
Ах! Мысли бурлились и пенились в голове! Я ничуть не горевал, что сам-то могу выйти даже без платы: достаточно было молвить имя Дарьяна, который теперь-то с каждого кабака имел свой винный оброк. Но постыдно! Либо имя Эламира, – которого боялись, как вши гребенку, но тогда заслужу шепоток проклятия в шейный позвонок, а я-то нынче не в магических латах, чтобы отскочило серебряной искрой. Либо кинуть сим козлинам разумную мелочь, но будут же, ещё хохоча, объяснять воробушку (на которого весьма был похож растрепа гость), что каждому гоголю в святой Авенте своя цена, и каждому решают по одежке… и прочий смех. Быть хотя бы косвенно предметом их оценок совершенно казалось не по-дворянски. Либо пуститься в увещевания… но велика честь!
И, честно ежели, почему еще встрял? Если уж о прошлогодней Метаре рассопливился глазом… больно конопатый юнец-воробушек был похож на Щербика моего (помните ли?), избитого и забытого… хороший вихрастый глупец, и что с ним станется: оберут как липку, отдадут в рабский загон, и там взаправду получится очередной малец, преданный угнетателю пуще любовницы? Так вот и Метарского комендантуса припомнил (не к пиву будь помянут!)… пускай и добра желал, что не отпустил на погибель и даже позаботился по-свойски… но убил бы гада и нынче, и завтреча, и золотые левы мои до последней пахучей стотинки вытряс из паршивого брюха!
И такая затейная мысль пришла мне на пьяный ум, что расхохотался душевно!.. Ах! А не для того ли боги вселяются в нас, чтобы совершать свойный расчет? И паренек сей – не вихрастая ли пешка, назначенная заманить двух тучных всадников в Гадесовы котлы? Которые проходившему мимо богу (ха! ну допустим, к мирской любовнице крался!) также не долили татарейской пены и цену задрали в два конца? Хахаха! Но скорее пьяный бред сие, и никому эти бездушные бестолочи ни на баклерку не нужны. Репей придорожный! И вся их житейская роль в том только, что подвыпившему Гаэлю-богу-королю (мне, бишь) мешают с достоинством выйти к солнцу. И лица их так и помнились всегда серыми бесполезными пятнами, и надо было бы изрядно напрячь воображение, чтобы досочинить и явить на свет их рябые рожи…
И ежели три абзаца выше мнятся вам излишне затянутыми, то никогда вы не были забористы! Ибо сия татарейская белиберда чохом пронеслась в моей голове буквально за три шага… И мелькнула в голове живая картинка торговца фруктами, ловко уравнивающего мелкими гирями сложный вес: вот решился немедленно шагать на разборки ко глаховым эльфам, вот развидел ссору у прилавка, препятствующую скорому проходу: уже охранник с любовным хохотком ухватил воробушка сзади под руки, а раздатчик выщипывал из его тряпочного кошеля на липкую столешницу последние иноземные гроши – какой там муар! Когда в шаге, ще покачнувшись от слабости и поправляя будто бутероль, привыхватил мечец… когда – говорю вам, жизнь слишком коротка, чтобы тратить на ложные словеса! – из наклона-разворота полоснул широко лыбящемуся раздатчику, бздящему какую-то очередную шутейскую, весьма ему забавную репризу… полоснул прямо по фразе, по горлу, по разбитым недавно губам и вислым усам (от же модник!), по внезапному котлетному выдоху и взвившейся зачем-то в воздух протиральной тряпке, разворачивая ударом ошеломленное лицо и отбрасывая в сторону, потом упал в кручении ще на десное колено, шуйцою захватился за воробушка за пояс и тем две задачи решил: и задержал кручение, и оттолкнул глупчика. И в бок захрипевшему охраннику-крепышу в кожаной куртке (молодчик ще, ажно брюхо не нажрал, но уже на кривой дорожке!) споднизу да из-под шуйцы вонзил мечец прямо в печеночку – будет нынче Гадесовым чертям лакомый завтрак! Сальтисончик в мундире, а-ха-ха!
Сладно сработал, даже не забрызгался и рану не порвал! Только что-то звон в ушах, и будто озноб по больному боку… Зря ли не запасся подорожниковым соком в лечебнице? Эх. Привстал-таки, держась за шершавый прилавок. Повернулся-покачнулся, вытер меч сухой половиной валявшейся на стойке тряпицы, вложил в бутероль неторопливо, смел обратно деньги в тряпочный кошель, молча привязал его покрепче к поясу воробушка, прямо чувствовалось (ха!) зассавшего до дрожи живота, дружески шлепнул по щеке и молвил снисходительно:
– Честь имею, честный сударь. Не стоит и вам здесь околачиваться. Хотя, ежели сами хотите почистить сих чертей в отместку, то мое почтение.
И вышел на яркий свет, не глядя назад. Но, знамо, ошибкой было балякать так дружески, ибо через пару шагов обнаружил, что воробушек примостился рядом и машет беспорядочно руками – истый воробушек! вылитый Щербик Метарский! разве что говором покультурней! – и чирикает что-то: то ли извинения, то ли певческий рассказ о всей своей предыдущей жизни – дескать, церковный версификатор! – и наплел про какие-то (я и не слыхал, проболел ли?) поэтические состязания во славу прекрасных дам, объявленные Маренцием по всей стране, на которые глупчик опоздал из-за разбойников… и где бы честный сударь мог посоветовать ночлег без грабежа, и опять послюнные благодарности (знать, обедал-то третьего дня!), и дальше просто молча пылил за мной, чисто как щенок, которого не гонят пинками, и уже благость.
5
Мы допылили куд-куда (бишь, coude à coude!) до квартала эльфов – города в городе, со своими даже охранными стенами, увитыми трехцветным вьюнком. Пошлины, впрочем, на распахнутой калитке не спрашивали, – хотя эльфийская дружина здесь толкалась и порядок берегла, абы никто к ним не бедокурствовал… но мне кивнули вполне шапочно и меч не отобрали.
Чистые переулки и дворики, долгие порывы ветерка от реки, разгоняющие жар… другой раз радовался бы сердцем, но еще чуял пивную отрыжку на языке и разбивчивость в членах и был озабочен предстоящей разборкой, – кто же городских эльфов знает, судя по юнцу Арелю! Экий connard! Я беспокойно выстраивал в уме аргументы принуждения для старосты: ссылаться на королеву Элину и интимное с ней знакомство счел бы низостью, а вот отважить их торговые послабления – хм, пожалуй, мог и через Дарьяна-дружка дюже поднажать. Строго по грамотам судить товар, пусть-ка поживут! Ха! Даже приободрился мыслью и ободрил Воробушка: шаркайте живее, сударь поэт!
А тот. Тот так и зыркал большими карими глазами на местные чудачества, аж завидно стало! Тут и дети поняли бы, почему склеры людские глазными яблоками кличут – так и круглились и катались из стороны в сторону. Раньше… раньше я и сам ротозейничал бы неустанно, даже коснулся бы каждого резного наличника, поскоблив горячую золотую краску (экий гладкий состав!), а нынче лишь скользил взглядом поверхностно, будто от души моей давно вся акварель отцвела и лишь подложка осталась, самая неинтересная и блеклая. Приходилось встряхивать сильно головой и жмуриться до височного пота, чтобы каждые ворота разглядывать… где же?.. резные ворота, выдающиеся множеством крашеных картин: Глах и эльфы, встреча Глаха и Метары, выборы первого Короля… ах, как зарябили в глазах праздничные наряды гостей! Знамо, прибыли! Слуга же у ворот был невыносимо медлив и важен, будще он и был старостой! Ажно чуть солнечный удар меня не хватил, пока ждали решения и опять разглядывали картинки: вот опять ристалище между Глахом и Королем, представление которого наблюдал в деревне! И резные фигурки – от жара ли в голове?! – дрожали тенями и тщились шевелиться на картине, будто разминали затекшие руки и ноги и готовились в поход… ух, долго ли еще потеть!
Но староста Синебыш (крепкий седовласый эльф, лет двести ли с гаком?) принял любезно – даже с небольшой одышкой, как будто – ради меня! ха! – из-за морей спешил на драконе. Или он и был дракон, но оборотился? Такая путаница в голове с этими эльфами! Но Синебыш будто знал уже подноготную, и охотно вызвал юных девчушек устроить моего виршеплета (бишь, Воробушка!) в заднем саду и угостить на славу яблочным пирогом. Всегда рады мастеру слова! А на мои резкие сентенции лишь вздохнул:
– Вполне разделяю ваш рекурс, сеньор Гаэль. И есть поручение от королевы… – еще перевел дыхание, ажно и мне по щеке повеяло! Ах, мне полагалось бы описать его поярче, но опять все темнело в глазах, а может и колдовство? Лицо его хотя и маячило перед глазами, но из памяти – тут же ускользало сизым облаком. Запечатлелась лишь рука его: вся кисть ее покрыта была густой сетью синих вен и аметистовые кольца на пальцах казались спелыми волчьими ягодами на буром кустарнике. Синебыш продолжал:
– Однако ж, – помахал по воздуху свинцовым грифелем, будто калькулируя весомые невесомости, и рука его клонилась все ниже и ниже над столом, будто стряхивая колдовские огоньки, – хотел бы увериться, до конца ли ведаете следствия… для собрата Ареля? При обвинении в сказанной форме…
– Мне странно, – резко воскликнул я, поневоле сбиваясь в канцелярский тон. Храня почтение (пусть и седовласый зануда, но пока что прямо не обидел), но высказался, рубя фразу на предложения ребром ладони: – Странно, что именно вы, поместный староста, выражаете сомнения и поминаете леди Элину всуе. Мнилось мне, завет весьма прост, и для эльфа бежание Лэрдовой клятвы есть весьма серьезная вина. Господин-юнец Арель должен был держать сие в голове и оправдываться самолично!
– Извольте же! – староста кивнул, всплеснув рукой, как будто всполошившись лесного зверя. А все же – был он симпатичен тем, что не тушевался, а достаточно кратко подошел к неприятному делу.
А я… как ни кипел горячкой, как ни бередил обиду, но ввиду столь полного согласия (пусть и с оговорками, судя по неясности дыхания), начал охолоняться и даже чувствовать полное безразличие к итогу мероприятия. Угостился-таки холодным эльфийским взваром – уфф! и в голове-то отдает! – и задумался: а не странно ли, что эльфы были так наготове, как будто предупреждены о визите? И спросил бы старосту, ежели бы не начинавшийся озноб…
Что же, перешли из кабинеции в соборную залу, – а там уже собрались старшины, человек двадцать, все в церемонных цветных плащецах и войлочных кулахах (как и полагается в гражданских случаях). О, тут история целая! Был бы повод боевой, то нарядились бы в шлемаки блестящие, абы вражей слепить, а для гражданских дел мягкая мудрость потребна! Потому и колпаки! Как я знал еще от Клевина, каждый старшина имел на плаще узор согласно родовому цветку или зверю. Странные эти эльфы и смешные! Давно же в торгашество и ремесло осели, и какая с лесным прошлым связь? Но Глах с ними! И удивительно было серо в комнате – будто ли солнце за окном зашло? Витало какое-то… колдовство ли? Или, думалось мне, просто от раны ще не здоровится и потому все так… расплывчато перед взором? Ни одного рисунка на одежде не мог разглядеть, только щурился-слезился зазря…
Вынесли реликвию на бархатной подушечке – дескать, перчатка Лэрда! Ха! Привели и молодца Ареля, не в кандалах каких-то, как было бы на людской части городища, но видимо под некими чарами, ибо бледен и хмур… обвинение, монотонно вычитанное старостой (опять будто нехотя), выслушал понуро, и лишь на мольбу защитить себя поднял глаза, что налились обильной синью, будто ягода вороньего глаза, и зацвели смесью зла и стыда, и пробормотал мне хрипло и несогласно:
– Ты убил деву…
Я вскинулся быстро, все же самого законам учили в ликейоне и готовили в жречество. Молвил тоже ярко, животом воспомнив, как шагал на постыдного любовника. Как мечом и рубанул:
– Сие, сударь Арель, не по существу совершенно… вы были призваны именем Лэрда. Имени Лэрда и держите ответ.
Пленник вздохнул, зная наперед весь ритуал и отсутствие надежды, взор его бледнел и блуждал по лицам старейшин, ища, кому воззвать петицию… некому, но скользнул по подушке с реликвией, ах, и будто едких паров спиритуса вдохнул, бело-желтые уже глаза прорезались фиолетовыми жилками, губы дрогнули слюнцой… ерзанул, ажно в плену каких-то заклинаний, ведущих его по канве кукольного представления (о, этим эльфы славны на праздничных ярмарках!). Сказал отчаянно:
– Имени Лэрда я послушен. Но имею сомнения, мог ли сей заморский гость призывать меня. Требую Лэрда удостоверить его притязания!
По собравшимся прошел троекратный шепот, переговоры, даже увещевания пленнику верно ли он в уме, ибо навлечет недовольство на всю общину. Но сия перспектива юнца только развеселила… будто осиное гнездо разорить! Ибо Арель залыбился едко, смеясь бо над старичьем, попавшим в собственную законную сеть, и продолжал плеваться желтой слюнцой на все собрание:
– Требую Лэрда! Это мое кровное право требовать Лэрда! Требую Лэрда!
Я же о таком обычае и не слыхал, поэтому молчал недоуменно, пока Синебыш не пояснил сдержанно… но рука-то еще набухла венами и дрожью перстней выдавала его волнение, так что даже взялся мне за колено. Мол, в общине искони хранится одесная Лэрдова перчатка, – та реликвия! – и в неприятных поселению случаях, ежели явный виновный заблуждается в признании… тем не менее dura lex. И потому обвинитель-эльф (то бишь я-Гаэль!) обязан призвать Лэрда для окончательного решения. Ха! Дюже я пожалел старосту, ибо от красавицы королевны поручение (ах, помнит меня!) беречь меня-Гаэля пуще света! А тут – ну и ситуация! А по закону их, получается, – взявший перчатку Лэрда мог хоть все поселение уничтожить по блажной воле своей. Ну либо… ежели неправ, то сам в огне окаянном сгореть у них на крылечке… незавидный выбор!
Не то, чтобы я в эти сказки не верил, да, пожалуй, побаивался. Но так смешна почудилась их уловка просить меня отступиться, отказаться от прав моих по собственной их слабости воспитания Ареля-живца… и мне уйти молча, боясь чего? Опять будто шел я на напыщенного юнца с жалом в руке, и такую чувствовал правду в кишках, зажегшуюся ярче и по зажившему шраму растекшуюся, что молча взял перчатку, и только в глаза Ареля поглядел, подойдя на роздых и подняв за потный подбородок с куцей щетинкой. И почувствовал, что рука даже дрожит, и скоро приступ горячки, и зачем я вообще здесь? Но сказал-молвил будто и не сам, но кто-то внутри меня весьма любопытствовал и наслаждался представлением:
– И что же она нашла в тебе, арлекин поганый? Ты же хуже слизняка… Суд Лэрда просишь? Ха! Давай спросим Лэрда, сударь Арель, давай сейчас же пристрастно спросим…
И увидел, что и знал животом, увидел, как юнец-глупец облизнул опять сухие губы и воротит блеклые глаза, боясь всего того, что сам натворил, боясь даже оживленной на миг девичьей тени, ибо как признать, что не защитил и не отомстил! И юнец зашепелявил было что-то, уже согласный на изгнание и что угодно, страшась сожжения или что там Лэрд готовит отступникам имени и предателям девственниц, уже привстали облегченно старейшины, выдыхая будто разом, так что даже поветрие по комнате, но я – нате вам! – уже я одел перчатку, помял пальцами – великовата чуток…
Ну да – как бы почувствовал легкую слабость, но от перчатки или раны? Все же отошел к обвинительному креслу, отдаленному от прочих, и хорошо, чтобы слабость скрыть. Полегчало, и стал ладонь в перчатке крутить-разглядывать. Ладная перчатка – хорошей кожи, дубленая ивой или мимозой (не разберу, но выдох благой!), и в рунах вся вдоль и поперек. Ясенно! Еще – стальные накладки над пальцами. Но чему же сбыться? И наперво ничего не свершилось, но просто я сидел и мечтал отстраненно: то ли солнечная зарница сейчас, собравшись в пучок от набеглой тучи, через эльфийское стекло поразит отступника, то ли вся палата вспыхнет красным пламенем да и к Гадесу их всех? То ли выдумки это все… потом еще почувствовал проход озноба по руке и как бы продержаться до конца судилища, чтобы хоть эльфов не смешить… и туча сгинула разом, солнце ударило вдруг в стекло со всего размаху, но ничего не вспыхнуло и не разбилось, а вот вачега полыхнулась синими рунами над пальцами, и по всей комнате пошел голубой блеск, да и рука вся будто поголубела.
И вот по сей день не познал – бред душевный или правда? Но ежели задуматься – все-таки сон, потому что помнились только куски его, будто сполохи-сполохи-сполохи, без переходных мучительностей…
Но так живо! Как будто тяжелая реальность хрустальных небес упала на все органы чувств – гулкие шмелы над ухом, запах медовицы… опять рассиживался на вечном пне в тенистом Элизеровом саду, покусывая вязкий огрызок, и радужное солнце билось в глаза сквозь вечно живые просветы в листве, играло блестками на руке с перчаткой… что за перчатка?.. но пошевелил перстами, подражая Елизеру, и выразил шепотом заклинание надости. И на тебе – не испуган, но восторжен я был! мелькнула белой пушинкой памятка о Летте, но тут же сдуло ее ветерком, как корону с одуванчика! – на тебе, пожалуйста: синий будто блик неба, и шагает уже из-за широкой яблони ладный рыцарь, но не для войны одетый, а празднично-добротно и немного не по местному: охотничьи зеленые штаны, сапоги, камзол зеленый же… да, штаны больше по коголанской моде, не натяжные шоссы, а свободного склада, сшитые между ног, и цветные клинья по бокам, уходящие под бульвары (ну, haut-de-chausses по родному, короткие такие штанцы с манжетой)… а модник! Эх! Зеленый – цвет пылкой юности, красоты, отваги и свободы, Тристанов цвет!
Еще – вдали по дорожке мелькнул Элизер, пощурился в нашу сторону и Лэрд махнул ему рукой. Лэрд Светлоглазый?!
И вот – верите ли? – уже беседуем призрачно. Призрачно – потому что сон ли? Наверное! Хотя – у Елизера в саду вечно так. Руку протяни – и стрекоза сядет и запоет человечьим голосом. Так и бог, конечно, появиться может, что бы нет? И говорит, нежно дирижируя будто воздушными складками, так что на каждом пальце по стрекозе глазастой и сидит, будто слушают тоже. Но о чем же? Ах, да, о мальце Ареле…
– Понимаешь ли его? Хочешь ли его изменить иль нет? Понимаешь ли, что долго не проживет? Желаешь ему добра или нет? И добавлю стотинку знания – ненужного, быть может, но знания таковы! – то сын старосты, хотя и неведомый – знаешь ли их обычай: собирать мужскую росу… и дева может пользоваться, ежели не желает формального подчинения. Потому и сомнение неясное в его разуме, что почуял ты. Ну так что же скажешь, рыцарь Гаэль?
(Ах, но что за обычай, а как же родословие? Или сие божий жребий? Когда доверствуется дева не жрецам, но богу? Почетное право!..)
А сей… Что и правда сей малец Арель сдался мне? И важна ли кровь его? Глупец – да, но мало ли их. Должно ли печалиться о нем? Или же – Лэрдов намек! – именно и должно, ибо божьего жребия плод? Ох! Собрался как-то с мыслями, ответил тихо:
– Мне все равно, сеньор Лэрд. Пусть живёт как живет и гибнет как хочет.
– А что же, тебе же нравилось быть богом? А помощи никакой! – рассмеялся от всей божьей души. – Но где был бы ты, Гаэль, когда бы мы не помогали тебе? Ты погибнешь и сам рано или поздно, скажешь ли тоже не стараться?
Здесь, при всем почтении, не сдержался я:
– Помогали? Помогали! Да как же помогали, если дева та безымянная не жива боле? Зачем же повстречали с ней, чтобы своей же рукой убил и горевал дни и ночи попеременно? А любил бы ее до дня смерти и пуще жизни!
Здесь Лэрд тоже огорчился, нежно стряхнул стрекозок, будто следующие слова не надо им слушать. Размял долгие персты, как бы воспоминая колдовство…
– Таково ее заклинание, Гаэль! Вспыльчива, но и коротка любовью, потому и стрекотунья образом! И воскресишь, а будет горечь расставания все равно, какие бы клятвы ни сказала. А ты… Ты веришь милосердно, но воспомни вашего господаря Никеандра, тожно денно-нощно светился от страсти. Тоже верил собственному юному голосу, далек был от мудрых сентенций! А карентийская женщина любит свободно, и узы ей излишни. И клянется мужчина, когда лишь пленить ее хочет и всю свою жизнь ей обещает, подурнеет ли, расцветет ли слаще… Потому и мужская клятва наперед! Никеандр сей знал свои грехи, когда Метарой клялся, но не одолел их! Потому и разобижена богиня….
– Но, господин Лэрд, можете ли воскресить? Хоть бы день с нею быть!
И Лэрд улыбнулся грустно, и опять приманил лупоглазых стрекозок на персты и стряхнул снова, будто играя с несмышлеными нимфами:
– Воскресить могу, но лишь на тот же самый день! И будет горе в конце каждого дня. Но вот, изволь. Подними персты…
И на поднятую руку – тут же от розовых клеверных цветов вспорхнула ко мне доверчивая большеглазка и запела что-то утешное серебром крыл. Ах! Умирала, что она чувствовала? Знала ли, что очнется той, кем всегда хотела быть – стрекозой в вечном Элизеровом саду? И отпустил ее, приподняв руку выше, и следил ее полет в дальние цветы тысячелистника и плакал…
– У тебя долгое будущее, – молвил тихо Лэрд и так искренне приобнял, что я еще чуть не всхлипнул и незванно перешел на ты:
– А ты знаешь мое будущее?
– Ах, жизнь – это карта, что ты видал у Елизера. Я знаю твои тропки и твои вершины, и если я знаю куда, то не знаю когда и как. Ведь это Мойры ткут, не мы… Ткут каждую минуту. А мы их божьи слуги. А ты ищешь что-то, спешишь! Хотя, знай! Иногда спешить – это просто оставаться на месте.
– Но, Лэрд. Я запутался, и как раз хотел бы не знать будущее наперед. Хотел бы, как было в Метаре, жизнь была, ах, intense. А тут карьера, зачем?
– Ах, рыцарь Гаэль! Правда! Карьера – то и не жизнь вовсе. Жизнь – это то, где ты бываешь в снах. Жизнь – это праздник. И ладно дева, понимаю! Но сей юнец… почему позволяешь ты какой-то несусветности рушить сей праздник, так что даже мне приходит забота?!
Продолжал, передохнув:
– Пусть имя мне – Лэрд Светлоокий, но пойми, я и есмь заклинание, и должен что-то исполнить, коли вызван тобой! А ты сидишь сейчас с вековечной перчаткой на руке и выглядишь глупым мальцом, прости за прямоту… но сознание твое взыскует меня и рисует тебе ответы на понятном тебе языке. Так забудем о юнце, все же что для тебя?
– Право, не ведаю, Лэрд! Разве ерунда. Разве вот руку от ожога залечить?
– Пустяк, что же еще?
И когда я замялся, блуждая взглядом по саду и ища отчаянно мою стрекозу, бог опять осерчал:
– Ах, пойми же, Гаэль! – Лэрд аж привстал, будто в сердцах, но тут же обернулся и сел обратно и даже приобнял теплее. – Прошлое изменить нельзя, все деяния совершенные уже коротко записаны в Книге. Но можно… можно изменить блеск прошедшего, как в сферическом зерцале, понимаешь ли? И то, что мучило – самой светлой памятью станет! Хочешь ли так?
Я ничего уже не сознавал: как может сей мудрый рыцарь, так тепло обнимающий, быть магической завесой, быть просто резким словцом, брошенным кем-то в сердцах, может быть, даже настоящим Лэрдом, но словом таким звонким, что до сих пор отражается от небесных граней? И промямлил потерянно, пытаясь подладиться под язык Лэрдова заклинания:
– Али друга верного? Не ведаю сам… Ах, может быть, женщину?.. Но не огневку-однодневку, а чтобы мирный перерыв душе. Чтобы праздник.
Ах! Как будто мечту потаенную выдохнул, так и полетело слово мое по волшебному саду оранжевой одуванной пыльцой! И свита пестрых стрекозок за ним!.. Лэрд привстал, похлопал еще по плечу. Еще крепко и мужски, но будто цветом уже стал растворяться в саду и небе:
– Ах, Гаэль! Да ведь так и будет и без спешки! Хочешь ли знать заранее, кто она? И кто за нее пострадает?
– Не нужно мне сей премудрости, Лэрд! Ничьих путей не хочу заранее ведать. Ни одалживать не хочу, ни прощать…
– Что же. Возвращайся!.. Ах, чуть подарок Элины не забыл! Да улещется сердце твое! – невидный уже, расхохотался звонко из-за расцветших разом яблонных веток. Ах, волшебство! И ветви, лишенные плодовой тяжести, распахнулись вдруг, будто белые крылья!.. И коснулся божьего эфира, ибо зазвучала серебряная музыка, и в сердце моем процвел будто тайный эльфийский корень, и стал я не просто побратим, а самый настоящий эльф. И услышал смеющиеся звезды…
И пока размышлял я над его напутствием – мне ли возвращаться к эльфам немедля, в будущем ли светлом возвращаться к Лэрду на совет? – а все и кончилось. Я изумленно поднял голову: уже не тихий сад был кругом, а оживленные эльфийские старшины, на ярких солнечных лучах вспыхнувшие одеждами, будто сошедшие с цветущих Элизеровых дерев… у этого смородинный лист на плащеце, у другого желтая трясогузка… подходили и откланивались добродушно… как будто… как будто мы и что-то светлое отмечали? И староста живо привстал, прощаясь велеречно, кутаясь в узорчатый плащ с синими крапинами, будто в жимолостный шелест. Подошел и молодой Арель в плащеце с чистым яблочным вензелем (а был-то какой?)… и тоже попал под красочный отсвет от витража и ажно раскрасился, будто всё, что видела одна только дева-стрекоза в нем, явно расцвело велением Лэрда… Ах! Как же разрисовал бог сию человечью душу! Так вертел и эдак, пробуя разные оттенки света… Как же зыбко все и жизнь наша всегда в божьих мастеровитых руках!.. Но что же было? Было… Арель не смог ее спасти, не успел, но хватило же благородства дотащить истекающего кровью меня до щеколды и кликнуть замешкавшуюся стражу… так ли было? Будто голова кружилась еще после раны, и Арель немного двоился в глазах, и прошлое тоже двоилось. И лишь я помнил те оба мира: серый и пасмурный, где судили ощерившегося злобой юнца, и ясный солнечный, где я явился благодарить за заботу…
Ох. Я словно очнулся!
Галерка, ахой! Кто-то не верит? Зазря! Каждый из вас, друзья лиценциаты, переживал иножды подобное, но малой силы! Мелкое житейское волшебство случается ежечасно… вот хотя бы верхнее стекло в нашей мозаике? Зрите же – синее? Но я лишь вздохну легко… Ан нет, розовое! И бывшая раньше синь трепещет в памяти как ускользающее сновидение, которое поутру мы тщимся удержать! Ах, ежели дышать мечтой, вся наша жизнь так меняется ежедневно в мелких мелочах, и жизнь – это праздник! Боги таковы!..
– Но что же, – все еще растекался словесными выкрутасами новый я (пока прошлый я еще приходил в себя от эдного чуда), – сударь Арель, благодарю еще раз и желал бы призвать вас отобедать для выражения искренности.
– Ах, пожалуйста! Весьма благодарен оказать услугу! Но коли нынче вы у нас в гостях, то мне и угощать! Позволите ли открыть путь? – Арель улыбнулся смущенно, улыбнулся всем широким лицом и голубизною глаз… ах, были же темные! И кем он был красавице-стрекозе в обновленном мире? Знать, и не любовником пылким, коли и не горевал нощно, а случайным знакомцем? О Глах! Я окончательно запутался… но поглядел еще раз на цветной витраж, играющий радужными бликами… и на солнечный миг снова увидел и весенний сад в бутонах, и смеющегося Лэрда, и большеглазую стрекозку, снова поющую мне и миру серебром крыл. И узнал, что когда-то – любила Ареля сильно, любила целовать ту детскую родинку под губой, что… ах! Но переменилась! Девы таковы! Что же! А сердце заныло – значит, живой! И сердечно пожал юноше десницу и без околичностей шагнул за ним в этот новый мир.