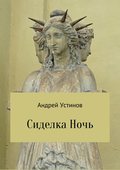Андрей Устинов
Король эльфов. Книга III
Рынок огромный и богатый. И богатый, развращенный город, столе даже на рынке помпезности и фальшивой позолоты: портняжные лавки все в картинах – навроде той, что в Метаре давно любовался. Да тут у каждого по три таких! Но зашел, пощупал товар и померял даже раз – везде тайный подвох. То швы корявы, то подкладка проста. Думают ли, ежели дворянин заезжий, так материал не разберет? Веселее было в дамских лавках, выдаваясь за заморского повесу, взыскующего подарка местной любовнице, – и с легкими девицами-примерщицами перекинуться остротой, и огорчаться не с чего. Pouvez-vous prendre ma mesure? – смешно же! А некоторые и не прочь! И жалел мечтательно по иной востроглазке: а може ее и сладить? И подарок предложенный, ясенно, ей и оставить на добрую память…
И так скользил по рынку поверхностно, и терялся в запахах и шумах, и раздражался всё боле. Вот же Дарьян, выпивоха и дружбан на словах, а подложил этакое свинство. Именно буквально, по охотницкому жаргону, подсадное свинство. И разодели меня заправским повесой, как и дома не одевался никогда, один камзол с золоченой обсыпкой как вам покажется? Ладно, хоть шоссы не разноцветны! И Леремонт лично пяток муаров выцедил (но только для блеска, скотина тож, да щас тебе!), да казначей еще карман грязных баклеров под расписку… И вот бродился вокруг торжища: ах, каких красоток нет! Может плюнуть на начальство, а? И на пяток тех блестких муаров с тусклой мелочью взять-те вон беляночку, отведать всласть, да и отпустить? Такая причуда! Так-то, небось, не будет против и даже в охотцу?! А то и слюбится? А Леремонт воровашек своих пусть сам ловит? Ахаха!
Так раззлился на Леремонта с его муарами, до ужаса просто, что благородная культура вся осыпалась будто с плеч моих праздной шелухой, и попал в неприятность. Пока на беляночку глазел, пока на себя за глупости сердился, – разодетый местный дворянчик с приятелем тоже ёкался по толпе за девок торговаться и меня едва толкнул, покачнувшись ненароком на скользком булыжнике. Хо! Не думая даже ничем, будто в рукопашной зале на недельных учениях, плечом с ходу развернулся и ну подлецу в загривок тумака:
– Извольте следить ваши шаги, сударь-куролёс! Чай, не петушьи бега!
– Глах-блях! Что это у нас? – дворянчик сказался, видать, из дворцовых: кюлоты походные, сапоги хорошей бычьей кожи (только что в лавке насмотрелся, и пяти-то муаров мало!), ну и жилет пестрый, как у них у всех, и серьга ясенно в ухе отсвечивает, качается на солнце. Так-то: черный бородач, крепкий, стрижен по-походному, знать, не совсем пустой неморейский хлыщ! Не дворцовый ли комарик? Не сражались ли третьего дня на практикуме? Да и хрен-то с ним! Весельчак-блях!
А что делать? Отошел на легкий шаг-другой с брусчатки на немощеное придворье (а народец-то живо расступился! ротозейная нация!), поднял насмешно бровь, как Эламир учил, с полным торжеством презрения, и острота будто сама скакнула на язык:
– Извольте прощения, сударь! Или жаразоль-то под андеркат подрежу!
Народец вокруг зашелся вспышками хохота, повторяя остроту задним рядам, всегда бывшим за тригородцев. Посыпались и еше приглушенные насмешки… ежели бородач и думал-не-думал ще, то уже выхода не было. Крякнул досадно, все еще косоглазя на беляночку в торгах, хотел мож молвить, чтобы придержали, да плюнул. Вздохнул и развернулся ко мне бычливым корпусом, обнажая мечец:
– Понаехало рябчиков! Вы, сударь, превосходите Гадесовы пределы наглости. Есть у вас имя какое или уличная кличка, дабы заказать по вам вашу тригородскую обедню?
– Приличнее, сударь, смотрели бы под кюлоты, чем пялиться на рабских баб! Гаэль, глахомать, Франк – к вашим услугам!
И сказал так звонко, прямо в Эламировском стиле, так твердо разнеслись слова в затихшем от улюлюканий воздухе, что сам себе бы позавидовал, ротозейничая из толпы. И дальше не слышал уже ничего, даже имени бородача (хотя тот и круглил губы), но только чувствовал меч в руке и злость на сердце – ах, хоть энтому чернарику беляночка не достанется! Меч и злость, меч и злость, меч и злость…
Но злость – высекшись из первой яркой вспышки, будто переплавилась в холодную булатную вязь: бородач, видать, хотел разделаться быстрей и пробовал-пробовал на мне один прием за другим, будто буквально следуя урокам – клятая знать с единого ристалища! Кажется, аж вспомнил его мельком, а хлыщ и не признал меня в таком-то обличье…
Я и не спешил уже, холодно-четко парировал, нашагивал, отступал, все по тем же каноническим фигурам: лангорт, верхняя связка, смычка. И вовсе не хотел убивать сударя, но не бросать же бой… так вот и тянулось, до приличного шанса закончить небесчестно. Это вам в рыцарских романах звон да искры… А на деле тоска. Тоска, да еще та рана от свечи (клятый Геладий!) разошлась на запястье. Потому и не усердствовал в ударе…
О, так-то Эламир хорошо растряс все мои навыки. Один лишь раз (из скольки уроков? пять полудюжин по числу недель?) удалось задеть немейского рыцаря: Эламиров меч-копис проскочил под баклер, а я пошатнулся, баклер бросил и за копис ну-ка ухватился промеженной перчаткой, да и дернул, почти Эламира насадив на свой мечец. Эламир посмеялся сперва, окрестив приемчик “коголанским напыром”, но затем даже сам упражнялся, ибо счел затейной хитростью. Ха!
Но сейчас-то братались без баклеров, короткими городскими мечами, да и бородач далеко был лишен Эламирова гения, за рамки фигур не выходил, и пыхтел по́том и закипал все больше, усердно переходя к усложнениям. Загодя виделось, как мнется и подгибает колено, готовя подворот (удивительный дурак!)… и когда тяжеловато кувырнулся с тщетной надеждой наконец воткнуться мне во чрево сподниза-то, я толь чутец отшагнул и подлец сам-молодец выкатился горлом на приопущенное острие – ладно, я не давил! Все же, за косой взгляд и косое слово дворян пока не убивают! Но дурошлеп эдак опешил потешно, что тут же побелел с испуга и назад спиной повалился в пыль. Я же, абы гусь не сбежал, толе двинул острием за ним, чтобы горло не терять, и тут – повезло же, что солнце со спины! – по теням только пыльным увидел колыхание слева, что кидается вроде кто-то на спину, и развернулся соколом, подприсев, и глупец-спутник сам-еще-молодец насадился грудиной чуть не насквозь, чуть десницу мне не вывернув. Глах-блях! Так и повалился под капустный прилавок… Ежели бы клятый бородач в тот момент приладился сзади, то достал бы меня навсегда. Но дворянчик смирился уже, бойский дух напрочь заместился могильным чувством холода у яблочка, и лишь молвил глухо-недоверчиво, полулежа еще в пыли:
– Кажется… вы убили моего слугу.
– Ему следовало знать этикет. Не должно кидаться без окрика, – сухо ответил я, сам в запоздалом холодом поту, что так по-детски забылся, и получил бы клин во десный бок, ей-ей, коли бы бородач не терялся. И как я забыл про спутника? Думал дворянин, а то слуга-пес… какое может быть благородство, что с пустого народа взять? Туда и дорога подлецу. Как глупо же! Как на краю пропасти, на остром гребне покачнулся… Уф!
– Он был мне весьма дорог, – зачем-то повторил бородач, поднимаясь и отряхиваясь.
– Вы хотите повторить бой, сударь? – сердито-насмешливо спросил я, нарочито разминая руку: вжик-вжик. Но убрал-таки меч в тканевые ножны (тоже иноземная мода!). У противника-то были кожные, да с внутренним мехом… Тьфу! Решился запоздало и на придворный жест, дабы не было пустых раздорок из-за безделки:
– Однако, мсье, примите муар его родным на поминки. Ему не стоило лезть на рожон.
– Если я найду их, – нахмурился бородач, но муар неохотно взял. Знал-таки манеры! – Благодарю за урок!
– К вашим услугам! Доброго дня! – я неловко-дружелюбно пожал протянутую руку придворщика (опять заныло запястье), развернулся и пошел себе злиться дальше.
Народ расступился почтительно, одобрительно гикая, протиснулись и подмигнули знакомые стражники, разумно выжидавшие конца представления. Хотя выделены были Дарьяном следить за мной и беречь от невзгод, но в горячку разнимать не полезли, чай не дурни, теперь зато с бородача ощиплют меди за доставку тела. Поделом! Что за бессмысленая жизнь? И зачем-зачем задрал я этого придурка, которого побить даже не было малейшей чести, кроме хвалебных кричалок развлеченного зрелищем простонародья? И объясняй теперь Леремонту про муар, а на милую беляночку не хватит уже золота, так что все попусту и зря вышло.
Так и шел дальше, еще махая машинально рукой, будто в схватке, удивляясь собственному бессмыслию. А если бы не юнец ратный попался, а мастер как Эламир? И лежал бы сейчас мертвой рожей в капусте… и очнулся бы в Асгарде рожей на капустной грядке? Ахаха!.. Ну хотя бы – сам-то был благороден к юному щеголю, как наверное был бы и Эламир. Слабое утешение… Эх, и почему же выпало одному, как вот нынче, бродить по рынку. Но так ведь карьеры не сделать?
Возможно ли, думал сбивчиво, еще не восстановив дыхания: мне потребна хорошая женщина? Кажут, славная женщина вдыхает в мужчину высокий дух, – даже божьи песни гласят, кем был бы Глах без Метары?! Пустым рубахой! Вот и я сам… Раньше, как я любил Катинку и даже ветреницу Летту! Кажется, параграфы трубадурные сочинял, и довольны были и блестели глазами! А теперь и двух слов не связать поверхностных, кроме пошлых острот с продавщицами. Богата Авента и знатна, а я-то будто через тусклое слюдяное оконце на живой народ пялюсь и не чувствую жизни…
Валерия? Ахх… Плевать на Никеандра, хотя старик и симпатичен по бешеному нраву, но… но Эламир благодетель и друг, это святая правда. Против Эламира я бы никогда не пошел.
Тупик. Прямо как этот вот проход между модными крашеными лавками, дальше две пошарпанных гостевых избины с разъехавшимся булыжным фундаментом, дальше рваный край брусчатки и недобитые плешивые кобели, размякшие на чахлой травке… Так я и попал на самый задец, в ту похабную граверную, где убил еще частицу веселого дня, все-таки восторженно разглядывая голых чеканных баб в полусумраке смрадной лавки и воображая Валерию, да в итоге опять сам себе опротивел.
Ах. Зачем я здесь? Валерия отродясь по энтой гнусной лавке голышом не хаживала и кошелек срезали не здесь… Так вот вышел быстрым шагом обратно в бурный рыночный гомон и что-то еще, Глах-рубаха один знает, что-то еще злое учинил бы. Даже жаль, что все так быстро кончилось!
Камеристка Фалерии (смешливая кареглазая толстушка) любезно передала поутру восковые церы с записями, где бывала с госпожой в тот базарный день, – сплошь дамские темы с неразборчивыми пометками интимных размеров и цен. Дамские темы! Еще же и дамский кошель срезали, что поневоле поверх платья, а кавалеры-то известно куда свое сокровище хранят! И срезали (подсказала, румянясь и косясь на наших молодчиков) именно в женской лавке, куда без охраны пошли примеряться. Посмеялись с ней, до чего же безглашно-глупо было посылать мужчину приманкой! То не яблочный воришка!.. Я машинально захватил с подноса крикливого разносчика горсть то ли орехов, то ли леденчиков мятных (лови баклерку!) – не помню, и жевал механически. Хотя и не разносчика, а шалой разносчицы… бойкая девица в мужском кафтане… Ха! И почему в ликейоне увещали не жевать на уроках, будто бы ум тупится?! Да наоборот! Сообразил вдруг, так пожевывая, что кошелец-то – ах, наверняка-наверняка! распотелся даже! – срезала ловкая пальцами девица же, причем одетая ладно и пристойно, иначе ходу в важную лавку не дали бы благие приказчицы.
И стоило помыслить так, пронять суть событий (Елизерова присказка!), и в тот же просветленный миг увидел сквозь россыпь в толпе, потеряв изумленный вздох, будто покатившийся по земле одуванчиковым комом… увидел, как в пеструю витринами магазею, после сухого разговора с лакеями, после румяных любезностей с хозяйкой, вышедшей встречь… входят павами две пригожие дамы с веселыми горничными (и бились в глаз покачивающиеся зрело груши кожаных кисетниц на тонких поясках), и тут-же-тут-же еще темноволосая cher grisette, ожидавшая будто заказа у простого пуговичного лотка рядом, махнула досадливо рукой и вспорхнула с места и подшагнула в платяную лавку за последней субреткой, будто из той же процессии.
И правда-правда, будто был я сам-Глах сегодня и сам создавал персонажей нашей жизни, и шаги их, и грехи их! И так уронил орешки свои уличным вяхирям, выждал семь глубоких вздохов, будто ведомый рассчитанным по нотам помыслом, и шагнул мимо дамской стражи, оставленной ожидать, и мимо разодетых придверных лакеев, не успевших зевнуть, – ах, будто мухи в янтарном солнце! – и дверь предупредительно звякнула нежным колокольчиком, но божий свет быстрее бежит по струнам эфира! И прямо во створе солнечного терема, мановенно выстроившегося в узкой комнатце от открытой мной двери, узрел в солнечном луче руку ее ярко-белую, скользящую меж бесцветными телесами служанок, дрогнувшую от нахлынувшего уличного шума, роняющую в мягкий ковер на полу медные какие-то щипчики и срезанный только что тяжкозвонный кошель, и почуял всем сердцем желтые волны ее взволнованной полотняной робы, и выше – глаза её, испужно раскрывшиеся голубыми встревоженными сойками… и будто не сама она, но сойки эти тут же вскрикнули на вспыхнувшем солнце, уронили рулон золотой парчи с загроможденного прилавка для большего шурума-бурума (как будто мало было полуголых дамских визгов!), и бросились наутек в черный задний выход, с криком срывая задвижку.
И выкатился за ней с кривого трехступчатого крыльца в вонючий служебный двор с выгребной ямой, мимо двух пачканых золотарей, и бежал-гнался за ней всеми ходами-выходами-закутками базара, какие она знала сроду, опять мимо ткачей и мебельщиков, мимо шубников и мясников, мимо яблочников и булочников, мимо блестких ювелиров и сквозь кальянный дым, сквозь лабиринт разноцветных лиц, бежал-крушил будто через призрачный мир за нею, единой живой, бежал, обнажив мечец, но не для нее, а чтобы сущие черти-проходимцы-колдуны не мешкали и скорее рассторонялись передо мной. Потому что: весь день мечтал о женщине, и во вспышке света в лавке – это была она-она-она, одна и видная в тусклом пустом окруженье… бежал за нею, за солнечным пятном ее робы, через пахучий черт знает чем рынок, но чуя только нежный ее аромат, аки пес гончий, вдыхая глубже и чаще по мере бега, и уже сам бы расплевал едко все воинские уставы, сам бы помог ей обирать праздничных раззяв, и завтра сбежал бы с ней на счастье и на лихо к непокорным пустынникам и борожил бы для нее королевские золотые караваны (даже против Эламира вышел бы биться!), и…
Мы уже выметнулись из толчеи рынка в ремесленный город, беглая дева уже задыхалась в скользкую горку, и я мог бы поймать ее легко, да не хотел мять и ронять красавицу-небылицу на немытые грубые камни… ах, как жаль такого мягкосердия! Ибо вбежала в некую чахлую зеленчатую дверцу, и я был уже так рядом, на касании руки, что не могла бы закрыть, даже не ахала, но птицей кинулась, взмахивая о стены руками, насквозь через темный длинный коридор по темной дорожке вперед куда-то к светлому окаему, крича громко-тревожно:
– Арель, Арель!
И еще, изнеможенно добегая уже до последней комнаты, оказавшейся предательски пустой:
– Арель, Арель…
И так я знал, что уже кто-то балуется с ней, уже кто-то смачно задирает ей по вечерам нижний подол, уже кто-то чувствует нежные губя ея на свойном могуществе и гордится мужской удачей и хвалится друзьям, уже кто-то долго-потно владеет ею, перед кем она гнется и дрожит и всхлипывает счастно, отдаваясь и забываясь… и не злился на нее (ибо как деве жить без защиты?), но оконфузился сам и не знал… не знал, а что делать-то? И случилось, что случилось. Нимфа, ясенно, была испугана до белизны огромных глаз, потерявших цвет, до пересохшего горла, не могущего петь, до перекушенной губы с застывшей в капле кровинкой, и схватила с добротного верстака у стены первое, что подвернулось под руку, башмачный какой-то секач, и с ведьмачьим хрипом оборотилась-развернулась и полоснула меня через живот.
И я. И я… А что я? Я даже не мыслил… Ах, не так! Я все еще мыслил сказать ей, Метаровой голубке, что все не так, что пусть она стрекоза и изменщица мне, но пусть останется жить, как живется, что я уйду сейчас, ежели выживу от вспыхнувшей горечью раны… Но рука моя с мечом знала лучше: живя каким-то малым мышечным умом, тихо двинулась вперед, пока я думал ошалело: зачем-зачем-зачем? И тихо-тихо пронзила ее девичье чрево – почти как что-то несущественное! почти как воздух! – и только теперь встретились мы близко глазами и поняли оба всецельно, что погоня была ужасной ошибкой.
Голубые сойки вернулись в ее глаза, волосы тепло пахнули ба́смой (а корни-то русые! ах, почти Катинка!), детский голос вернулся на последнюю долю, и она сказала нежно и влюбленно, как будто прощально проводя по струнам хелизы, веря, что умирает, но радостная, что встретила меня наконец:
– Зачем ты так сделал?
И бережно обняла меня руками за шею и так повисла на мне и на упершемся в древесную стенку мече, почти как в акте вечерней любви, дрожа от боли и испуская последний девичий дух, оставаясь навсегда безымянной.
А дальше?
Дальше сверху откуда-то скатился, разбивая ступени, выбежал с боковой лесенки полунарядный эльфец-юнец… заспанный вихрастый подлец, проспавший ее жизнь. Ах, на что же в нем польстилась она? На тонкие чуткие губы, способные лишь к бесполезным любовным стишкам, никому и не слышным в ночи? На черные пряди, бесполезно застилающие глаза? На блесткий мечец, который он, ухмыльнувшись криво, перекинул дважды из руки в руку. Ворон пугать! Как будто сей цирковой навык может дать ей вечную любовь? О, Глах.
Я отпустил ее тихо… края рваного разреза на моем золотом камзоле уже ржавели, каплилась уже юшка на грязнополье, смешиваясь… но она оставалась чиста, только алый поцелуй на желтой робе! А у себя – даже развидел я в раскрое живота собственную неприязненную кишку… но кишку порез не задел, надо было только быстрее до лечебницы.
– Сударь Арель? – сказал я весьма спокойно, будто при поверхностном знакомстве, будто не умирал на каждой минуте. А что было нам делить теперь? Какие философии рассуждать? – Сударь Арель, вы, гадая по льняным одеждам и косым косицам, признаный эльф. Знамо, именем миротворца Лэрда прошу вашей помощи, мне необходимо к лекарю.
– Ты… ты… – юноша звенел-шипел низким грудинным голосом, голосом мускульного тела. Говорил не умом, не сознавая настоящего и плел что-то из причудившегося детскому разуму: – Ты сгниешь здесь сейчас, захлебнешься золотом своим, за который убил ее. Ты… ты… насажу тебя сейчас на вертел Лэрду, вот какого Лэрда получишь ты…
Юноша был бы даже интересен к знакомству – чем-то напомнил мне самого себя месяцы назад. Ах, дурошлеп! Возможно ль, и было что-то в нем нераскрытое, на что и купилась дева… Но рано она доверилась ему жизнью! Глах! Как это было до боли знакомо!! Деве хотелось украшений, а юнцу хотелось молодой любви. Но украшений богатых не мог ей дать (и не знал, зачем?! если любовь!! если стишки!!) и она решала всё сама, прямо моя разумница-Катинка! И зачем-зачем-зачем мы в молодости так глупы, что играем в жизнь?
А надо было просто жить. Некогда было терять время на голоштанника. И я поудобней поджал брюхо шуйцой, а десницею просто воздел меч на лангорт и твердым военным шагом (раз-два, считая в уме) нашагнул на безмозглого тетерева. Ну? Поглядимся, чья песня сильней! Раньше бы просыпался и спас бы песенницу! Душой должен был почуять ее страх и бег. А не почуял – знать, подлец, и не любил.
И что-то юный Арель увидел у меня в глазах – что-то за гранью его юного понимания. Увидел, что так я и пойду королем – пойду твердым шагом через темный коридор, чтобы свалиться на голые булыжники только там, где людно и солнечно, чтобы миротворец Лэрд, солнечный бог, заметил и спас. Увидел, что может еще, несомненно-непременно, на меня поднапасть и аже умертвить, но вот незадача – придется отправиться к старосте Гадесу под ручку со мной. А точнее, ликом к лику, очи в очи, оба нанизанные на мечи друг друга и с выпавшими следом зеленистыми нутрями, – так и провалимся торжественно в гадские палаты! И не принял сей черной судьбины, единственной честной для него, и не захотел, и крикнул что-то бесполезное и сбежал из моего затухающего ума, – как ворон вылетел, изгнанный от курьей кормушки… только что маячился перед глазами сквозь соленый пот, а растворился, как колдовством смахнуло.
А я… так и дошагал с вытянутым мечом до двери, считая выдохи, девятнадцать шагов дошагал (а думал, только дюжину и осилю… устал мертвецки! еще думал: хорошо темно, и не пугаюсь, много ли крови напачкал на ковер?)… но дошагал молодцом и рухнул прямо на жалкую деревяшную дверь и наискосок выпал из нее всей душой и всеми кишками на раскаленные камни, и мир перевернулся, и над собой где-то в высоком небе с перьевым облаком увидел не Лэрда, но ясную посланницу его. Огромный девчоночий лик, лик девчонки-эльфийки, похожей на Эйфе (но кто такая Эйфе?), и детский крик-звоночек её эхом разлетелся по каменным стенкам, будто искря, и потом зрение ушло, но слышал еще стрекот робкого кузнечика слева в камнях (тоже призыв!) и набойки воинских сапог, скребущих в беге по булыжнику вверх переулка.