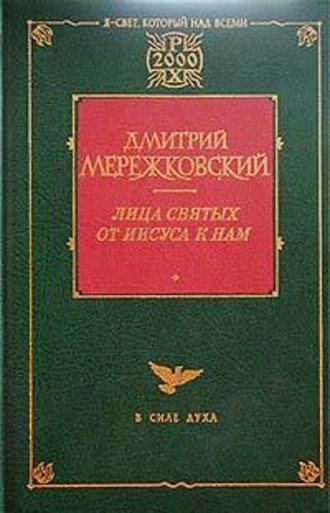
Дмитрий Мережковский
Франциск Ассизский
X
Пропировав однажды всю ночь, до света, шли гости Франциска веселой толпой, оглашая пустынные улицы городка Ассизи пьяными песнями. Шел с ними и «король» их, в шелковом, пестром, скоморошьем платье, с шутовской, из золотой фольги, короной на голове и с таким же скипетром в руке. Все, кроме него, были пьяны, так что не заметили, как он потихоньку отстал, и ушли далеко вперед. А он, оставшись один на пустынной улице, вдруг остановился, как вкопанный, с таким неподвижным лицом, как у человека в столбняке или лунатика. «Кажется, в эту минуту, жги меня, режь, – я бы ничего не почувствовал», – вспоминал он потом.[94]
Пристально, широко открытыми глазами глядя на утреннюю в светлеющем небе звезду, переливавшуюся, как исполинский алмаз, тремя цветами, – голубым, зеленым и розовым, – испытывал он такое блаженство, что умирал в нем, как утренняя звезда, в лучах восходящего солнца. Но долго не мог понять – вспомнить, отчего это блаженство; вдруг вспомнил: оттого, что тремя цветами играет звезда. Понял – вспомнил все, и сердце его пронзило, как молния, число божественное: Три.
XI
Множество было в те дни, по всему христианскому Западу, больниц для прокаженных, «лепрозориев», так что для ухода за больными основан был особый рыцарский орден св. Лазаря. Так же как безумие, «одержимость», во времена язычников, проказа почиталась тогда «священною болезнью», потому что в обезображенном ею лице человеческом являлся людям прообраз Того, о Ком сказано:
больше всякого человека обезображен был лик Его, и вид Его, – больше сынов человеческих… Взял на Себя наши немощи и понес наши болезни (Ис. 52, 14; 53, 4).
Помнили также все, как Прокаженный, в объятьях св. Мартирия, преобразился во Христа и, возносясь на небо, сказал ему: «Ты не возгнушался Мною на земле; не возгнушаюсь и Я тобой на небе!»[95]
XII
Была и около Ассизи, на полдороге в Портионкулу, больница для прокаженных. Каждый раз, как Франциск проходил или проезжал на коне мимо нее, если только ветер дул с той стороны, где находилась больница, – он ускорял шаг или пришпоривал коня, отворачивая голову и затыкая пальцами нос, чтобы не почувствовать свойственного этим больным гнусно-сладковатого смрада, потому что не было для него в мире ужаснее этого запаха.[96]
Пропировав однажды с друзьями всю ночь до света, в загородном доме, он возвращался в Ассизи верхом и не заметил, как подъехал к месту, где находилась больница.
«Буду велик, – больше Карла, Александра и Цезаря, – больше всех людей на земле!» – вспоминалось ему, что говорил он, по обыкновению, друзьям своим давеча, подвыпивши.
Вдруг на очень крутом повороте узкой, между скалами, дороги конь под ним шарахнулся так, что едва не выбил его из седла, и в ту же минуту увидел он, что идет на него человекоподобное страшилище с безглазым, безносым, безротым лицом, зеленовато-желтым, в белых струпьях и красных язвах. Гнусно-сладковатым смрадом пахнуло ему прямо в лицо, и послышался из круглой черной дыры, месте рта, нечеловеческий хрип:
– Милостыню, ради Христа!
Круто повернув и пришпорив коня, поскакал было всадник во весь опор, назад; но, почти в то же мгновение, затянул удила так, что конь сначала взвился на дыбы, а потом, упав на передние копыта, остановился как вкопанный. В миг перед тем, как это сделал Франциск, почудился ему чей-то смех: «Будешь, будешь велик, – больше всех людей на земле!» И точно бездна зазияла, у самых копыт коня, от этого смеха, и смрадом пахнуло из нее, гнуснейшим, чем тот, от прокаженного, потому что его же, Франциска, собственным. И когда он это почувствовал, то, круто, еще раз, так же как давеча, повернув коня, поскакал назад, с одним только страхом, что не найдет прокаженного. Но тот стоял на том же месте, как будто ждал.
Не соскочил с коня Франциск, а упал, как человек, побежденный притяжением бездны, срывается в нее с крутизны и падает. Но это была уже иная бездна, – не та, что осталась за ним позади.
Быстрым и легким шагом подойдя к Ожидавшему, стал перед Ним на колени, поклонился Ему до земли и вложил в левую руку Его кошелек с червонцами, а правую поцеловал с таким благоговейным ужасом, как самому Царю царей и Господу господствующих. И показалось ему, что Прокаженный кладет ему руку на голову, как сюзерен, посвящающий вассала в рыцари.
Только тогда опомнился Франциск, когда уже опять сидел на коне, и, перед тем, как отъехать, оглянулся туда, где стоял Прокаженный; но никого не увидел: тот исчез, точно сквозь землю провалился, или вознесся на небо; может быть, убежал, испуганный Франциском больше, чем тот был давеча испуган им.[97]
Радовался Франциск, как победитель. Что победил? Весь мир, – как Александр, Цезарь и Карл? Нет, больше, – себя.
XIII
Лиха беда начать, а потом пошло все легче и радостней. Каждый день посещал больницу прокаженных, ухаживал за ними, кормил их из собственных рук, омывал и перевязывал их гнойные раны; целовал им руки, целовал их в уста, и смрада их как будто не чувствовал.[98]
«Дал мне Господь начать покаяние так: когда я жил еще во грехе, очень тяжело мне было видеть прокаженных; но сам Господь привел меня к ним, и я начал за ними ухаживать… и то, что мне было тяжело, сделалось легким и радостным», – вспомнит Франциск, умирая.[99]
XIV
Издавна людьми нехоженая, глухо заглохшая, густо-высоко душистой лавандой, розмарином и мятой заросшая, вьющаяся тропинка шла по каменистому склону горы, под легкою тенью маслин и приводила путника, в четверть часа, от городских стен Ассизи к старой-престарой, бедной-пребедной церкви св. Демиана, запустевшей давно и покинутой всеми, как слишком старые старушки бывают покинуты, видимо близкой к разрушенью. Только, может быть, ровесники ее, кипарисы-великаны, стерегли ее, как последние верные друзья, и между ними виднелись далекие, блаженно-пустынно, как будто не на земле, а где-то в раю, голубеющие холмы и долины Умбрии Лесистой; и казалось, что так пустынно-блаженны они – от этой запустевшей церкви.[100]
Жалостью ныло сердце Франциска каждый раз, как проходил он мимо нее или хотя бы только видел ее издали: так последний верный слуга жалеет покинутого всеми в нищете и в изгнании великого царя.
Часто ходил он молиться сюда, и нигде не молилось ему так сладко, потому что не было нигде такой тишины, не мертвой, а живой, точно в ней Кто-то невидимо присутствовал и вошедшего в нее стерег, как те кипарисы-великаны стерегли ее.
Втайне, может быть, нравилось Франциску – и чем больше ныло в нем сердце от жалости, тем больше нравилось, хотя он этого и сам не сознавал, – что церковь такая старая, нищая, покинутая всеми и к разрушенью близкая; нравилось ему и то, что священник при ней – такой же старый, нищий, – сгорбленный, белый как лунь, чуть живой, точно с того света выходец; и то, что внутри церковь еще больше запустела, – ближе к разрушенью, чем снаружи. Стены так покосились и такие в них трещины, что кажется, рухнут сейчас; плиты пола под ногами шатаются; пыль и паутина везде; лики на иконах почернели; ни одной перед ними свечи, и давно не горевшие лампады заржавели; главный жертвенник, когда-то побеленный, а теперь облупленный так, что виднелся кирпич, гол, точно ободран сейчас. А над ним – самое голое, нищее, в этой нищей церкви, самое забытое людьми и покинутое, – большое деревянное распятие, некогда крашеное, а теперь почернелое от копоти так, что почти ничего уже не было видно на нем; только если падал из окна луч солнца, прямо на лицо Распятого, то в черноте чуть-чуть розовели губы, и глаза на того, кто пристально на них смотрел, – смотрели так же пристально.
Что это за распятие и откуда оно, не знал Франциск и удивлялся, потому что нигде не видел такого.[101] Но, может быть, тотчас же узнал бы его Иоахим, потому что в лавре его, Сан-Джиованни-ин-Фиоре, висело над жертвенником такое же точно, – не западного, римского, письма, а византийского, восточного; и, может быть, с тем же чувством молился он перед ним, как Франциск: «Этот чужой роднее родных!» Но знал Иоахим уже и то, чего еще не знал Франциск, что это не одной из двух церквей, восточной или западной, а единой Вселенской Церкви Христос.
XV
Выйдя однажды из больницы прокаженных (ходил в нее потихоньку ото всех, потому что если бы это люди узнали, то, боясь заразы, бежали бы от него самого, как от прокаженного), зашел Франциск помолиться в церковь св. Демиана.
Стоя на коленях перед тем большим распятием над жертвенником и пристально глядя в глаза Распятого, повторял он все одно и то же:
– Что мне делать? что мне делать? что мне делать, Господи?
Вдруг пал лицом на землю: тихий голос услышал, – тишайший, чем голос матери, говорящей с больным ребенком, и такой ужасный, что побегут от него некогда земля и небо и не найдется им места:
– Рушащийся дом Мой обнови, Франциск!
И во второй раз, еще тише, ужаснее:
– Рушащийся дом Мой обнови, Франциск!
И в третий, – так близко, внятно, как будто Распятый, сойдя с креста, стоял над Франциском:
– Рушащийся дом Мой обнови, Франциск![102]
Долго лежал он на земле, как мертвый. Ожил наконец; медленно поднял лицо и взглянул на распятие: было оно, как всегда, – почерневшее от копоти так, что почти ничего уже не видно было на нем; только пристально смотрели глаза в глаза Франциска, и немые уста как будто хотели еще что-то сказать, но уже не могли. И жалостью заныло сердце его, как еще никогда. «Памятью Страстей Господних пронзенное, истаяло», – говорит легенда, а может быть, и он сам говорит о том же в этой молитве: «Как бы я хотел любить Тебя, Господи! как бы я хотел отдать Тебе душу мою и тело мое, как бы я хотел отдать Тебе… О, если бы я знал чтó!»[103]
Встал, вышел из церкви, отыскал священника и, благословившись у него, поцеловал ему руку, с таким же благоговейным ужасом, как тогда, Прокаженному – Царю царей; вынул из кошелька последнюю, после раздачи в больнице, оставшуюся в нем монету и, подав ее священнику, сказал:
– Новую лампаду и масла купи: пусть горит всегда неугасимая, перед Распятьем![104]
XVI
Прямо из церкви вернулся домой, в лавку, отобрал потихоньку от отца лучших французских сукон, самого модного, огненно-красного цвета, scarlato, связал их в тюки, навьючил на коня и поехал в город Фолиньо, на ярмарку, где выгодно продал весь товар, с конем в придачу, торгуясь и набивая цену так ловко, как еще никогда.
Засветло вернулся пешком в Ассизи (было недалеко, часа три-четыре ходьбы); прямо, не заходя домой, задворками, крадучись, как вор, прошел в церковь св. Демиана и хотел отдать священнику туго серебром и золотом набитую мошну, на починку или отстройку ветхой церкви заново. Но тот не взял.
– Нет, Бог с тобой и с деньгами твоими! Нищим я жил – нищим и умру. И церкви новой не надо: какая есть, такая пусть и будет; старая-то, может быть, лучше новой…
Слышал, должно быть, что люди говорили о «маленьком французике»: «шут», «дурак» или «порченый». И отца его боялся; знал, что с ним шутки плохи: со свету сживет, засудит.
Долго умолял и убеждал его Франциск позволить ему остаться при церкви и если не чинить ее, то хотя бы только прибрать и почистить, чтобы храм Божий не был похож на конюшню. Тот наконец согласился, но денег так и не взял.
Тогда Франциск, не зная, что с ними делать, и не желая оставлять их при себе, тут же, в церкви, поднял мошну, размахнулся ею, нацелился и зашвырнул ее на подоконник высокого окна. Тонким золотым и серебряным звоном, тяжко упав, зазвенела мошна; замер этот в нищей церкви, может быть, с ее основания, неслыханный звук, и наступила в ней опять та живая тишина, в которой невидимо Кто-то присутствовал и входившего в нее стерег.
Вышел из церкви Франциск, а за ним – священник, не оглянувшись туда, где лежало серебро и золото, – для этих двух нищих самая в мире ненужная, забытая и презренная вещь, – такая нечистота, что первую надо было ее, очищая церковь, вымести как сор.
В домике священника, таком же бедном и старом, полуразвалившемся, как церковь, сладко спалось Франциску в ту ночь, как только под кровлей родимого дома спится вернувшемуся в него изгнаннику.[105]
XVII
Три дня ждал сына мессер Пьетро, с каждым днем все больше тревожась и недоумевая, куда он пропал.
«Долго ли до греха?» – начинал было думать о лихих людях, что по большим дорогам, в ярмарочные дни, шалят, подстерегают с выручкой купцов, грабят их и убивают; начинал думать и не кончал, потому что очень любил сына-первенца, единственного (второй сын никуда не годился: хуже был, чем дурак, – придурковатый, грубый и тяжелый увалень); очень любил его, хотя почти никогда никакой любви ему не показывал; суров был с ним и даже, иногда, как будто жесток, но втайне баловал его и гордился им; знал, что будет из него толк: выйдет в люди, честь и богатство торгового дома Пьетро Бернардоне умножит, а то и в большие господа попадет, в вельможи и рыцари, – золотая дорожка куда не доведет. И вот, пропал! Или опять загулял? Да нет, больше одной ночи никогда не прогуливал, а теперь четвертые сутки ни слуху ни духу.
Так наконец растревожился мессер Пьетро от всех этих мыслей, что хотел уже сам на разведки ехать, как вдруг дошли до него такие слухи, что он ушам своим не поверил сначала: будто бы четвертого дня еще благополучно вернулся Франциск с Фолиньовской ярмарки: кое-кто будто бы видел, как потихоньку, прячась ото всех, а от отца, должно быть, больше всех, пробирался он по задворкам, с туго набитой мошной; и еще кто-то выследил, как, пробравшись к св. Демиану, вошел он в дом священника, – у него и живет, прячась ото всех; а еще кое-кто похвальбу его слышал, что никогда уже к отцу в дом не вернется: «полно-де ему в приказчиках маяться, мерить весь день в лавке аршином сукно; хочет на воле пожить, благо в мошне денежки звенят».
Как все это услышал мессер Пьетро, точно обухом его по голове ударило. «Вор! сын Пьетро Бернардоне – вор! Продал чужой товар и с деньгами ушел, отца обокрал, весь род обесчестил. Вот как вышел в люди… Ну, погоди ж, негодяй, доберусь я до тебя, проучу как следует!» – кричал мессер Пьетро, не помня себя от ярости.
Тут же собрал всех друзей своих, таких же, как он, честных купцов, именитых граждан Ассизи, чтобы видели все, как будет он сына-вора наказывать. И с криком и гиком пошли они вора ловить, как ловцы идут облавой на зверя.
XVIII
Прямо к св. Демиану пошли, в дом священника вломились. «Где Франциск?» – «Не знаю». – «Был у тебя?» – «Был, да ушел». – «Куда?» – «Не знаю». Больше ничего от старика не добились, только напугали его до полусмерти.
Дом обыскали, обшарили весь, – ничего не нашли. Обыскали и церковь; здесь нашли, на подоконнике, мошну, валявшуюся в пыли и паутине, как сор, на том же месте, куда намедни зашвырнул ее Франциск.
Тут же мессер Пьетро высыпал из нее деньги, пересчитал и, сличив с наивысшей ценой товара, увидел, что выручка вся, до последней денежки, цела, да еще с таким барышом, что все удивились, а мессер Пьетро – больше всех. «Умница! – подумал он с тайной гордостью. – Вот как цену товару набил, не хуже моего. Выйдет, выйдет в люди Французик!»
И сразу отлегло от сердца. А все-таки куда ушел и зачем? Ну да ладно, без денег недолго нагуляет, скоро вернется домой, нужда загонит. А не вернется, – тоже не беда: значит, дурной сын, непочтительный; а сын дурной из дома – гнилой товар из лавки: не убыток, а прибыль.[106]
Все на том и успокоились, и мессер Пьетро тоже, но не совсем. В этом никому не признался бы, но кровной для него обидой было то, что Франциск, первенец его, единственный, возлюбленный, так, ни с того ни с сего, ушел из дому, покинул отца, как и верный пес не покинет хозяина.
Вор – не вор, а, пожалуй, не лучше того. «И за что он меня так? что я сделал ему?» – думал мессер Пьетро и мучился.
И потому еще не мог он успокоиться, что чуяло сердце его, что дело этим не кончится, беда не прошла: еще покажет себя «Французик», такую штуку выкинет, что весь город ахнет.
Как бы удивился мессер Пьетро, если бы сказали ему, что он сына боится; а так оно и было: очень боялся его, потому что очень любил и лучше всех знал, на что он способен в добре и во зле.







