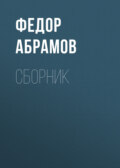Федор Абрамов
О войне и победе
8. V.1980. (Из записной книжки)
Наши потери в войне. Сколько? 20 млн, как говорят сейчас?
Не меньше 40 <…>
В Верколе убито 128 человек. Примерно 1/4 населения. И так везде и всюду. Да плюс к этому Ленинград да оккупированные земли.
9. V.1980
Всю ночь лил дождь – природа оплакивала погибших. А утром выглянуло солнышко – природа солнышком улыбается погибшим.
35 лет Победы. Каковы итоги? В магазинах шаром покати – ничегошеньки. <…>
В народе шутят: что есть праздничного? Газеты.
Да, год от года все хуже и хуже. <…>
Знают ли об этом наверху?
А что им знать? У них свой, особый мир. У них все есть. Народу плохо? Народ быдло. А русский народ вдвойне: все простит. Знают, знают там эту присказку: все вытерпим, все перенесем, лишь бы войны не было.
О, бараны бестолковые. Именно потому-то и будет война, что вы все терпите.
Новгородчина
10. II.1981 (Из записной книжки)
Потери в войне.
До войны население 1 млн 121 тыс. 728 на 1.I.1941 на 1.I.1946 – 692 тыс. Сейчас – 712 тыс. Каждый второй житель Новгородчины – погиб.
5. V. 1981. (Из записной книжки)
Мать-Родина на Пискаревском кладбище.
Грудастая, закормленная бабища! Да камень бы должен был зарыдать (разлиться слезами), а она с венком цветов. Да разве цветы, венки славы нужны пискаревцам, жертвам блокады! Слезы, сострадание. Да самая злая мачеха такой равнодушной не может быть.
Мать-Родина с мечом – какое отношение имеет она к русской женщине-матери и вообще к матери. К украинке. Это в лучшем случае калька с французского.
То же – могила неизвестного солдата.
Каменная баба – вопреки воле украинцев поставленная на украинской земле и кощунственно названная матерью-родиной!
Да она хуже злой мачехи для украинцев!
28. XI.1981
Вдруг вспомнил: в этот день 40 лет назад меня ранило. Второй раз. Боже, как давно это было и как недавно!
А остался ли кто в живых из тех, кто был тогда со мною? Мика, Левин? Но они ко времени моего второго ранения с войной уже рассчитались. Ни одного, ни одного знакомого не было со мною, когда меня ранило второй раз.
41 год после войны. А мертвые все еще не подсчитаны. Да и подсчитают ли когда-нибудь?
А ведь подсчитать нетрудно. У нас в Верколе убито 128 человек, а жителей перед войной было человек 700. Значит – 1/4.
И такую же цифру называют выходцы из других деревень.
40 млн убитых на войне. Вот самый великий памятник социализму.
3. III.1982
Федор Абрамов – инвалид Отечественной войны! Да, сегодня с утра прошел ВТЭК и без всяких-всяких – справку в зубы. «Бессрочно» и «переобследованию не подлежит»…
Меня, между прочим, спросили:
– Почему вы раньше инвалидность не оформляли?
– По моральным соображениям. Нехорошо называться инвалидом (одним и тем же именем), когда у тебя обе ноги, а у других – протезы.
22. VI.1982
Какой сегодня день, какие события произошли в этот день 41 год тому назад! А как я отметил его? В суете, в беготне – квартира, ателье, издательство, магазин, больница, СП…
О, позор! О, срам…
Вот наша память о наших погибших сверстниках.
Но две вещи заслуживают быть отмеченными в этот день:
1) появился сигнал 3-го тома сочинений.
2) «Наш современник» принял очерк о Яшине (очень понравился Викулову).
4. IX.1982
Только что написал завещание. А что делать? Жизнь есть жизнь, и надо быть ко всему готовым.
Многочисленные исследования в институте пульманологии (в течение целых 5 дней) не дали окончательного ответа. Рак исключается лишь на 90 %, а на 10 %… Короче, все врачи в один голос: надо ложиться под нож.
И вот во вторник уже операция.
Я спокоен, можно сказать, совершенно спокоен. Чему быть – тому быть. До сих пор меня выручала Судьба, может быть, не отвернется от меня и сейчас. Ну, а если отвернется… Пожил. И не мало пожил: ведь мои товарищи погибли еще в 41 году.
Господи, сорок лет нет Сокольского, Рогинского, Феди Яковлева, а никто так не помогает мне жить, как они. И как знать, может быть, память о погибших – главная духовная опора людей всех поколений во все времена.
9. V.1983
День Победы. А я в больнице.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ФЕДОРЕ АБРАМОВЕ
Страница незабываемой молодости
Т. Голованова
Мы были поначалу с Федей Абрамовым всего лишь «однокашники»: в 1938 году вместе поступали на филологический факультет Ленинградского университета, на русское отделение. Но учились в разных группах, групп было много – восемь, и, конечно, не все сразу узнали друг друга. Встречались мы только на общекурсовых лекциях в большом зале – слушали, например, всем потоком курс А. С. Орлова по древнерусской литературе, П. Н. Беркова и Г. А. Гуковского – литературе XVIII века, русский фольклор – М. К. Азадовского, введение в языкознание – А. П. Рифтина и другие.
Незабываемые это все были впечатления. И лица слушавших запоминались лучше всего именно тогда, на лекциях: кто где сидел, как слушал. Вот так я запомнила впервые лицо Феди Абрамова и всю его некрупную, собранную фигуру. Он сидел почти всегда на одних и тех же местах, где-то за первым столом аудитории, и внимание, с каким он слушал лектора, отмечалось особой напряженностью.
Поражались более или менее все, да и было чему: мы были слушателями и учениками блестящей плеяды университетских профессоров, которые, что и говорить, умели ввести в свой храм так, что только сердца бились и рты раскрывались. Но на этом общем фоне потрясенной аудитории Федя меня интересовал тем, что он не просто слушал – он работал. Как видно, он умел и любил работать уже тогда. Лицо его редко теряло выражение мрачноватой сосредоточенности. Темные умные глаза горели внутренним огнем, вспыхивая живым блеском интереса, но чувствовалось, что он был один в этом открываемом им мире, отчужден от всех и погружен в себя…
Теперь это легко понять. Никто из нас даже представить себе не мог, из какого сурового края земли приезжал этот паренек учиться и что он успел пережить по сравнению с нами. Но тогда это было мало кому известно, и непонятная отчужденность немного отпугивала еще очень юных однокурсников. Учился Федя прекрасно – я бы назвала это словом «ответственно», ну, или «особо серьезно»: успевал много читать и как-то по-своему обдумывать прочитанное. Конечно, он вошел сразу и в общественную жизнь университета, и здесь он был, при всей своей скромности, как-то неуловимо весомее, авторитетнее нас. Все же он нас очень интересовал, и мы не раз делали попытку сойтись с ним поближе.
* * *
Наша группа, так называемая пятая русская (Федя учился в восьмой), была относительно однородная и дружная. В ней преобладали ленинградцы. Ребята подобрались на редкость интересные. Творческое начало в области литературных поэтических и театральных увлечений определилось у многих очень рано. Это проявлялось со всей очевидностью на обычных практических занятиях по разным предметам. Например, на уроках латинского языка (вела их с большим вдохновением молодая преподавательница А. Служалова). Простые словарные упражнения превращались нередко в образные «действа»: разыгрывались вереницы трудных слов, из которых составлялись диалоги, речи, сценки. Словарный запас играючи обогащался – то на «аукционах» синонимов, рифм, имен, то в словесных дуэлях и судах.
Любовь к живому слову, к словотворческим истокам языка, к образному мышлению всемерно поощрялась всеми преподавателями и прежде всего А. П. Рифтиным. Каждая его лекция по «скучному», казалось бы, курсу («Введение в языкознание») неизменно кончалась аплодисментами. (Рифтин протестовал: «Я же не балерина», но эмоции били через край.)
Нетрудно себе представить, как блестящи были и как развивали именно образованное мышление, а также литературный вкус практические занятия по теории литературы, которые вел с первого курса Г. А. Гуковский. Вот где получала активный творческий импульс молодая аудитория будущих филологов: занятия строились как свободный обмен мнениями, выявлявшими художественный «резерв» каждого из нас: мы читали (а предпочтительнее – произносили) «Слово о любимом писателе». И тут же в активном обсуждении этого «слова» приоткрывались тайны «художественной магии» писателя. Сколько писателей – столько магий. Сюжет, литературные виды и жанры, мир героев, любая другая тема – все шло, конечно, по плану, но в памяти это сохранялось как вспышки каких-то неожиданных откровений, импровизаций. Помню почему-то один из предложенных сюжетов: человек, выбросившийся из окна, за несколько секунд падения «прокрутил» в сознании всю свою жизнь – и захватывающую, но трагическую импровизацию на эту тему студента Лени Сокольского (он погиб в первые месяцы войны на Ленинградском фронте). А вот другой рассказ (поразивший уже потом, при воспоминании, своей провидческой правдой): студент Сеня Рогинский штрих за штрихом набрасывает на мысленном экране изображение руки. Тема занятия – метафора. Рука сначала появляется гдето в углу, внизу – нормальная, даже утонченная рука, возможно, художника или аристократа, потом она на глазах чернеет, движется по экрану вверх, растет, все собой занимая, скрючивается в хватательном движении – берегись, все живое! Теперь это ассоциируется с каким-то из антифашистских плакатов Пророкова, появившихся во время войны, но и тогда это было воистину пророческое видение, образ набиравшего силу фашизма. Его жертвой стал вскоре и сам Сеня – но об этом позже. Вот так, с первого курса, на занятиях развивались фантазия, ассоциативное мышление и четкость умозаключений, направляемые опытными преподавателями Ленинградского университета 30-х годов.
Я говорю все это для того, чтобы легче было представить себе атмосферу, которой дышали студенты с первых своих дней в университете, – атмосферу, в которой формировались будущие деятели культуры «нашего слоя». Нам есть кем гордиться, и можно назвать много замечательных имен, но сегодня мы вспоминаем в первую очередь Ф. Абрамова, ставшего выдающимся русским писателем.
Пятая группа была заметная, как я уже упоминала, такими талантливыми фигурами, как С. Рогинский; ко всему – он был чтец, обладавший прекрасным, глубоким басом и весьма индивидуальной манерой чтения. На наших университетских вечерах он читал лирику Пушкина, поэму «Медный всадник», рассказ Джека Лондона «Мексиканец», собирая полный зал слушателей. Читал он и на радио. Сохранилось несколько почти самодельных пластинок с записью его голоса, сделанной в студии Сладкопевцева, где занимались одаренные любители звучащего слова.
Был у нас в группе и второй чтец, ныне широко известный артист Яков Смоленский, заслуженный деятель искусств, профессор, заведующий кафедрой художественного слова в Московском театральном институте. (Он тоже был тяжело ранен на Ленинградском фронте, кстати, одним снарядом с Л. Сокольским: наши ребята и там шли плечо к плечу.)
Интерес к поэтическому и сценическому слову захватил и девушек. Машенька Минина (ныне М. А. Черняк) вечерами занималась в драматическом кружке, которым руководил П. Ф. Монахов, брат известного артиста, и сам артист. Она успешно участвовала в городских конкурсах чтецов и действительно была очень обаятельна в образе мятущейся Татьяны, пишущей письмо Онегину, а позднее – в образе Ларисы в «Бесприданнице». После войны она преподавала литературу в вузах Киева, и ее артистизм как нельзя более пригодился на этом поприще.
И еще одна яркая литературная судьба истоками связана все с той же пятой группой. Речь идет о подруге М. Мининой – Люсе Крутиковой. Их постоянно видели вместе – в коридорах филфака, на лекциях, в театре. Да они и были чем-то похожи друг на друга: обе очень миловидны, серьезны, отлично учились. Л. Крутикова стала после войны женой Федора Абрамова и его верной, беззаветной помощницей в литературных делах до конца дней. Но и сама Людмила Владимировна имеет известное литературное имя: защитив диссертацию, она много лет преподавала в стенах родного филфака, специализируясь на творчестве И. А. Бунина. Много сделано ею было для нового «открытия» этого замечательного русского писателя – каждая статья пробивалась с боем, каждая содержала смелую мысль, свежий взгляд. Вот где отозвались лучшие традиции наших учителей!
Нас – весь курс – окружала в конце 30-х годов незаурядная молодежь, и не всегда только университетская. Часто мы собирались у меня дома – я жила тогда с родителями на улице Восстания, в большой квартире большого дома. Мать и отец были людьми занятыми, уходили рано, приходили поздно (отец – один из ведущих инженеров Гидропроекта, разрабатывавших тогда систему «Большой Волги» под руководством С. Я. Жука, имя которого носит сейчас этот институт; мать работала во Дворце пионеров, в отделе художественного воспитания детей), – словом, мы были вполне предоставлены самим себе и не теряли времени даром, устраивая то «литературные утра», то «литературные вечера». Кто только у нас не бывал! Прежде всего хочется назвать Бориса Смоленского – поэта, учившегося в Институте водного транспорта, и не случайно: романтика дальних плаваний в стихах, весь его «капитанский» облик: форменная тужурка, трубка в зубах, даже походка слегка вразвалку – все это говорило, что готовил он себя для морских горизонтов. Человек высокоодаренный и образованный, он был чуть моложе меня и других моих сверстников, но на голову выше нас по широте и «взрослости» интересов (сохраняя при этом и некоторую долю детской наивности). Мой младший брат Кирилл смотрел ему в рот и в основном под его влиянием ушел после седьмого класса в военно-морскую спецшколу, затем в высшее училище и после войны стал писателем-маринистом.
Только теперь, перечитывая певучие стихи, поэмы и письма Бориса Смоленского, понимаешь, как верно он отразил суть и пафос «возрожденческих» 30-х годов, несмотря на то что был не только героем, но и жертвой своего времени (его отец, известный журналист М. Смоленский, был репрессирован, и сыну нелегко было попасть в институт, устроиться на работу и даже уйти на фронт, когда началась война). Как и все мы, Борис ощущал неотвратимость и жестокость грядущей войны с нацизмом. Его поэма «Кабан» (метафора охоты на дикого кабана) уже тогда, в 1939 году, переворачивала души. Сочетание острого, трагического восприятия «гулов истории» с чистым чувством веры в торжество светлых начал жизни – вот что привлекало и покоряло больше всего в его поэзии. Он был влюблен в девушку из нашей группы Любу Трофимову, посвящал ей многие свои стихи. А когда Люба уехала в Москву, поступила на Высшие курсы переводчиков при ЦК ВКП(б) (ныне Л. М. Видясова, после нескольких лет дипломатической службы, заведует отделом журнала «Международная жизнь»), Борис стал часто бывать в Москве, где дружил с П. Антокольским, Б. Грибановым, П. Коганом и многими другими представителями литературной Москвы. Естественно, что, возвращаясь в Ленинград, он одарял нас свежей информацией, новыми впечатлениями и новыми стихами или песнями (это он привез в Ленинград популярную ныне песню «Бригантина», написанную П. Коганом).
Сейчас понемногу стали издаваться стихи Б. Смоленского. Погиб Борис в ноябре 1941 года на Карельском перешейке, защищая подступы к Ленинграду.
Еще одной оригинальной фигурой, посещавшей наши вечера, был кореец Петя Ли. Что и когда привело в Ленинград его многолюдную семью, я уже не помню, знаю только, что жили они в большой тесноте и материальной стесненности. Петя был основным кормильцем – рисовал, подрабатывал в газетах, организовал очень талантливый театр теней. И тоже выступал как чтец: он был лауреатом юбилейного конкурса 1937 года на лучшее исполнение стихов Пушкина. Петя тоже ушел на фронт в начале войны и погиб на барже, подвергшейся бомбардировке на Ладожском озере, вместе с сестрой-радисткой.
Был (правда, редким) посетителем наших собраний чудаковатый поэт Александр Ривин, где-то на производстве потерявший кисть руки. Он вел полубродячий и полуголодный образ жизни, всегда неожиданно являлся в дом и, прежде всего попросив «тимак» и «булки», садился на пол и начинал читать стихи. Стихи были порой сильные, но много в них было выверта и юродства.
Вспоминаются, например, такие строки:
Сердце плавает в тарелке с кровью —
Теплый суп, попробуй пей.
Я люблю тебя такой любовью,
Которая теплее всех супей…
* * *
Вот в такую обстановку попадал, таких людей встречал у меня Федя Абрамов, несколько раз приходивший по нашему приглашению. Помню, все вместе встречали мы новый, 1940 год. Надо отметить, что чувствовал он себя в этой компании не очень уютно. Его ранний жизненный опыт и внутренний мир, сформировавшийся в условиях прекрасной, хоть и многострадальной северной деревни, всем существом своим противостоял укладу и быту – в том числе литературному быту – городской, отчасти богемной среды, благополучию и веселой жизни молодежи, о которой я рассказала.
Между тем литературные интересы, уже тогда определившиеся у Феди, влекли его к талантливым сверстникам, любопытство и любознательность – к миру их увлечений. Как сейчас помню его чаще всего молчаливое присутствие на наших чтениях, иногда – меткие, с ехидцей, реплики, возвращавшие на грешную землю не в меру воспаривших романтиков. Его слушали. С ним всегда считались. Он уже тогда воспринимался значительной, самобытной личностью, хоть и не знали мы ничего о его творческих устремлениях. Его любили, но близко к себе он не подпускал.
Много позже, уже при встречах после войны, Федя, как говорится, писатель божьей милостью, не без горечи вспоминал:
«Я ведь и тогда был такой… Вы меня не видели, вы были – элита».
* * *
Свела нас ближе война, ее первые же грозовые месяцы. Мы – тогда уже студенты третьего курса – кто как мог включались в общий, напряженный ритм жизни ленинградцев, готовившихся к обороне своего города от стремительно наступавших сил противника. Все наши мальчики сразу же ушли в добровольческие отряды – большинство в 277-й отдельный студенческий батальон, сформированный университетом. Расположился он поначалу под Красным Селом. Мы, как это ни странно, принимали участие в его экипировке – шили какие-то мешки, рукавицы и даже стеганую и матерчатую обувь, поскольку приближалась осень, а у ребят неважно обстояло дело с обмундированием (да, кстати, и с вооружением: многие были снабжены одними ручными гранатами).
Потом и мы уехали – под Пудость, рыть противотанковые рвыэскарпы. Уходили оттуда уже в августе, вместе с отступавшими войсками. Кругом горели деревни, над Елизаветином шли яростные воздушные бои… Больше всего запомнились дети: небольшими, рассеянными группками они шли по дорогам, возвращаясь из-под Луги, куда кто-то зачем-то эвакуировал детские сады.
Едва вернувшись в город, мы ринулись в сторону Красного Села, чтобы навестить наших ребят, пока еще это было возможно. Ехали долго, на попутных машинах, с Арочкой М., женой Юры Левина. С большим трудом нашли их расположение, и первый, кто нас встретил – радостно, сердечно, – был Федя Абрамов, неузнаваемый, осунувшийся, какой-то трогательно юный (совсем такой же он на фотографии 1942 г., воспроизведенной в недавно вышедшей книге его публицистики «Чем живем-кормимся», Л., 1986). Федя и привел к нам Юру и Сеню Рогинского. Вскоре собрались и другие товарищи – ведь это был привет из родного дома, из недавней – и такой уже далекой – мирной жизни. Мм уселись на Федину, гостеприимно наброшенную на землю шинель, перекусили кое-какой домашней снедью, привезенной из оскудевшего уже на еду города. Встреча оказалась действительно последней возможностью увидеться перед роковыми событиями сентября. А с некоторыми и совсем больше не увиделись.
Батальон ушел дальше, за Старый Петергоф, в сторону Ропши, охранять минные поля. Помню, я получила оттуда открытку, очень меня потрясшую: в ней говорилось о первом бомбовом ударе по Ленинграду, по Бадаевским складам (8 сентября). Только что узнав об этом, ребята писали, как рождалась в них потребность возмездия… Еще вчера не представлявшие, как можно поднять руку на человека, сегодня они почувствовали, что смогут убивать, безжалостно стрелять в лицо врага, прущего на их дом. Какую сложную психологическую перестройку отразили эти простые слова, теперь кажущиеся привычными и естественными.
В двадцатых числах сентября батальон вступил в кровопролитные бои. 24 сентября днем был убит Семен Рогинский, многих бойцов спасший, переводя их по заминированной местности. К вечеру этого дня были ранены Ф. Абрамов, М. Каган, Ю. Левин и многие другие. Сообщили об этом раненые, попавшие в ленинградский госпиталь.
С сентября я работала в эвакогоспитале № 1014, размещенном в зданиях Педагогического института им. Герцена, на Мойке. Госпиталь был тесно связан с городским распределителем – через него я и узнала, какая беда стряслась под Старым Петергофом…
А теперь начну с конца: на одном из собраний в Доме литераторов имени Маяковского Федя Абрамов передал мне записку:
Тата!
У меня к тебе предложение – встретиться 10-го.
Лучше у тебя, потому что у тебя больше Рогинского и других наших ребят, а они в эти дни должны быть с нами. Обязательно с нами!
Привет Лене, низкий привет Мусику2.
Твой Ф.
23/IV–1975 г.
Незачем говорить, как обрадовало меня такое предложение – отметить в домашней обстановке 30-летие со дня Победы (а заодно и мой день рождения – 10 мая, о котором Федя, оказывается, помнил еще с тех, юношеских времен). Дома у меня действительно сохранились кое-какие письма от общих товарищей, а главное – пластинки с записью голоса Семена Рогинского.
Сказать, что встреча прошла хорошо, нельзя: это значит ничего не сказать. Такие встречи зарубкой остаются в памяти и сердце. Всех вспомнили, помолодели как-то и сами. Федя был в одном из самых своих щедрых на душевное тепло настроений. Тут я впервые услышала от него историю белой лошади. Это – один из эпизодов в страшные дни сентябрьского отступления разбитого студенческого батальона с ропшинских минных полей. Под навесным артиллерийским огнем падали и падали мальчики. Рвались снаряды, рвались мины, взрыта была и усеяна трупами вся земля. И вдруг в какую-то паузу – непонятное, почти неосознанное просветление: мы увидели, что на одной чудом уцелевшей опушке, посреди всего этого ада, появилась белая лошадь. Она была так неправдоподобно красива, так неправдоподобна вообще в той трагической обстановке, что первое побуждение было – броситься ей на помощь, куда-то ее увести, спасти, сохранить это прекрасное живое существо. Сенька сделал первое движение ей навстречу – его едва удержали. «Да, была, была в нашей жизни белая лошадь, – добавил Федя задумчиво. – Я обязательно напишу рассказ, который так и назову – “Белая лошадь”».
Он не успел осуществить свое намерение, тема была для него не простой, в ней завязывались узелком несколько неразрешенных, недодуманных вопросов. Почему городской мальчик Сеня, которому легко все давалось, который почти не знал тяжелого физического труда и не хватил через край соленого лиха, – почему он, он смог оказаться в нужную минуту храбрым, сильным и умудрился сохранить в кромешном аду войны лучшие движения души? Для Феди это были далеко не риторические вопросы: он много думал и писал в эти годы о нравственных вопросах – о бесстрашии вообще и о бесстрашии в искании истины, о живой природе вообще – и о том, что делать, как жить, чтобы красота не пропала…
Рассказ остался недописанным, но над столом у меня висит картинка, на которой изображена одинокая белая лошадь, пасущаяся на каменистом лугу. Ее прислал мне издалека – и совсем по другому поводу – друг, тоже писатель, много увидевший за любимым образом. Я часто смотрю на этот немеркнущий символ вечной красоты и думаю о своих друзьях…
* * *
Наши послевоенные встречи с Федей Абрамовым не были частыми. Он кончал университет, потом работал там же: заведовал кафедрой советской литературы. И начал писать обо всем, что терзало его со времен довоенной и военной молодости. С каждым годом мужала гражданственность его писательской позиции, ширился кругозор. Он был очень занят: много и часто ездил на родной Север, по всей стране, за рубеж. И писал, писал… Первый роман «Братья и сестры» перерастал в дилогию, трилогию, тетралогию, охватывая современность, самые ее насущные проблемы. Я работала в Пушкинском Доме и тоже была много занята. Но все же время от времени я к ним забегала – и к Феде, и к Люсе – сначала на Университетскую набережную, потом на 3-ю линию Васильевского острова – переброситься хоть несколькими словами, поделиться наболевшим, посоветоваться о литературных делах. Так, моей работе над комментарием стихов Ольги Берггольц предшествовало несколько бесед с Федей – он ее хорошо знал и как поэта, и как человека.
О наших дружеских отношениях, оставшихся очень сердечными со времен юности, напоминает одна сохранившаяся Федина записка:
Тамара милая!
Что же не заехала, не позвонила? А мы так ждали тебя… Бога ради, не торопись с уходом. Не наделай глупостей – ведь теперь так трудно найти филологическую работу. Все взвесь, все обдумай и не рассчитывай на чудеса.
А может быть, ты все-таки заглянешь к нам или позвонишь?
Привет маме и Лене.
Твой Ф. Абрамов.
28/ХI–69 г.
Я, конечно, послушалась Фединого совета и благополучно проработала в Пушкинском Доме более тридцати лет. Но дело не в одном этом случае проявления его товарищеской заботливости.
Федю знают и помнят всяким. Он и был всяким. Я видела его очень суровым, с горящими гневом глазами, когда он сражался, именно сражался с бюрократами, много принесшими горя его жене Люсе, расплачивавшейся всего лишь за то, что война застала ее на занятой немцами территории Украины, с маленьким ребенком на руках (которого так и не удалось сохранить). Проблемой было все – и возвращение в Ленинград, и устройство на работу, и налаживание нормального быта…
Помню стоическое поведение Абрамова, когда много лет его не печатали после острокритического очерка «Вокруг да около».
Правоту автора полностью подтвердила сама жизнь.
Помню многие публичные выступления Абрамова в Союзе писателей – всегда бескомпромиссные, принципиальные, грубовато-прямые. Сама манера таких его задиристых выступлений – слова, голос, интонации – до сих пор на слуху. О чем бы он ни говорил – о приспособленцах, «лакировщиках», или о людях равнодушных, или о прожектерах, мечтающих повернуть реки вспять, – начинал он свою речь подчеркнуто спокойно, размеренно, вполне «литературно», но постепенно распалялся, голос набирал силу, фраза раскалывалась на междометия, – и смелая, острая мысль, выраженная уже в самой что ни на есть разговорной форме, на высоких тонах, с бурными жестами, убеждала правдой чувств, искренностью, человечностью.
С некоторыми людьми, которых Федя не любил, он бывал резок, легко вспыхивал, обрывал собеседника – или замыкался, становился неразговорчив, сумрачен…
Но чаще всего он мне вспоминается совсем другим – мягким, теплым, лиричным, каким, возможно, не все его и знают: ведь он был, ко всему прочему, еще и застенчив, раскрывался далеко не всегда. Умела как-то приводить его в такое состояние моя мать Ираида Еферьевна (или Мусик, Мусенька, как называли ее иногда близкие, в том числе Федя). Была она родом из уральских кержаков, много повидала на своем веку и любила об этом рассказывать колоритным, сочным языком: и как она, еще почти девочка, чуть не всю Сибирь объехала верхом, сопровождая молодого мужагидролога в его изыскательских экспедициях; и как натолкнулись однажды в глухом углу, обойденном самой историей, на… заседание боярской Думы; и как удирали от банд, от медведей; как встретились однажды в теплушке с самим Шульгиным. Да мало ли интересного видела она на своем большом жизненном пути! Федя любил слушать эти рассказы и не раз забегал к нам, когда мы жили в крохотной квартире на улице Рашетова. Мама сооружала обычно свое «фирменное» блюдо – настоящие уральские пельмени. Сидим за столом, беседуем, а то слушаем старинную музыку в исполнении капеллы Юрлова (очень мы тогда увлекались этой пластинкой) или Бортнянского в хороших записях. Вот тогда Федя и был таким, каким я его люблю вспоминать: с посветлевшим лицом, притихший. Выйдет на балкон и молчит, любуется розовеющими соснами Сосновки на закатном солнце…