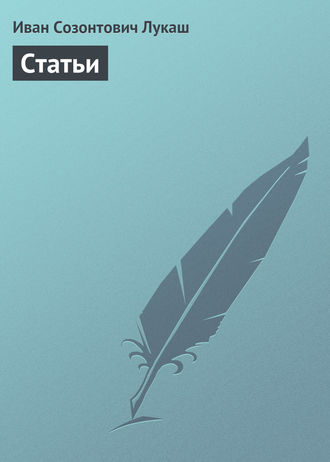
Иван Созонтович Лукаш
Статьи
И о Петрове дне дьяк Кузмищев сжег на срубе инокиню Иустину, Марью Данилову бросили в темницу, к злодеям, а сестер, Федосью и Евдокию, отвели в цепях в другую земляную тюрьму, выкопавши ее глубже первой.
От них отобрали брашно, снедь самую скудную, одежды, малые книжицы, иконы, писанные на малых досках, лестовушки. Отняли все.
Заключение стало лютым. Сестры «сидели во тьме несветной, страдали от задухи земные, от земного пару», мучила тошнота.
Вот когда одни только страшные глаза страдания остались им; рано поседевшие, с горящими глазами, они извяли в темнице…
Тысячи тысяч их русских сестер в теперешних соловецких и архангельских застенках точно бы повторяют страдание Морозовой и Урусовой за Русь.
Они, острожницы боровские, – водительиицы всех русских, живых, кто по одному голосу своей христианской крови и совести человеческой не принял терзающей антихристовой и бессовестной советчины.
* * *
Сорочек сестрам ни менять, ни мыть не позволяли. В худой одежде, в серых лохмотьях, какие они не скидали от холода, развелось множество вшей. Ни днем покою, ни ночью сна. Окаянную вшу застенков узнали теперь все мы, русские…
Лествицы и четки от сестер отобрали. Они навязали по пятидесяти узелков из тряпиц и по тем узлам, попеременно, свершали изустные молитвы. Во тьму им подавали только сухари ржаные и воду.
Иногда, от жалости, сторожевой стрелец, тайно от другого, даст еще огурчика или яблока.
* * *
Княгиня Урусова, такая еще молодая, первая ослабела от тьмы и великого голода, не могла цепи поднять, ни цепного стула сдвинуть, прикованная.
Она молилась, распростершись на земле, иногда сидя, подкорчившись у груды цепей.
Ночью – по голосам стрелецкой стражи «Слушай» можно было понять, что стоит глубокая ночь, – Евдокия подозвала сестру.
Та подползла к ней, тихо гремя цепью.
– Отпой мне отходную, – сказала Евдокия. – Что ты знаешь, то и говори, а что я припомню, то сама проговорю.
И сестры, во тьме, стали петь отходную, одна над другой. Мученица отпевала мученицу.
Они как будто пели отходную всей Московии.
Евдокия скончалась. Сестра поискала рукой в темноте, коснулась легко ее истончавшего лица и закрыла ей веки.
* * *
Княгиню Евдокию Урусову завернули в худые лохмотья, в рогожу, и, не сбивши цепей, вынесли из застенка.
Монастырский старец приходил увещевать боярыню Федосью Морозову, к ней перевели обратно из злодейского острога инокиню Марью.
– Отложите всю надежду отлучить меня от Христа, – сказала Федосья Прокопьевна старцу. – И не говорите мне об этом… Уже четыре года я ношу эти железа, и радуюсь, и не перестаю лобызать эту цепь, поминая Павловы узы… Я готова умереть о имени Господни.
Отлучить от Христа… страшно о том подумать, и нет таких слов, чтобы о том сказать, но как будто провидела Морозова, что Русь в чем-то, в самом последнем и тайном, двинулась к отлучению.
Вот, будет Русь блистать, и лететь, и греметь в победах Петровых, будут везде парить ее орлы и гореть ее молнии, а все, а всегда в русских душах будет проходить тайная дрожь, не то страх, что все равно, как ни великолепна Россия, в чем-то она не жива, не дышит она. В чем-то отлучена. И в нестерпимой тоске Пушкина, и в сумасшествии Гоголя, в смуте Толстого и Достоевского, в самосожжении Мусоргского, в кликушествах Лескова: – «Россия-Рассея, только во Христа крестилась, а во Христа не облеклась», – тоже страшное чуяние какого-то отлучения и предчувствие за то великих испытаний и наказаний. Изнемогающая в цепях и непобедимая боярыня Морозова – живое знамение для всех русских, живых; как забыть, что ее мощная христианская кровь мощно дышит и во всех нас: она нам знамение Руси о имени Господне.
* * *
Морозова изнемогала.
Однажды на рассвете она поднялась и, волоча цепь, подошла к темничным дверям. Бледное лицо, с горячими глазами, в космах седых волос, выглянуло сквозь узкое оконце. Боярыня подозвала сторожевого стрельца:
– Есть у тебя отец, мать, живы они или умерли, если живы – помолимся о них, если умерли – помянем их…
Оба перекрестились.
– Умилосердись, раб Христов, – тихо сказала боярыня. – Очень изнемогла я от голода и хочу есть, помилуй мя, дай мне калачика.
– Боюсь, госпожа.
– Ну, хлебца.
– Не смею.
– Ну, мало сухариков.
– Не смею.
– Ну, принеси мне яблочко или огурчиков.
– Не смею.
Пожилой черноволосый стрелец утирал рукавом кафтана лицо: бежали непрошеные слезы.
– Добро, чадо, – сказала ласково и грустно боярыня. – Благословен Бог наш, изволивый тако… Если не можно тебе это, то прошу тебя, сотвори последнюю любовь: убогое тело мое покройте рогожкой и положите меня подле сестры, неразлучно… Вот хочет Господь взять меня от этой жизни, не подобает, чтобы тело в нечистой одежде легло в недрах своея матери-земли… Вымой мне грязную сорочку.
Стрелец огляделся, скрыл малое платно боярыни под красным кафтаном. Он отнес на реку ее малое платие, омыл там водой, а сам плакал.
* * *
Боярыня Морозова скончалась в темнице, в цепях, в студеную ноябрьскую ночь.
В ночь кончины подруженьке ее, инокине Меланье, было видение.
Стоит Федосья Прокопьевна, зело чудна, юная, сияют ее светлые волосы и синие ее очи. Стоит она, облеченная в схиму и куколь, страдалица за Святую Русь, светла, радостна, и в веселости водит руками, как малое дитя, по одеждам, дивясь небесной красе риз своих.
* * *
Все умолкло, исчезло, и подземную темницу засыпали в Боровске.
Только тихий морозовский гром стал ходить по Русской земле. Ходит и теперь в русских душах…
* * *
Младший брат боярыни окольничий Алексей Соковнин, последняя молодая Московия, дождалась воочию того, что только провидела его сестра: пришел Петр и последнее потоптание Московии.
Алексей Соковнин – вспомним снова, что в Соковниных текла твердая немецкая кровь, а с ним Циклер, – не странно ли, что тоже из немцев московских, – подымали на царя Петра заговор.
В 1697 году оба они были казнены на Красной площади.
* * *
В Боровске, на городище, у острога, вероятно, теперь и не осталось белого камня, с иссеченными на нем московскими буквами:
– Погребены на сем месте… боярина князя Петра Семеновича Урусова жена его, княгиня Евдокия Прокопьевна, да… боярина Морозова жена, Федосья Прокопьевна, а в иноках схимница Феодора, дщери окольничего Прокопья Федоровича Соковнина…
Ни церковной свечи никогда не горело над ними, ни лампады. Только звезды небес. Тихая ночь…
7 ноября 1936 г.
Петр-хирург
Лик его ужасен…
Когда обычный человек осмелится поднять на него глаза, неминуемо отступает он, пораженный Божьей грозой его лика.
Непостижимые молнии бороздят лик Петров, и немеет, замирает человек в столкновении, в сверкании грозы, уже не зная, где божественные, где демонические черты.
Ужас лика Петра – ужас грозы, когда порывы света мешаются с порывами тьмы, сражение света и тьмы…
Недавно я перечел очерк Шубинского, темно испугавший меня еще в детстве.
В 1698 году в Амстердаме, в анатомическом кабинете Фридриха Рюйши, царь Петр пришел в восторг.
Именно тогда обнаружилась впервые его страсть. «Восторг», «страсть», – только я повторяю слова Шубинского.
В амстердамском кабинете старика Рюйши были зловещие чуланы, набитые неживыми дивами. Без смешанного чувства страха и отвращения нельзя читать описание их в дневнике одного из спутников царя:
«Кости, жилы, мозг человеческий. Тела младенческие и жила та, на которой печень живет. Горло, и кишки, и жила та, на которой легкое живет, подобно как тряпица старая. Пятьдесят телес младенческих в спиртусах, от многих лет нетленны. Кожа человеческая, выделана толще барабанной, которая на мозгу человека живет, вся в жилах. Животные мелкие в спиртусах, мартышки, звери индейские и змеи. Крокодилы, се змеи с ногами, голова долга и змеи о двух головах…»
Среднего человека в таких анатомических кунсткамерах и еще в музеях восковых фигур среди нежити, бледных уродцев, с поджатыми ручками и ощеренными глазами, среди раскрытых внутренностей, вылинявших змей, обычно охватывает чувство отвращения, тошноты.
Но в 1698 году в Амстердаме царь Петр, юноша, от зрелища всей этой нежити пришел в такой восторг – никто, никогда, ни один, кажется, человек еще не делал подобного, – что стремительно поднял с красной бархатной подушки, в потускневших золотых позументах, труп девочки в роброне и золоченых туфельках, восковой костячок, набальзамированный зловещим Рюйшей, с застывшей гримаской, будто бы улыбкой, и с восторгом поцеловал маленькую покойницу в губы.
Восхищение гения перед совершенным искусством ученого, восторг? Так, конечно. Но и еще что-то необъяснимо страшное.
В Амстердаме царь часто бывал у Рюйши. Целые часы проводил в его темных чуланах. Больше того, среди скелетов, змей, костей и жил, подобных тряпице, царь Петр любил у Рюйши обедать.
С Рюйшей он бывал и в амстердамском госпитале Святого Петра. Московский царь с горящими глазами следил за каждым движением блистающих хирургических инструментов в анатомическом зале, где лежал на столе бледный мертвец под простыней.
В толпе, на ярмарке, царь такими глазами следил за ярмарочным шарлатаном – зубодером, как он, болтая, без умолку, точно попугай, выдергивает зубы грузным голландцам.
У ярмарочного шарлатана царь выучился дергать зубы.
Позже всю жизнь в кармане своего зеленого шкиперского кафтана, с подкладкой, потертой и потемневшей от многих лет, царь носил истрепанный кожаный футляр с инструментами. Ои, любил рвать зубы кому надо и кому не надо. В кунсткамере Петербургской академии наук долго хранился пожухлый кожаный мешочек, полный чьих-то зубов, выдернутых государем Петром.
Кажется, хирургия была призванием царя Петра. Может быть, не будь он царем, он стал бы хирургом. Он так огромен, что эта его страсть, влечение, восторг как будто забыты. А между тем разум его преобразований, его рассекающий гений как бы разум и гений хирурга. Но здесь же разум Петра сходится с его душевной тьмою.
Известно, какое невыносимое отвращение вызывали у него пауки и тараканы. Ночью он кричал от ужаса, завидя паука в спальне. Он выбегал к денщику с трясущейся головой, в припадке. Одно шуршание, тараканий шелест приводили его в темный ужас.
Но нестерпимый, больной страх перед живой тьмой как-то сочетался у него с этими обедами среди нежити в кунсткамере Рюйши. И одной жаждой просвещения европейского, кажется, не объяснить его страсть к анатомическому театру и к скорченным уродцам.
Царь Петр всегда находил время побывать в госпитале. Царь любил смотреть на страшную работу хирургов и как в прозекторской режут трупы.
Петербургские медики были обязаны извещать государя о каждой трудной хирургической операции. Царь приезжал в госпиталь в тележке, кутаясь в черный плащ. С царем обычно был старик-медик Термонт.
Волосы царь повязывал, вероятно, ремешком, как и другие хирурги в его времена. В горнице было душно. Над дубовым столом смутно горели, оплывали сальные свечи, а в окне таинственно мерцали морозные чащи, петербургская ночь. Жесткие черные волосы царя, влажные от пота, прилипали, вероятно, к его смуглой щеке.
Чуть выкаченные в темном блеске глаза и стриженые усы над тонким ртом, запавшим и шевелящимся, – страшен, непонятен такой Петр со страшным его любопытством.
От медика Термонта царь получил навык – большой навык методически рассекать трупы, пускать кровь, вскрывать нарывы, делать хирургические прорезы и перевязывать.
То, что он навык методически рассекать трупы, прекрасно в сиянии его гения, но нестерпимо страшно, даже отталкивающе в темном свете его души, как и то, что он мог в восторге целовать труп. Есть двойственность в Петре-хирурге: не только могущественная жажда все познать, исследовать, а чудится и нечто больное – тьма.
Он и сам не страшился работать скальпелем. Купцу Тасену в Петербурге он вскрыл опухоль. Голландке Борете, страдавшей водянкой, он выпустил воду – насильно, – как ни отбивалась больная. Борете умерла.
В 1717 году, во второе заграничное путешествие, царь Петр упросил в Париже известного глазного врача Воольпойза показать ему свое искусство медика. В отеле Дегндьер медик Воольпойз при царе Петре выдавил одному ветерану бельма.
Конечно, все деяния его, чтоб поднять медицинскую науку в России: с 1706 по 1715 год военные госпитали, сухопутные и морские, в Петербурге, Москве, Киеве, Ревеле, Екатеринбурге и хирургические училища, и анатомические театры, и аптеки, даже в Глухове.
Но за все эти годы царь не забывал и амстердамских чуланцев Рюйши, набитых дивами. Сколько раз упрашивал он старика открыть тайну, как бальзамировать трупы.
Наконец, в 1717 году уговорил Рюйша продать свой кабинет за пятнадцать тысяч гульденов. У амстердамского аптекаря Себа были еще куплены чучела птиц, змей и насекомых.
В Московию на возах, в каретах и в корабельных трюмах потащились тогда пятьдесят младенческих телес в спиртусах и се змеи с ногами, и змеи о двух головах, и жилы, какие в мозгу человека живут, мартышки, звери индийские.
И та мертвая девочка в тусклой роброне и золоченых туфельках, так восхитившая Петра двадцать лет перед тем.
Старик Рюйша, передавший царю свой кабинет редкостей, почему-то под клятвой молчания открыл ему тайну бальзамирования трупов. Только после смерти Рюйши Петр передал ее своему лейб-медику Блюментросту…
Старый очерк, попавший на глаза, поднял старый детский страх перед царем Петром.
Петр-хирург. Для меня и теперь есть какая-то необъяснимая тьма в таком его образе.
Что-то нечеловечески страшное и темное чудится в царе Петре, с запавшим, шевелящимся ртом, в его зловещей кунсткамере, среди подкорченной, пришеренной и вылинявшей нежити.
Граф Брюс
О графе Брюсе кто не слышал – «сии птенцы гнезда Петрова… И Брюс, и Боур, и Репнин», но никто и ничего не знает по-настоящему о графе. Не знаю и я.
Только неведомая фигура его, дышащая холодным сумраком, и самое имя, с его странной живучестью, подымало во мне с детства невнятный страх.
Рассказывают, что в магических зеркалах, в глубине кристалла, живут будто бы отражения мертвых. Такая же магическая живость есть и в мертвом имени графа Брюса.
Кажется, у всех русских, кто наслышан о нем, самое имя Брюса подымает невнятную тревогу и темный страх. И этот страх есть, вероятно, в потомке, – след подавленного глухонемого страха предка времен царя Петра.
Яков Брюс, Яков Вилимович…
В любом историческом словаре можно прочесть, как Брюс, обрусевший шотландец, едва ли не шотландских королевских кровей, младший сын Вилима Брюса, московского служилого человека, опочившего в 1680 году во Пскове, стал при царе Петре генсрал-фельдцейхмейстером, графом, фельдмаршалом, президентом берг- и мануфактур-коллегий, сенатором, начальником артиллерии…
Царь Петр метал, рубил и мчался дальше, как грозный ветер, а вослед царю, на весь его бурелом, тихой поступью всюду подходил этот русский шотландец.
Яков Брюс как будто странно разъемлется на многих Брюсов, чтобы занять все главные команды в Петровой империи. Брюс – всюду, Брюс – опора Петра.
Иные птенцы гнезда Петрова из московского верховного боярства, едва обрившие бороды и выстригшие полы парчового прадедовского кафтанья, румяные, крупногубые, белотелые, с наивными московскими глазами, хотя и в сивых голландских париках, но понятны во всем. Они грубы, они телесны.
Одни чванятся новой спесью европейской, другие самодурствуют, буйствуют, палачествуют, третьи вдохновлены чудесной Бомбардией, четвертые, лукавцы московские, хитрят всеми мужицкими хитростями, подлаживаясь к немецкому обычаю царя.
Один граф Брюс непонятен во всем, он загадочен.
И как бы не чувствуется в нем тела, и как бесплотная тень скользит он, крадется среди гремящих, бряцающих, полнокровных людей и дел Петра.
Загадочен и знаменитый его Брюсов календарь.
Шесть лет, с 1709 по 1715 год, гравировщики гравировали на медных листах тот повсеместный месяцеслов на вся лета Господня, учиненный, изобретением неведомого библиотекаря Василия Киприянова, под надзором Якова Брюса.
На первом листе были круги (солнечный, лунный) и знаки зодиака, а в месяцеслове содержались изъяснения натуры, или естества планет и предзнаменования по планетам времен.
Будто бы все времена, образы и сроки России предуказаны Брюсом для тех, кто только потщится уразуметь его невнятные иносказания.
На Садовой улице, в Петербурге, видел и я гимназистом в узком чуланце старого книжника громадную книгу, подобную Библии, в деревянном гулком переплете, источенном червями, в трухе.
От темного дерева пахло сыростью, желтые листы дымились от пыли.
Книжник, я помню его имя, Нил Фомич, с голым черепом в желтоватом отблеске, постучал по переплету ногтем и торжественно сказал:
– Премудрость. Самая драгоценная. Брюсов календарь… Вот где вся тайна про Россию прописана, что и как. Только не понять…
Нил Фомич, по-видимому, так тайны и не понял. Не понял ее, конечно, и я.
Известно, что в Брюсовом календаре можно отыскать каббалу, астрологию, таинства алхимические, а в предсказаниях будущих времен пересказанная там глухая моль отреченных книг Московии, наше дремучее чернокнижие, звездочетничество, волшебные Громовники, Шестокрылы, Воронограи, Рафли и прочая бесовщина, отметенная со времен Стоглава благоверной Московией, но таившаяся подспудно.
В Петровы дни, ясные, ветреные, свежие, зачем-то понадобилось Брюсу отмкнуть заключенные книги Московии, ее ночное дремучее колдовство, отреченное чернокнижие и оставить его России открытым.
Точно обвел неслышный шотландец царя Петра навсегда заклятым колдовским кругом.
Вот он Яков Брюс, черный шотландец.
У него крадущаяся кошачья поступь. Оп тощ, невысок и горбат. У него совершенно бледное вытянутое лицо, запавшие узкие губы. Он ходит бесшумно, едва скрипит его трость, не слышно голоса.
Он точно без тела. Он во всем черном, белеются только концы его голландских манжет, он в черной шляпе, в черных башмаках. Его сивый тяжелый парик свисает кручеными прядями вдоль впалых щек.
Царь Петр, порывистый, сильный, жизнелюбивый, всегда кипит и блещет, как солнечный день со всеми свежими ветрами.
А за царем Петром скользит безмолвная, бесшумная тень – Яков Брюс, тень Петра.
И стал шотландец, Яков Брюс, мертвой тенью, он стал русским призраком.
В Петербурге, известно, что ни старый дом, что ни канал, то привидение. Петербург издавна заселен призраками. В казармах, в казенных зданиях, за любой колоннадой таятся они.
А вот о московской нежити что-то слышать не доходилось.
Москва ясная, простая, мужицкая и боярская, белотелая, ржаная и крупитчатая, где бы в ней завестись нежити? Разве подерутся где на Куличках или в брошенных банях козлобородые московские черти, самая деревенщина, с коровьими рогами.
Но той же тени графа Брюса, сенатора и генерал-фельдцейхмейстера, многих орденов кавалера, суждено было переселиться из Петербурга в Москву и стать там единственным, кажется, московским привидением.
Сухарева башня, запущенная и отсыревшая, и нынче стоит в Москве.
Уже никто не знает толком, что та осьмиугольная башня, первая архитектурная потеха молодой державы Петра, возведена после стрелецких бунтов в честь стольника Лаврентия Сухарева, приведшего Петру к Троице свой стрелецкий полк.
Впрочем, Сухарева башня давно была запущена и в забвении.
При царе Петре в палате под башней открыли было навигацкую и математическую школу, но скоро перевели школу в диковинный Санкпитербурх, а кукуевские немцы стали представлять под башней зазорные комедии, да никто к ним не шел.
Тогда башню наглухо заколотили.
Только при императоре Павле Петровиче отодрали прогнившие доски, и палаты, куда долго не достигал свет, были отведены под склады парусного холста адмиралтейств-коллегий.
При императоре Александре Павловиче, после московского пожара, в башне открыли казенный магазин сукон и прочих мундирных надобностей для комиссариата московского.
При императоре Николае Павловиче в обеих башенных залах устроили водохранилища из чугунных плит для воды, подымаемой паровыми машинами из Мытищ.
Башня так и стояла, темная, отсыревшая, в плесени.
И никто, кроме самого простого народа и старообрядцев московских, не знал о том, что в Сухаревой башне вот уже два века является граф Брюс.
Темная народная молва толковала об отреченных книгах, замурованных будто бы в стену башни Брюсом, заклепанных там алтынными гвоздями до века.
Будто в башню, в самую ту Рапирную залу, сходились по ночам в старинные времена царь Петр, Лефорт и Феофан Прокопович, духовник царев, а граф Брюс читал им в голос отреченную книгу, и те сходбища назывались Нептун.
Граф Брюс стерег заключенную книгу. Он в башне жил под самыми стропилами в пыли, как ворон, то видимый, то невидимый, протирая там разные снадобья на смерть и бессмертие.
Сама смерть отреклась от черного графа, забыла его в Сухаревой башне, и Брюс, иссохший от ветхости, крошечный, а все в треуголке, кружится и нынче каждую ночь над Москвой.
В самую метель покажется он вдруг сразу на всех двенадцати московских заставах с вихрями снега.
Крошечный старичок, в черном плащишке, с белым лицом, бросит Брюс в снег свою черную треуголку, прыгнет на нее верхом и на треуголке умчится в метель.
Со всех двенадцати застав разом въезжает так граф в Москву, и треуголка уже обернулась в черные тройки и все тридцать шесть коней вороных. Как на похоронных катафалках несется на тройках от всех двенадцати застав граф Брюс. С гиком, визгом кувыркаются во вьюге его черные тройки, покуда не сгинут.
Черный ворон вьется над Москвой, граф Брюс. Рано поутру, еще до первого звона, можно было заметить его, как жмется он высоко к заиневшему куполу. Будто сидит под самыми крестами обмерзшая большеглазая кикиморка в черном плащишке, и старческий подбородок повязан примерзшим мертвецким платком.
А на заре ночной московский Ванька видел графа Брюса на Кремле, как сидит он, подкорчившись, на острие башни, у медного орла, синий, сквозящий, и по-кошачьи умывается лапкой.
Черный шотландец, граф Брюс, кружит и вьется над помертвевшей Москвой и теперь.
Вот уже два века, как черный шотландец, граф Брюс, стал мертвой тенью Петра, московским привидением.
Вот два века, как стал Брюс зловещим знаком всех русских вымыслов и кровавых видений, изнурительных мечтаний, манящих обманов, буйств, страшилищ и сумасшествий, всего, что не сбылось, не сбывается и чему не сбыться никогда.







