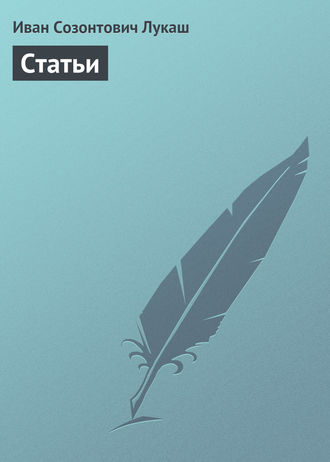
Иван Созонтович Лукаш
Статьи
Богородичен остров
Набережная Сены, где тянутся горбатые книжные лари, над которыми легко шумят платаны, напоминает чем-то кладбище… Там равнодушный ко всему букинист об угол ларя, обитый железом, выколачивает пыльные войны и буколики, пыльных героев, пыльное вдохновение и пыльный вздор, связки старых книжек, перевязанные бечевами.
Одна из таких книжек лежит теперь передо мною на столе. Я попытаюсь это загадочное существо описать.
Крепкий переплет в полвершка толщиной, коричневая кожа кое-где поскоблена, может быть, ногтем. На сафьяновом красном корешке косо вытиснены золотые буквы: «Достопамя в Европе».
«Достопамя» – потому что не достало на корешке места для полного имени и звания моего случайного гостя. Вот полное заглавие книжки: «Достопамятное в Европе, то есть описание всего, что для любопытного смотрения света, также за нужду или по случаю путешествующему в знатнейших местах Европы знать и видеть надлежит».
Надпись заглавия сходит вниз углом, под него – рог изобилия с развевающимися лентами, а под чертой, на заглавном листе: «В Москве, в Университетской Типографии у Н. Новикова 1782 года».
Синеватые страницы, в табачных подтеках, буквы «т», похожие на «ш», перевернутые вверх ногами, выцветшая чернильная капля на полях, соломинки и веревочные волоски, застрявшие два века назад в неважной шершавой бумаге, – старая книжка напоминает чье-то ветхое лицо, где мила каждая морщина.
В детстве я был уверен, что под переплетом старых книг непременно хранится некая тайна, скрыта записка неведомого предка или что-то другое, чудесное. Сколько переплетов расщепил я в детстве перочинным ножом. Я уже не ищу больше тайн под переплетами, но горьковатый и сухой запах старой книги и теперь кажется мне чудесным.
Над ветхими листами испытываешь иногда мгновенные и странные чувства: как будто освобождения от забвения, от забвения смерти, и кажется, что касаешься той самой книжки, которой уже касался век или два назад, вот только вспомнить еще что-то, какую-то мелочь, подробность – и тогда вспомнишь всего себя, огромно, полно, во всей страшной живости, каким был два века назад.
Правда, такой крошечной подробности, какой-то последней мелочи, никогда и не вспомнить… Вот я держу перед собою «Достопамя в Европе», под лампой листы ярко освещены, и вижу я сквозь буквы «т», похожие на перевернутые «ш», стриженные в скобку волосы типографских мастеров, прихваченные ремешками. Я вижу у окна дубовые ящики, полные свинцовых букв, старинные типографские кассы. Над ящиками свешиваются плошки, в которых горит масло. Уже ночь.
Я вижу себя в старинной московской типографии. Мастера бесшумно ступают по половицам босыми ногами. Вот один в пестрядевых портках и кожаном фартуке надевает у дверей архалук. Там, на табурете, стоит жбан с квасом. Такая тишина в типографии, что слышно как пощелкивают свинцовые буквы, отбрасываемые наборщиками в кассы, и как трещит масло в плошках.
– Эй, малый, подай сюда кофею, – слышу я крепкий, приятный голос с хрипцой.
Я узнаю, – это голос Николая Ивановича Новикова, вольного московского типографщика.
Николай Иванович сидит в чуланце за дощатой перегородкой. Зеленая кожа его кресел истерта, обтрепалась. Его ноги в козловых башмаках покоятся на кожаной подушке. Николай Иванович в коричневом кафтане с перламутровыми пуговицами. Одна пуговка на камзоле наполовину обломана. Белый шелковый шарф скрутился на полной шее Новикова в жгуток.
На его столе вороха бумаг, книги, песочница. На горке книг днищем вверх черная треуголка Новикова, в ней его желтоватые смятые перчатки с раструбами и глиняная трубка.
Курчавое гусиное перо скрипит и быстро летает по листам: Новиков сам правит корректуру. Вот он повел от буквы «у» хвостик на поля, с завитком, там выправил «ерика», там завитушку у «яти». Я вижу, что его белый крупный палец с агатовым перстнем испачкан чернилами. Из-под коричневого рукава видна кружевная, слегка порванная манжетка Николая Ивановича.
Такая радость, что я снова здесь, – я заснул в типографии, и мне снился смутный сон о какой-то дальней и тяжелой жизни, но вот я пробудился, в свои времена, среди своих, и вот вижу моего учителя, может статься, благодетеля, высокого кавалера Розы и Креста, вольного типографщика и мартиниста московского Николая Ивановича, вижу его покатый, широко открытый лоб, его добродушно нависшие веки, его крупные и блестящие карие глаза. Левый глаз у Николая Ивановича помаргивает…
В чулане горит в шандале свеча. К свече склонился кто-то с книгой. Я вижу спину в голубом кафтане с золотым позументом. Я хорошо знаю эту плотную голубую спину с продольно наморщенной складкой, и эту треуголку, и эту трость под мышкой. Я знаю пудреную голову с лучащимися над свечой буклями, и косицу в черном шелковом кошельке: Иван Владимирович Лопухин рассматривает некую книжицу в чулане Николая Ивановича.
Я хочу им нечто сказать, но все шатается, меркнет, и я вижу себя под мокрым снегом на московских Балчугах, то в кордегардии, на ночном карауле.
Теплится в кордегардии сальная свеча, мигают медные пуговки моего зеленого сержантского кафтана. Я положил оба локтя на грязную подушку и читаю на ночном карауле «Достопамя в Европе».
Какие там чудеса и какие там прелести, какие городки и крепостцы с диковинными прозвищами – Бордо, Циподад, Родриго или Мальпазия, точно вся достопамятная Европа лежит передо мною на подушке, как игрушечная музыкальная шкатулка или курьезный ящик, какой довелось мне видеть у заезжих немцев на ярмарке, с башнями, часами, соборами, кунсткамерами, марширующими под музыку гренадерами, каскадами, фантанеями, каретами и прочим.
Вот Берлин – «столица короля Прусского в Бранденбургии. В городе великая библиотека и кунсткамера, на мосту, против дворца, медная статуя курфюрста Фрндернка Вильгельма Великого на лошади и другие вещи».
Вот Венеция, где «на водяную езду содержат малые суда, называемые гондолы. Каждое судно содержанием не меньше коляски с двумя лошадьми станет».
А в Риме, «на горе, называемой Монте-Кавала, нынешние папы живут, а в саду сего папежского двора такие органы, которые движением воды минаветы и другие штуки играют».
В Лондоне же «городские улицы так широки, что по них шестью каретами рядом ехать можно».
«В находном доме», в том же Лондоне, «до двух тысяч зазорных детей и сирот содержат. Та улица, где серебряники да золотых дел мастера живут, – лучшая из всего города. Знатного в Лондоне строения: Коллегия, театры, ратуша и другие здания. Пониже города, на реке Темзе, – великая крепость, куда герцогов, графов и других в погрешения впадающих вельмож под арест сажают».
«Хотя сказывают, будто орден Подвязки от того произошел, что король Эдуард III в танцах подвязку с ноги потерял, только сие – смешная ложь, а то большего вероятия достойно, что сей же монарх перед неприятелями своими великую победу получил и в ночь перед сей баталиею в английской армии лозунг был «Подвязка», по которой и весь кавалерской орден от оного короля основан».
А вот и Париж – «чрезвычайно великой, богатой и славной в Европе город, на реках Сене и Марне, обыкновенная столица королей французских».
«По ночам на всех улицах, между каждым домом, вывешены фонари, от которых во всем городе весьма светло. Париж разделен на четыре части: в первой части, называемой Лавиль, Людовикова гошпиталь со многими церквами: второго Ласите, властно как на острову. Третья часть называется Лиль-Нотр-Дам, то есть Богородичен остров».
«В 1635 году от короля Людовика третьего-на-десять основана Французская академия, в которой сорок персон беспрестанно над тем трудятся, чтобы французский язык в совершенную красоту привесть. В другом, от короля Людовика четвертого-на-десять основанном собрании, находящиеся математики, историки и философы всякие в совершенство приводят, новые эксперименты делают и машины изобретают».
«Славные Пресвятые Богородицы церковь утверждена на сте на двадцати столбах».
«Ежели все великолепные в Париже палаты, и знатнейших особ дворы, а особливо королевские дома в Лувре и в других местах, со всеми удобствами видеть, то никоим образом без крайнего удивления остаться невозможно, не упоминая обыкновенного в сем городе множества карет и колясок, великого числа лакеев, также из всех европейских краев приезжающих сюда чужестранцев».
«На монастыре, у церкви Блаженного Иннокентия, погребена такая женщина, у которой при жизни ее 295 человек детей, внучат, правнучат и праправнучат мужеска и женска полу было. Великой через Сену мост, называемой Богородицкой (Пон-Нотр-Дам), а по обеим оного сторонам 68 домов равной высоты. Бастилия, или статская темница, в которой знатных арестантов содержат» и многие другие диковины.
А «славной из французских монархов король Людовик четвертый-на-десять родился 5 числа 1638 года от Анны-Марии, сестры Испанского короля Филиппа, с двумя острыми зубами, которыми сей во младенчестве бывший принц пяти или шести кормилицам груди прокусал…»
Вот и все о достопримечательностях Парижа по российскому путеводителю новиковского тиснения. Я не знаю, погребена ли в церкви Иннокентия такая женщина, у которой было при жизни 295 детей, не доводилось мне слышать и о двух отменно острых зубах короля Людовика, но, когда я иду по набережной Сены, вдоль книжных ларей, и уже видны за купами платанов широкие серые башни Нотр-Дам, я знаю теперь, что скоро будет передо мной Богородицкой мост – другого имени у него теперь быть не может, – а там уже виден и Богородичен остров…
Марат и Робеспьер в России
По мокрой погодице, в самую осень 1792 года, когда улица Шклова шумит под колесами, как одна унылая лужа, а жидовки даже не выгоняют хворостиной под дождь гусынь своих, у пышного въезда Шкловского дворца остановилась жидовская таратайка.
Из таратайки при помощи тощего и мокрого возницы, откинув сырую епанчу, выбрался неизвестный путешественник. Он стал прямо в лужу, хотя на ногах его не по осени были тонкие шелковые чулки персикового цвета и парижские башмаки с пряжками, на красных каблуках. Путешественник был в голубом потертом кафтане, на котором были следы недавно споротых парчовых галунов и плоских пуговиц с королевскими лилиями.
Зорич тогда уже «выбыл из случая», провождал дни свои в шкловском отдохновении за многодневными пирами, за многонощными карточными играми, и на его открытый стол в Шклов немало прибывало тогда искателей приключений, приживалов, приезжих дворян, скромных просителей, иностранцев и бедных офицеров.
Путешественник в светло-голубом кафтане, скинув под дождем сырую треуголку, приглаживал к впалым щекам пряди мокрых волос, стриженных по французской новой моде a la Tite, и озирался с недоумением.
Наконец, зашагал он по лужам к тяжелой решетке дворца.
Прибытие его было примечено только шкловским почтмейстером, кривым на левое око, известным ябедником и собачником. Почтмейстер как раз отомкнул окно, чтобы посмотреть, не прояснело ли и нельзя ли выгнать на двор щенячью ватагу, заблошившую всей покойчики.
Со спины иностранец, идущий под дождем без шляпы, был сутуловат и показался почтмейстеру подозрительным. Надобно сказать, что за дворцом выбылого из фавора Зорина, после того как среди толпы его гостей были открыты делатели фальшивых ассигнаций, хотя бы и негласно и весьма вежливо, без особливых господам путешественникам беспокойств, но Сама Augustissima повелела учинить секретное наблюдение.
Иностранец подал во дворе бумаги и подорожную на имя бывшего капитана королевской службы французского флота, эмигранта графа де Монтегю, покинувшего мятежнический Париж и принятого ныне в службу ее величества в Российский черноморский флот с чином капитан-лейтенанта. Наслышанный о великодушном гостеприимстве господина Зорича, капитан-лейтенант почел долгом по дороге из Польши побывать в Шклове.
Зорич радушно принял нового гостя, и в тот же вечер при многих свечах господин Монтегю, помигивая ресницами, отменно метал банк, ставил на тройку, загибал пароли и сетелева и молча подгребал к себе со стола тощей горстью синие ассигнационные билеты и ясные рубли.
Впрочем, иностранный капитан казался грустным и как бы растерянным. С приметной тревогой оглядывал он блестящее собрание заезжих господ и не вступал в любезные беседы. Однако пожаловался на нездоровье, приключившееся ему от долгой дороги. Дворецкий отвел прибылому графу покои во флигеле, на заднем дворе. На другой день иностранец не был на людях, наказав слугам доставить ему почту, которую ждал он из Риги.
Почта и открыла, кто таков был этот скромный капитан королевского флота с горящими глазами и концами плоских волос, падающих a la Tite на впалые щеки.
Кривой почтмейстер «из подозрения», как отмечает старинный документ, вскрыл пачку иностранных газет, прибывших вскоре из Риги на имя графа де Монтегю.
«Почтмейстер распечатал их и, рассматривая с прилежанием, заметил, что на одном листе, между строк, шероховато. А когда поднес листок сей к огню, там нечто оказалось написанным секретными литерами».
Секретные литеры были разобраны вскорости, и в них открылось, что капитану Монтегю была прислана от конвента французского не больше не меньше, чем инструкция «сжечь весь черноморский Российский флот».
Монтегю оказался якобинцем. Ночью «сего Монтегю под крепким караулом отправили в Санкт-Петербург».
Там военный суд приговорил его «быть продернуту на железном канате под корабль, по морскому уставу, но материнским милосердием Ее Величества приговор сей был отменен, и злобствующий якубит, быв только ошельмован на эшафоте публичным преломлением на голове его шпаги, – сослан в Сибирь в вечную каторжную работу».
Неизвестно, что сталось с Монтегю в Сибири. Но этот якобинец был тогда не один в России.
Французская революция вовсе не ограничивала себя «национальными пределами» – ее замах, ее замыслы и происки были такими же всеобщими, «планетарными», как и варварские попытки ее нынешних московских подражателей.
Достаточно вспомнить хотя бы восстания италийские или один из девизов французской революции у Костюшко – его перевод хорошо знаком нам теперь: «Guerre aux chateaux, paix aux campagnes».
Якобитские эмиссары не оставляли тогда своим вниманием и России.
Князь Белосельский-Белозерский пишет 26 августа 1792 года из Парижа, что там 1200 якубитских тираноубийц торжественно «поклялись убивать королей». От того же года сохранилась такая любопытная записка Суворова:
«Анжело от Жакобитского клуба с сыном и пятью человеками отправлен будет в Россию ради произведения у нас французской революции».
Тогда же отправился в Россию якобинец Бассевиль, «чтобы убить Екатерину».
В дневнике своем, апреля 8 числа 1792 года, Храповицкий записывает в Царском Селе:
«Поутру дан секретный приказ здешнему губернатору, чтобы искать француза Бассевиля, приехавшего через Кенигсберг 22 марта со злым умыслом на здравие Ее Величества».
Во дворце были усилены гвардейские караулы, на площади выставлены рогатки. А 24 апреля, как записывает Храповицкий, императрица «шутила насчет француза и, показывая в окно на идущих солдат, сказала:
– Ils n'ont pas des piques patriotiques».
– Ni des bonnets rouges, – ответил Храповицкий.
Этот красный колпак был вбит на голову русского солдата только через 115 лет.
А в те дни было получено из Москвы от князя Прозоровского секретное донесение о взятии под караул московского мартиниста и вольного каменщика Новикова. Старая императрица, вооружась своими знаменитыми очками в роговой оправе, сама рассматривала тогда мартинистские бумаги, доставленные из Москвы во дворец, и есть указание, что среди новиковских бумаг была якобы найдена ею шифрованная переписка с главой немецких иллюминатов Вейсгауптом, который в свой черед сносился с французскими якобитами на предмет учинения в России переворота, вольности, равенства и республиканского правления.
К концу мая Новикова уже привезли в Шлиссельбургскую крепость и заключили в том каземате, где содержался и был забит поленьями и приколот шпагою печальнейший царевич российский Иоанн.
Тени революции – хотя бы этот капитан Монтегю, готовивший пожар Российского черноморского флота, эти неведомые никому иллюминатские бумаги Новикова, или Радищев, который, по мнению Екатерины, «хуже Пугачева», или этот неуловимый убийца Бассевиль – тени революции близко прошли тогда у дворца Августейшей.
Но так и канул в неизвестность Бассевиль, и не прибыл «Анжело из Жакобитского клуба», и все это «произведение у нас французской революции» кончилось ничем… И все же сохранилось странное, волнующее и зловещее сочетание нашей старинной и благородной империи с самыми зловещими и самыми грозными именами французской революции – с именами Марата и Робеспьера.
Мало кому известно, что и брат Марата, и брат Робеспьера, бежавшие из Франции, нашли тогда приют в России.
О них мы знаем очень мало – разве только то, что они были эмигрантами. Ни одной живой черты, ни одной памятки. Но и для брата Марата, и для брата Робеспьера наша старинная Россия стала вторым отечеством, в котором они мирно жили и мирно скончались.
В «Русском архиве» за 1865 год Юрий Толстой дает о них такую краткую справку: «Брат Марата, под именем де Будри, был гувернером в Царскосельском лицее, а брат Робеспьера, под именем де Мельян, жил в Киеве».
Так, по воле таинственной судьбы, брат Марата стал одним из воспитателей Пушкина.
Царскосельский Марат нашивал, кажется, нечистый, весьма закиданный табаком камзол, чулок его почасту был полуспущен, был он неряшлив, вспыльчив и с трогательностью почитал память старшего брата – страшного Марата Парижского, этого «зловонного исчадия ада, костоправа Сатаны и двуногой гиены с гноящимися глазами».
И ничего мы не знаем о жизни в Киеве брата Робеспьера. Сохранилось только предание, что имя де Мельян, выправляя его бумаги, дал ему тамошний губернатор, вспомнив, может быть, «Робеспьера Яицкого» – Емельяна Пугачева.
Известно также, что, кроме братьев Марата и Робеспьера, приют в нашем отечестве, среди сотен эмигрантов, нашел и еще один любопытный эмигрант – секретарь самого Робеспьера, гражданин Дюгюр.
И любопытнее всего, что этот Дюгюр, этот бывший якобит и бывший ближайший помощник воркующего Голубя революции и вдохновителя гильотины на заре «дней Александровых прекрасного начала» стал у нас ректором императорского Санкт-Петербургского университета…
Российский словотолк
«Родители мои, люди почтенные, но простые и воспитанные по-старинному, никогда ничего не читывали, и во всем доме, кроме Азбуки, купленной для меня, календарей и Новейшего письмовника, никаких книг не находилось. Чтение письмовника долго было любимым моим упражнением. Я знал его наизусть и, несмотря на то, каждый день находил в нем новые незамеченные красоты. После генерала ***, у которого батюшка был некогда адъютантом, Курганов казался мне величайшим человеком. Я расспрашивал о нем у всех, и, к сожалению, никто ие мог удовлетворить моему любопытству, никто не знал его лично, на все мои вопросы отвечали только, что Курганов сочинил Новейший письмовник, что твердо знал я и прежде. Мрак неизвестности окружал его, как некоего древнего полубога, иногда я сомневался в истине его существования. Имя его казалось мне вымышленным, и предание о нем – пустою мифою, ожидавшей изысканий нового Нибура. Однако же он все преследовал мое воображение, я старался предать какой-нибудь образ сему таинственному лицу и наконец решил, что должен он был походить на земского заседателя Корючкина, маленького старичка, с красным носом и сверкающими глазами…»
Так начинает Пушкин «Историю села Горюхина».
Вероятно вы, как и я, впервые узнали о письмовнике Курганова от Пушкина, и вас, как и меня, с отрочества волновала эта таинственная книга и этот неведомый Курганов.
Помню, я еще гимназистом рылся в пыльной рухляди букинистов на петербургском Александровском рынке. Отчетливо представлял я себе синие, шершавые листы письмовника – мне казалось тогда, что должен он быть отпечатан на бумаге, подобной той, в которую оборачивали сахарные головы.
Но сыскал я письмовник только два года назад, в Риге, где добрый случай открыл мне Курганова на темном чердаке старинной рижской книготорговли.
Сие таинственное лицо, хотя и предстало воображению Пушкина маленьким старичком с красным носом, в действительности, судя по старинному наброску в одном историческом журнале, было персоной весьма грузной и повадки медвежьей, в распашном екатерининском кафтане и с куцей косицей-закорючкой. По имени-отчеству звали лицо Николаем Гаврилычем, должность оно имело учителя словесности в шляхетском корпусе, обитало в Санкт-Петербурге, на Васильевском острову, и было, по всей видимости, веселым и добрым человеком.
«Книга Письмовник – в ней наука российского языка с седьмью присовокуплениями», или – «всеобщий чертеж наук и художеств, ключ писцу, любящему российскую пропись, сбор разных русских пословиц, краткие замысловатые повести, различные шутки, достопамятные речи, хорошие мнения, опись качеств знатнейших европейских народов, загадки, древние апофегмы, правила Епиктетова нравоучения, рассуждение Сенеково, разные поучительные разговоры о любомудрии, о навигации или кораблеплавании, о геральдике, о мифологии» и прочая.
Книга Курганова – чудесная кунсткамера всякой всячины, любопытнейшая настольная энциклопедия россиянина пудреного века и прелестные сокровища речи российской, те незамеченные красоты ее, которые тронули Пушкина.
На покоробленном кожаном корешке моего тома уже полустерты буквы «Курганов», а желтоватые листы в легчайших морщинках, как нежная и дряблая кожа старух. Широкие буквы, где «т» так похоже на «ш», на поля век назад кое-где капнуло чернило с гусиного пера, оставив коричневые пятна… А ветхий запах страниц напоминает летучее дыхание какой-то пряной травы…
Этот старинный письмовник, привеченный Пушкиным, – один из таинственных ключей к науке прадедовского языка: почти на четырехстах страницах излагает Курганов свою замечательную «Грамматику вообще».
Однажды Пушкин сказал: «Я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую откровенность».
И, по-видимому, не о своем только языке сказал так, но о звенящем, лепном и мерном языковом строе своих предшественников, подобном барельефу, кованному из червонного золота, – об языке Ломоносова, Державина, Новикова, Чулкова, Майкова, Капниста, Копьева, бакалавра московского Ермила Кострова, карманного стихотворца Екатерины Петрова или того же Курганова.
Русские люди конца осемнадцатого века упорно и, можно сказать, исступленно работали над чистотой и ладом русской речи. После языковой сумятицы и толчеи, хлынувшей на нас при Петре, стиль российского языка – высокий, патетический стиль библейской откровенности – стал к концу осемнадцатого века утверждаться огромно и великолепно.
Солнце Пушкина затмило эту эпоху, и после Пушкина потускнели, стали казаться неуклюжими и тяжкими звучащие языковые гирлянды золотого российского рококо. При Николае I они уже почитались нашим «первобытным» литературным языком, хотя Пушкин и сказал еще: «Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали…» И с каким волнением находишь теперь эти первобытные и забытые языковые ключи допушкинских прадедов. Вспомним хотя бы прелестные строфы Гаврилы Державина к жене:
О, домовитая ласточка,
О, милосизая птичка,
Грудь краснобела, касаточка,
Летняя гостья, певичка.
Или его же:
Пуст колчан был, лук изломан,
Опущена тетива,
Факел хладом околдован,
Чуть струилась синева.
И теперь ли не оценит потомок кованую силу старинной новиковской прозы, может быть, не менее гармоничной, простой и образной, чем проза самого Пушкина. Вот отрывок из сатирического журнала Николая Ивановича Новикова, из знаменитого «Живописца» (1772) – полуторастолетняя мастерская российская речь:
«День тогда был жаркий, я ехал в открытой коляске, пыль и жар столько обеспокоивали меня дорогой, что я спешил войти в одну из сих развалившихся хижин, чтобы несколько успокоиться.
Мы стучали у ворот очень долго, но нам их не отпирали. Собака, на дворе привязанная, тихим и осиплым лаянием, казалось, давала знать, что ей оберегать было нечего. Извозчик, вышед из терпения, перелез через ворота и отпер оные. Коляска моя взвезена была на грязный двор, намощенный соломой, ежели оной намостить можно грязное и болотное место, а я вошел в избу растворенными настежь дверями. Заразительный дух от всякой нечистоты, чрезвычайный жар и жужжание бесчисленного множества мух оттуда меня выгоняли, а вопль трех оставленных младенцев удерживал в оной.
Пришед к лукошкам, прицепленным веревками к шестам, увидел я, что у одного младенца упал сосок с молоком, другого нашел обернувшимся лицом к подушонке из самой толстой холстины, набитой соломой: я тотчас его оборотил и увидел, что без скорой помощи лишился бы он жизни, ибо он не только что посинел, но и, почернев, был уже в руках смерти. Подошед к третьему, увидел, что он был распеленан, множество мух покрывали лицо его и тело и немилосердно мучали сего ребенка; солома, на которой он лежал, также его колола…»
Какая жадность и полнота художественного описания, и какой коренной – пусть и устарелый – русский язык!
Еще будущему историку словесности надлежит судить, не пал ли наш языковой стиль со времен «сантиментализма» – например, дворянский язык двенадцатого года уже истоптан «следами европейского жеманства» и зачастую напоминает слащавые переводы с французского, – не пало ли библейское величество нашего языка именно после Пушкина?
А пудреные наши прадеды любили и ценили живой русский говор и знали тайные ключи к забытой нынче науке российского языка.
Знал их и Николай Гаврилыч Курганов.
«Станется в семье не без урода, – начинает он предисловие к своему письмовнику. – Некоторые речи в пословицах и поговорках найдутся простоваты и ошибки в словотолке; причиной тому новое сие дело, могущее исправиться еще в будущих изданиях. Критики избежать трудно и всем управить невозможно. Человек есть животное, подверженное смеху и над другими издеваться любящее, легче судить и ценить, нежели что-либо сочинять и издавать. В книгу сию занятная местами чуждинка – не порок».
Такой богатой речью открывает он свой труд и вскоре же дает образец ее тонкого понимания:
«Буква «i» произносится так же, как «и», а употребляется для того, чтобы стечение подобных букв не мешало правильному и скорому чтению: например: Россiи, скинiи и проч., вместо России, скинии, ибо сие противно зрению».
Если бы вы знали, Николай Гаврилыч, как сие противно зрению в нынешней «новой орфографии»!..
А дальше Курганов дает поучительный урок нам всем. Мы теперь часто путаем понятия родины и отечества. В годы национального упадка и помутнения у нас как-то сошло с языка мужественное слово отечество – заменяется словом родина, а Россия – Русью. И уже давно имя россиянин так же, как прусак, превратилось в полунасмешливое прозвище, и забыто нами прекрасное простонародное слово – расеец. Есть француз, германец, англичанин, но сами мы забыли свое существительное и остались с одним тусклым прилагательным – русский. Перепутали мы и понятия отечества и родины. А Курганов полтораста лет назад отлично понимал и разделял их. Вот его краткий пример:
«Отечественные имена суть, кои происходят от отечества: как россиянин, пруссак».
«Родину значащия имена суть: сибиряк, камчадал, остяк, якут…»
И с горечью читаешь теперь его пример на «виват» – на этот торжественный клич побед и славы старинной империи: «Виват требует именительного. Виват вся Российская палата и воинство…»
Давно забыт «виват», и давно забыто кургановское учение о «ериках и паерках», знаках надстрочных, но какой живой язык дышит в любовно собранных Кургановым примерах на «умалительные имена собственные»:
«Ванька, Ивашко, Ванюшка, Ваня, Ванюша, Иваша, Ванюшко, Ванюшичка, Иванушка, Ивушка, Ивашичка, Ванюшутачка, Ванютачка, Иванишка».
В кургановском «соборе пословиц» живой язык играет всеми огнями, хотя, может быть, этому собору и пристали больше всего пушкинские слова о грубости и простоте. Вот примеры: «брюзжит, как худое пиво у афендрона; где бес не сможет, туда бабу пошлет; даром и чирей не сядет: есть чернцы и на Симонове: жаден, как ворон крови; за свой грош везде хорош: испужан зверь далече бежит; красная нужда, дворянская служба; кто ветром служит, тому дымом платят; любо видеть, как девка с парнем идет; либо в сук, либо в тетерю; не ремень сапог, не муха ворог: не поймавши щиплешь; плохого князя и телята лижут: сам семи печей хлебы едал; слушай, дуброва, что лес говорит; смолоду прорешка, под старость дыра: терпи голова, в кости скована; та не овца, что с волком пошла: укравши часовник, да услыши, Господи, правду мою; у гордого вельможи и туфли чин имеют…»
В этом соборе и знаменитая – «шей вдова широки рукава, было б куда класть небыльные слова» и «аминем беса не избыть» и много других, но я выписал только те, которые казались мне забытыми.
Вспомним же и две-три «замысловатые повести» Курганова:
«Подьячий при допросе некоего раскольника говорил:
– Будь у тебя совесть столь велика, как твоя борода, так сказывай правду.
– Государь мой, – отвечал суевер, – ежели вы совести бородами измеряете, то видно вы бессовестны, для того что голобороды».
Или другая:
«Два ученых, один русак, другой пруссак, спорились о старом и новом штиле. Пруссак многими доводами доказывал, что григорианское счисление вернее старого, говоря, что в 1592 году от искусных математиков найдено 10 дней излишка в старом календаре, считая от Иулия Кесаря по сие время.
– Тем лучше, – отвечал русак, – что когда новое исчисление верно, то последний суд будет у вас ранее нежели у нас, и когда дойдет до нас, то уже ад будет полон».
И третья:
«Школьник, принеся чинить сапоги, у коих пробились запятки, говорил сапожнику:
– О, ты, курьезный Транслатер, не малым трудом и потом в науке и искусстве такого явного совершенства в починке обветшалых калькументов достигший, приставь мне два семи-циркуля к моим суппедиторам».
Пропустим чудесную повесть «о простом шотландском солдате, служивом рядовом именем Ричард Медилтон, коий пришел в воскресный день в кирку, принес с собой вместо молитвенника игру карт», – пропустим апофегмы, Епиктетовы нравоучения, всеобщий чертеж наук и художеств, всю причудливую кургановскую кунсткамеру, но вспомним его замечательные «Разномысленные предложения».
Они притаились на дальней странице письмовника, точно бы скрывая прелесть свою. Поразительная гибкость, мастерское, полное приятной улыбки владение речью российской, по-моему, доведено в них Кургановым до совершенства. И словно смотрится в них таинственная прелесть осемнадцатого века, и словно свежо звенит в них забытый ключ забытой науки российского языка. Вот эти «Разномысленные предложения» Курганова:







