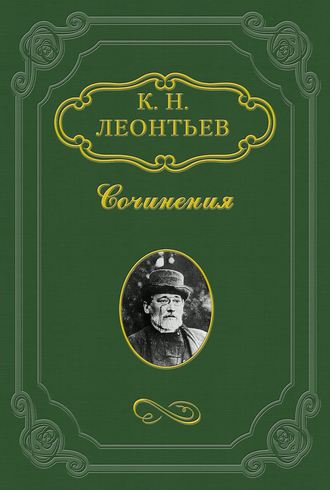
Константин Николаевич Леонтьев
В своем краю
И точно, дня через три-четыре, француз принес тетрадь и прочел: La faiblesse de la force ou La force de la faiblesse.
Милькеев был разбит вдребезги в лице блестящего и ничтожного парижанина; сам ami Joseph выведен был в виде простого и честного земледельца. Особенно одно место живо напоминало Милькеева.
Фаншоннета (предмет спора и ревности) спрашивает у парижанина: «Вы все говорите: поэзия; что такое поэзия?» «Поэзия? – отвечает парижанин, – это нечто невыразимое; это – игра радуги… Это – божественная искра, которая уносит нас вверх, уносит, увлекает, пленяет… и, облекая все душистым туманом, заставляет забыть печальную действительность!» Читая это ami Bonguars лукаво улыбался Новосильской, и Новосильская от души похвалила пьесу, которая, в самом деле, вышла довольно жива и местами забавна.
VIII
Во всей окрестности не было тройки лучше лихачовской; и на этой тройке Александр Николаевич вез теперь, по морозу и сумеркам, Милькеева к Любаше.
Въезжая, проездом, в деревню, где уже зажигались вечерние огни, Лихачев спросил своего спутника: – Любишь ты эту картину?
– Люблю; но больно, что уже не чувствуется того, что чувствовалось прежде. Понимаю больше, а чувствую слабее.
– Я не знаю, отчего это у тебя, а я, напротив, нахожу, что многое я стал чувствовать сильнее с годами, – отвечал Лихачев. – Попробуй-ка объяснить это мне.
– Попробую. Не оттого ли, что с утончением сознания крепнет в нас и то, что от природы было слабо. У тебя воображение не сильно, но с годами и оно проснулось.
– Недурно! – сказал Лихачев, – а отчего ты меньше чувствуешь теперь?
– Про меня скажи ты! – возразил Милькеев.
– Профершпилился прежде, – отвечал Лихачев. – Воображение играло на эту тэму, не спросясь у сознания; устало и требует нового.
– А где бы это новое достать – вот задача? – спросил Милькеев.
– Любашу достань – Эме, как говорит Анна Михайловна.
– Что это, повелительное наклонение или имя собственное?
– Никак это ami Bonguars со мной едет! – воскликнул Лихачев. – К чему эта грамматическая соль? Однако, Федор, ты намерен, кажется вроде обоза тащиться…
– На горку вздохнуть, – отвечал кучер.
– Чисто что на горку! Ну-ка! тронь, как следует! Разве ты не видишь, с нами троицкий учитель едет.
– Перестань браниться, – сказал Милькеев, когда лошади понеслись во весь опор. – Скоро приедем, и я не успею спросить у тебя кое-что. Скажи-ка, кого ты находишь лучше: Nelly или Любашу?
– Правого-то мошенника подзадорь, – сказал Лихачов кучеру. – Коренной весь в мыле… Что ты, душа моя, сказал?
– Которая тебе больше нравится, я спрашиваю: Nelly или Любаша?
– Чем?
– Да всем.
– Всем? Всем – ни та ни другая не нравятся особенно. По бульвару пройтись, мазурку протанцевать или в кавалькаде проехать – Любаша лучше, эффектнее; а для домашнего обихода та – я думаю, посущественнее будет.
– В моральном или физическом смысле?
– И в моральном и физическом. Любашу приятно показать другим, а питаться той, я думаю, и здоровее и вкуснее. Кстати, я тебе скажу, какой мне прежде вздор приходил в голову; все казалось, что свежи могут быть только русские, а иностранки все будто только притворяются свежими… Ведь это страшный вздор, а я так думал или даже скорее чувствовал так… Но теперь, если оставить в стороне все общественные условия и т. п., а взглянуть единственно с точки зрения какого-нибудь паши, так я бы не без удовольствия бросил платок этой скромнице… Коса такая чорная, длинная, и синие глаза – очень недурна… И если бы потоньше нос…
– Ну, нет, я с этим несогласен… я бы бросил платок Любаше… Впрочем, в этом есть неодолимое химическое сродство… – отвечал Милькеев.
– Опять с точки зрения этого химического сродства, – продолжал Лихачев, – обе они перед Полиной никуда не годятся; вот так женщина! ни сучка, ни задоринки нигде нет! Я думаю, Катерина Николавна в молодости была гораздо хуже, грубее… Но горе-то в том, что с Полиной ничего сделать нельзя: она так осторожна, кокетства сколько угодно, а дела ни на шаг… Я пробовал еще на выборах с нею заняться… Нет, шалишь!.. Летом сама предложит идти в лес, обрадуешься, – а она вдруг ребенка возьмет или горничную кликнет… Чтобы никто и думать не смел… Наконец, она сказала мне раз, чтобы я не ждал ничего, что она меня бы всем предпочла, если бы хотела выбирать, но хочет быть верной своему верзиле!..
– Ты уж слишком гонишься за мелкими и правильными чертами, – возразил Милькеев, – а Руднев говорит, что в физиогномии от идеала до пошлости один шаг; есть психичность при правильных чертах – Аполлон и Венера; нет психичности – пустота и скука, Воробьев или твоя Полина. Жаль, что у Воробьева круглый нос, он бы как раз ей в симметрию годился! Оттого-то ты, заметь, и сам о ней выражаешься так, как не позволишь себе выразиться о Катерине Николавне или Nelly – она ничтожна. Это наблюдение Руднева очень верно, и я еще его поддел тот раз на это, сказав ему, что между социалистическим идеалом, который он полусознательно любит, и правильно организованной пустотой даже и шага нет!.. Руднев ведь ничего, как ты находишь?..
– Да, если верить твоим словам; а у нас с ним еще ничего особенного не клеится…
– Постарайтесь заменить друг другу, друг другом, когда я уеду…
– А разве решено, что ты уедешь?
– Решено; или весной или летом уеду…
– А Эме? – спросил Лихачев, выходя на чемодановское крыльцо.
– Пока еще не Эме в смысле причастия, да и Бог даст, не будет. Я ведь, ты сам говоришь, профершпилился прежде! Ну, да во всем этом есть непреложные законы… Однако почти весь дом в огнях. Что это такое?
– Старуха до сих пор любит жить весело, – отвечал Лихачев.
Они вошли в неопрятную прихожую, где слуга в старом нанковом сюртуке бодро сорвал с них шубы.
Хотя в Чемоданове дамы уже носили сетки и кринолины, но от многого еще веяло здесь духом старой помещичьей жизни. Большие дряхлые хоромы, построенные еще тогда, когда имение не делилось между наследниками первого мужа Авдотьи Андреевны; запущенный сад; просторная баня в саду, с передбанниками и полками, куда сама старуха, зимой и летом, ходила почти каждую субботу; качели на запущенном дворе; вокруг ветхий плетень и крапива; где попало кусты сирени и черемухи. Громадная вершина перед двором (прежде тут был отличный пруд; но он ушел, и на поправку его у обедневшей помещицы не было средств). На половине дома тес был ободран; на другой цел и желтого цвета. За домом, в светлом саду, была видна мрачная еловая аллея; она и зимой чернелась издали. – Горничные, в затрапезных платьях и печатных платках, шили или пряли, распевая, по зимним вечерам в просторной девичьей; конечно, прежде их было больше десяти, а теперь всего три. Люди к столу приходили без перчаток; мальчики босиком вбегали в гостиную; в прихожей на окне валялись щотки с ваксой; наверху, над лестницей, навалены были груды перин и сундуков; сама барыня умывалась, сидя на кровати, и потом, не вставая с нее, пила кофе, и в это время ей расчесывали голову пальмовым гребнем. Случалось, что красивая Евгения, горничная самой барыни, выходила с синим пятном на щеке, потому что Авдотья Андреевна иногда «изволили серьезно драться». Комнат в доме было множество; сама Авдотья Андреевна занимала три; пустая зала была часто заперта; все половицы в ней пели и плясали; все окна были кривы; все стены увешаны портретами: дети Авдотьи Андреевны с голубками, собачками и цветами; первый муж – худой и строгий; второй – молодой и женоподобный; третий – полный и простодушный…
Во всем были видны остатки широкого, покойного, веселого житья; всего было еще много: старой мебели красного дерева, с бронзовыми львами и грифами, посуды, белья столового; на зиму сушили груши, мочили яблоки, огромные бутыли с наливкой стояли в самой спальне барыни, на окнах: водицу шипучую делали трех сортов: малиновую, яблочную и из чорной смородины; невейку трех сортов: из чорной смородины, из клубники и малины; постилу из клюквы и яблок; розовый лист и мяту обсахаривали в коробках; варили брагу и мед. Одних кошек было шесть у старухи. Все они спали и мурлыкали около ее кресла, на лежанке; все были жирные, пушистые кошки; Авдотья Андреевна сама занималась ими, наблюдала их свойства и говорила: «Ну, что Машка! Машка дура! Глупая кошка. Вот Арапчик мой, так кот! Всем котам кот. На плечо приляжет как нежно, лицо какое доброе; по столу пройдет, ничего не зацепит!» Взглянуть за сбежавший пруд было страшно: там были видны закопченные избы, кривые, с растрепанными крышами, с волоковыми окошечками. Старуха только в последние лет пять ослабела и присмирела. Своей рукой умела она ободрять ленивых и наказывать непослушных, и не дворовых только – крестьян на работах бивала она, сходя нарочно для этого с одноколки, и самые простые соседи неодобрительно рассказывали, что когда в 30-м году была холера, она, боясь заразы, загнала нескольких заболевших крестьян в баню, поставила им большой чайник с мятой и заперла и заколотила все окна и дверь. Больные выпили всю мяту, вышибли окна и двери; двое из них кинулись к пруду и пили из него до тех пор, пока смерть не застала их на берегу. Рассказывали также, что беременная горничная от ее побоев выкинула и умерла. Но все это было давно, и что полегче худое случалось теперь – случалось не каждый день и забывалось скоро. Люди были бодры и не грустны, соседи и родные издалека собирались иногда толпою, шумели, ели, опять уезжали, и находила на дом скучная и тихая полоса.
Лихачев и Милькеев попали в бойкий день.
Все были тут: Сарданапал с сестрой; Полина; князь Самбикин и мать его княгиня; Богоявленский, Сережа; муж Полины щоголем, как всегда, ходил по комнате с Максимом Петровичем, который и не думал менять на сюртук свой голубой халат, сшитый из прошлогоднего платья дочери. Сама Авдотья Андреевна царила в своем кресле, и Анна Михайловна тряслась от смеха около нее. Только Любаши не было видно. Все о чем-то спорили, когда молодые люди вошли… Лихачев представил Милькеева старухе, и когда первые крики и приветы, которыми Сарданапал, Сережа, Платон Михайлович и Полина оглушили Лихачева, поутихли, – Максим Петрович продолжал прерванный приездом гостей разговор: – Как хотите, матушка! – говорил он грустно и жалобно, почесывая себе затылок, – а князь взял с Фомы два рубля… и рои улетели…
– К чему ты это поминаешь, Максим, удивляюсь я… Уши вянут твою ахинею слушать! – с досадой сказала старуха и поспешно обратилась к Лихачеву: – Давно мы вас, Александр Николаич, не видали… Так добрые соседи не делают… Новосильская вас отбила вовсе… Это не по-соседски, милый мой!
Лихачев не успел и слова сказать в свое оправдание, как княгиня Самбикина воскликнула, нетерпеливо вставая с дивана и поправляя складки своего шелкового платья: – Не у всех, дружок Авдотья Андревна, столько магнита, как у графини! Александр Николаич, может быть, бальзаковских женщин любит… У этого французского писателя (пояснила княгиня для своей старой приятельницы, которая никогда романов не читала) все героини сорокалетние…
– Я очень рад и даже тронут, что мое отсутствие заметно, – с сухой любезностью отвечал Лихачев.
Сарданапал, с чубуком в руке, стал перед ним и, любуясь на него, сказал: – Найдет, найдет, что сказать… Найдет, что сказать! Максим Петрович опять вмешался и все с тем же печальным видом: – Да отчего ж к графине и не ездить гостю. Она – женщина отличная, стол у нее, говорят, хороший, вежливо все… Настоящая графиня. Оно, точно, графство это – заведение у нас не так-то старинное, со времен Питера нашего, не далее. А все-таки…
– Ну, опять стал титулы считать, – перебила Авдотья Андреевна. – Не знаете ли вы еще каких слухов о пресловутой воле, милый Александр Николаич? Ваш брат ближе нас ко всем этим слухам.
– Не слыхал ничего нового, – отвечал Лихачев, – приходил ко мне старик один на днях и спрашивал, правда ли, что с господ будет рекрутчина, как с них; я, чтоб отвязаться от него, сказал ему, что это невозможно, потому что кость моя белая, так меня и не могут в солдаты отдать. Он задумался и ушел.
Все захохотали, даже Максим Петрович развеселился. Милькеева все это время занимала Анна Михайловна на французском языке.
– La comtesse живет так уединенно; и непонятно, почему она чуждается соседства; конечно, она больна, но однако…
Княгиня Самбикина услыхала и тоже вмешалась.
– Именно, chère amie, однако! Странная болезнь, которая позволяет сорокалетней бабе по сто верст скакать на лошади во весь опор, так что никто поспеть за ней не может, и дети себе шеи ломают… Какая примерная мать!.. Может быть, она с неба звезды хватает, но я такой жизни и таких странных правил не понимаю… Alexandre, подай-ка мне папироску! Я, вот видите, и сама курю, – продолжала княгиня, обращаясь к Милькееву, – а все-таки не стану за обедом между каждым блюдом курить и на тарелку перед собой пепел бросать… Не видывала я этого в порядочном обществе! Я, как вы знаете, туда не езжу, но вот это мне сын рассказывал… А я ее терпеть не могу, вашу графиню, milles pardons… Можете передать ей это…
– С удовольствием, – отвечал Милькеев.
Молодой князь весь вспыхнул, подавая матери папироску, которую та гордо закурила; из других кто усмехнулся, кто, как Сарданапал, Максим Петрович и Богоявленский, из угла засмеялись громко.
Милькеев насмешил их нечаянно; он почти ничего не слыхал; для него было непонятно, что он не видит Любаши и желание поскорее «увенчать жизнь» выводило его из себя.
Он наконец спросил у Анны Михайловны: – А где же ваша племянница? ее нет дома?
– Любаша! Ах! c'est vrai!.. Любаша… И чай уже пора давать! Чай пора… Она это все с доктором…
– С каким доктором? Руднев разве здесь? – с удивлением спросил Милькеев.
– Хи-хи-хи! – отвечала Анна Михайловна, поспешно вставая, – да! она пошла с ним…
Максим Петрович остановился в эту минуту перед ними и сказал сестре: – Дай же кончить; она пошла говорить ему о своих головных болях, да и засиделась верно… Не тревожься, я сейчас сам за ней схожу…
– Люба, – закричал старик, входя в соседнюю комнату… Тетка по тебе вся изныла. Да и гости тебя спрашивают – троицкий ментор и Саша Лихачев. Разве не слыхала, что приехали…
Любаша вышла из дверей, а за ней и полумертвый от стыда Руднев.
Ни Карус, ни Галль, ни Лафатер, ни совместивший их всех в себе сам Руднев не объяснили бы ему, что значила приветливая улыбка друга, который протягивал ему как будто радостно руку… «Насмешка? Нет, не насмешка! Зачем насмешка, когда он сам все хлопочет, чтобы Руднев жил? Скорей радостное удивление, что он решился наслаждаться. Однако – ведь он сам сюда же намерен направить свои стрелы… Да, наконец, у нее голова ведь болит; чем же он виноват…» Все это взволновало доктора гораздо больше, чем откровенно плутовской вопрос Лихачова: – А, и вы тут? Кажется, науку прилагаете к живым организмам? Это – славная вещь!
Однако все обошлось: все на минуту не раз вспыхивавшие страсти приутихли, прежде всего благодаря несомненному такту старой хозяйки, которой беспрестанно приходилось следить и за Максимом Петровичем, и за княгиней, всегда готовыми сразиться, и за Сережей и Богоявленским, которые очень редко так удалялись в угол, как сегодня, и за Сарданапалом, который того и гляди бросит ком грязи во всех или заговорит нарочно по-французски и вместо «mon devoir» скажет «mon besoin». A старуха, хоть сама кроме русского ни на каком языке не говорила, однако понимала, что из этой замены может выйти.
Любаша разливала в столовой чай. Почти все молодые люди сели вокруг стола: Лихачев, Богоявленский, Милькеев, Сарданапал, Сережа и Руднев. Только Полина осталась с старшими, да скромный брат ее, которому мать указала на кресло около себя и сказала: – Сядь здесь, Alexandre; ты знаешь, мне и чай вкуснее, когда ты около меня!
Alexandre поцаловал руку матери и вяло стал толковать об устройстве вольнонаемного труда с Платоном Михайловичем, который, как дельный и богатый агроном, уже заранее делал очень удачную пробу.
Сестра Сарданапала, стройная брюнетка, лет двадцати четырех, с калмыцкими глазами и уж слишком залихватскими манерами, подошла к Сереже и, почти вырывая из-под него стул, сказала: – Пошел вон! я хочу около Алексея Семеныча сесть… Вы позволяете, Алексей Семеныч?
– Позволяю, Варвара Ильинишна, – отвечал Богоявленский. – Только будет ли из этого соседства прок?
Варвара Ильинишна хотела было оттолкнуть стул, но вдруг переменила намерение и села.
– Не плюй в колодезь, – сказала она.
– Терпеть я не могу, как вы изволите эти пословицы говорить, – сказал Богоявленский, – куда как нейдет!
– Как к корове седло? – спросила калмычка. – Люба! Послабее чай. Я и без того ночей не сплю, все об Алексее Семеныче думаю…
– А вы разве умеете думать хоть о чем-нибудь? – возразил с усмешкой Алексей Семеныч. – Уж не про вас слово думать-то выдумано, мне сдается…
– Молодец! – закричал Сарданапал, – валяй ее! Алексей Семеныч! Я тебя полюбил с тех пор, как ты мне Белинского дал читать. Я сплю с тех пор; а то была бессонница, да еще контуженная нога под Карсом разболится ночью… Страх!
– Под коленкой, я слыхал, что болит нога, – через стол закричал Сережа, – а под Карсом не знаю… Где у тебя Каре?..
В ответ на это Сарданапал схватил из корзинки булку и с криком: «же ву тюэре», бросил ее в Сережу. Сережа схватил другую. Крик, хохот…
– Хлебом, хлебом, Сережа, грех, – кричит Любаша.
– Грех, грех, – подтверждает Богоявленский.
– Кес-ке-се! Кес-ке-се, Serge? – вбегая, шепчет Анна Михайловна.
– Э! финисе, машер, ожурдюи се комса! А-ле-ву-зан, старушка, – кричал ей во все горло Сарданапал.
– Тужур се-бетиз! Тужур…
– А я думал абажур! – отвратительно острит Сережа.
Милькеев, Лихачев и Руднев, по-видимому, смеялись всему этому, но каждому из них сильно хотелось знать, о чем думают двое других в эту минуту. Милькеев думал: «Уж не влюбится ли Руднев в Любашу? Надо бы выспросить у него его намерение. Она удивительно мила! И как этот чудак Лихачев на нее, живя тут с детства, не обратил внимания!» Лихачев думал: «А ведь и вправду Любашу приятно было бы иметь женой на короткое время… Как даже сутуловатость ее небольшая к ней идет… Но, однако, Бог с ней… Все эти официальные узы – ужасная скука!.. Пусть эти оба молодые философа с ней упражняются… Который-то возьмет верх… И вдруг Милькеев скиксует, а тот скромнец успеет! Это для курьеза было бы недурно!» Руднев думал совсем иначе, и его улыбка была натянута при взгляде на пошлости Сарданапала и Сережи и перебранку Варвары Ильинишны и атеиста: «Ее тешит все это, – думал он. – Невзыскательный вкус! Какая привычка к грубой пище! Может ли ей понравиться человек мысли? Если бы ей понравился Милькеев, так это, конечно, будет не за игру его ума, не за благородство, которое дышит в его лице и поступках, вопреки его злым теориям, а разве за рост, дородство и кудри. Впрочем, и то сказать, едва ли она чувственна… На нашем севере, сколько я знаю, женщины чувственны те, которые ленивы в движениях и толстогубы, а она не вертлява, но и не ленива в движениях и уж слишком всегда спокойна и румяна…» – Налить вам еще чаю, Алексей Семеныч? – спросила Любаша.
– Наливайте, наливайте, – отвечал Богоявленский, – русским барышням один рессурс – хозяйство… Их идеал должен быть кухня и кладовая.
– Это вы что еще вздумали врать? Ныньче уж это оставляют, – говорила Варвара Ильинишна, сбоку взглядывая на него.
– Положим, что не только ныньче, а вообще теперича это оставляют… Да резону нет! Ум как-то им не к лицу… Все невпопад выходит. А сантименты разные еще хуже. Куда уж нам… с деревянными… знаете чем… Сказать только не смею.
– У вас, может быть, деревянное рыло, а не у девиц, – возразила Варвара Ильинишна.
– Так-с, так-с, – говорит Богоявленский, – видно, в самую сердцевину попал, что бранитесь…
Руднев ждал с нетерпением, чтобы Милькеев расправил свои кудри и, подавшись вперед, бросил бы через стол доброе словцо одностороннему жолчевику, но Милькеев, не обращая никакого внимания на пикировку Варвары Ильинишны с Богоявленским, не сводил почти глаз с молодой хозяйки.
Тотчас после чая все попросили Любашу аккомпанировать Варваре Ильинишне, которая отлично пропела, вместе с братом, несколько цыганских песен. После этого Любаша продолжала без приглашений играть соло, очень недурно и не без души; все, полувнимая, разошлись по углам и разговаривали: Богоявленский с Лихачевым, Сережа с Сарданапалом, Руднев с Варварой Ильинишной, или, лучше сказать, она с ним, а Милькеев остался у фортепьяно.
– Хороший предлог эти фортепьяны для того, кто хочет свободно говорить, – попробовал он нарочно посмелее и рассчитывая, что из этого выйдет.
– Разве у нас есть с вами секреты? – спросила Любаша, продолжая играть.
– Я знаю, что нет и не будет, – вывернулся Милькеев, – но под музыку легко играет воображение.
– Зачем?
– Как зачем? Вот странный вопрос! Чтобы играло…
– Так это все, значит, неправда?
– То есть, что неправда?
– То, что вы говорите.
– Я еще, кажется, ничего не сказал такого, чтобы стоило отвечать мне загадками, – сказал Милькеев.
– Я неразвита ведь, все говорят – не умею, может быть, как надо говорить. Василий Владимірыч Руднев советует мне у вас поучиться всему…
– Если вы будете все кружиться так, как сейчас, так какое же я могу иметь на вас влияние. Руднев хвалил вашу откровенность, но я вижу, что он ошибся…
– А если нет, если я с ним откровенна?.. тогда что?
– Тогда что? Ну, мне это очень обидно – больше ничего.
– Совсем не следует обижаться. Руднева я давно уже знаю; папа его любит; он его лечил; мы вместе с ним за папа ходили… А вы мне совсем чужой. Зачем я вдруг стану с вами откровенна? Варя, а Варя, душка, спой-ка еще раз: «Того мне жаль, люблю другого!» Знаешь! Не ломайся, спой, голубчик мой.
– Не ломаюсь, не ломаюсь! – отвечала Варвара Ильинишна, подошла и запела.
Все умолкли, и все стали слушать, кроме раздосадованного Милькеева, который думал: «Однако она – кокетка, и бедовая! Никак это меня она хочет в жалкие произвести! Надо подумать, с которой стороны ее взять».
Варвара Ильинишна пела сильным контарльто а выражения страстного придавала даже слишком много, по мнению иных, но двое из присутствующих слушали ее песню с особым вниманием: Лихачев пригорюнился, не замечая сам того, на соседний стол и подтягивал вполголоса, не глядя ни на певицу, ни на других, а Богоявленский сложил руки на коленях и качался на стуле, опустив глаза в землю.
Когда она допела и, вставши с разгоревшимися щеками, оглянула всех сверкающими и чорными как угольки глазами, все захлопали в ладоши и благодарили ее, а Лихачев очнулся и, издали указывая ей на стул около себя, сказал:
– Варвара Ильинишна! присядьте.
Она села около него, и они пожали друг другу руки.
– Давно мы не видались, – начала она тихо, пользуясь тем, что все остальные опять зашумели и заспорили: что лучше – танцевать до ужина или в разные игры сыграть?
– Сама виновата! – отвечал Лихачев.
– Я? опять я! Господи!
– Ты, разумеется! Я говорил тебе, что я буду жалеть о прошлом – ты не хотела, чтобы я раскаивался; а теперь вышли все те несносные дрязги, которых я так избегал, все эти слезы, ревность, словом – скука.
– Знаю, знаю, что все отвратительно! Но я уже более не буду… Все пусть по-старому будет… Я много, а ты – хоть каплю.
– Бери, что дают, – отвечал Лихачев, – я, кажется, и сначала не притворялся и после ничего не обещал!.. Жалобы и раскаянье – пренесносные вещи!
– Еще какие несносные! Я это понимаю: стоит только на Алексея Семеныча посмотреть.
– Так мы с ним решительно соперники! Это интересно!
– Нет, ты не говори никому об нем… Мне сдается это так; а чорт его знает, может быть, он и не думает… Только ты не говори Милькееву своему, уж сделай одолжение… Алексея Семеныча и то здесь все не любят… Зачем же я буду еще терзать его… Ведь это уж свинство будет.
– Свинство, свинство, – отвечал Лихачев, – впрочем, Милькеев так добродушен, что если ему и сказать, он этим никогда против человека не воспользуется… Мне даже самому, если это правда, он будет больше нравиться: все-таки человек, значит, а не сухарь школьный. Пойдешь ты за него, если он посватается?
Выразительные глаза Варвары Ильинишны вдруг стали сухи и горды; она быстро встала и отошла прочь, говоря: – Давайте, ребята, в жмурки играть!
А Лихачев встал за нею и подумав про себя: «это уж лишнее! Вовсе нейдет!», сказал громко: – Нет, лучше в рублик! сидя.
Все сели и играли в рублик, все шумели, иные смеялись, иные только улыбались; Сарданапал кричал и хохотал так, что Анна Михайловна опять выбежала в испуге, а князь Самбикин и Полина увлеклись и вмешались в игру… Играли и шумели до ужина, пока Сарданапал не закричал: – Баста! Супе! Супе! Анкор, нельзя!
Но если бы кто мог во всей этой свалке жмурок, четырех углов, всего туалета и жгутов, при звоне колокольчика, с которым бегали по просторным и темным покоям, – если бы кто мог, я говорю, хоть на миг пронестись по всем этим молодым и разнообразным сердцам, на миг, на один миг разоблачить их – сколько бы смятенья и мучительных мыслей увидал бы он; услыхал бы мимолетные сомнения, внезапные вопросы без ясных ответов, узнал бы отважные надежды и горькие жалобы на судьбу.
– Довольно! Ужин кончен, и все едут!
Все друг за другом садятся в сани и мчатся во мрак от крыльца, а в ободранном доме один за другим гаснут все огни.







