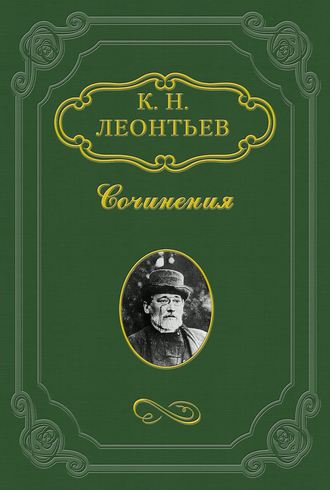
Константин Николаевич Леонтьев
В своем краю
II
И Милькеев стал меняться в последнее время. Давно уже дети жаловались, что он не играет и не шутит с ними и слишком много стал сидеть у себя и писать. Осенью он послал в Петербург большую статью об эманципации женщин, в которой старался доказать, что семейная добродетель не должна быть целью всех женщин; что свободу женщин не следует понимать только в виде равных прав и независимости труда; что прошедшие века, не рассуждая об эманципации женщин, создали Аспазию, Нинону, Марию Стюарт, которые так же необходимы, как и весталки и честные матери, и нам остается только не падать ниже прошедших веков. Перед Святками ему возвратили статью, отзываясь, что ее нельзя напечатать, потому что она вся пропитана равнодушием к злу и разврату.
После этого Милькеев еще чаще стал задумываться и, с удовольствием внимая шуму и смеху в зале, ходил по ней, заложив руки за спину и не принимая ни в чем участия.
– Вы начинаете у нас скучать? Как вам не стыдно! – сказала ему Новосильская.
– Вовсе не скучаю; а так, вдруг что-то дурно станет. Весной надо будет ехать в Москву защищать диссертацию. Здесь я забыл, что есть на свете заботы о насущном хлебе, люди, которые будут мне вредить и которым я должен вредить, чтобы они не забывались… Жутко станет!
– После этой диссертации можно опять к нам вернуться, – сказала Новосильская.
Предводитель, который был при этом разговоре, заметил: – А я так думаю, что с тебя довольно этой жизни. Заснешь ты тут. Еще полгодика, и марш!
– Не хочется ехать, – отвечал Милькеев, – здесь меня все любят, никто не оскорбляет…
– То-то и скверно, что никто не оскорбляет! – сказал предводитель.
Руднев тоже спрашивал у Милькеева: – Зачем вы хотите бежать отсюда? Куда вы торопитесь? Еще бы годик или два… Я верю в вашу звезду, – она не уйдет от вас.
– Вы верите, что я буду всегда так счастлив, как был счастлив здесь?
– Нет, я не в этом вижу вашу звезду. Я знаю, что у вас будет много горя впереди. Но зато вы везде будете нести с собой движение и полноту. Разве вы засохнете оттого, что останетесь здесь еще хоть год?
– Для кого, – спросил Милькеев, – теперь мне придется повторяться? Для вас? Я вас ввел в жизнь, – идите сами. Для детей? Мои семена уже брошены в них. Для себя? До здешней жизни, до этих лет, я не знал здорового счастья. Здесь я узнал, что такое нравственное блаженство в счастливой семье. Но цель нашей жизни не одно благосостояние; благосостояние должно быть только ночлегом для тех, кто хочет оставить по себе след. Целью нашей должно быть богатство идей, которое как тень остается в мiре после нас. Если человек сумел прожить ярко, то никакая гибель не убьет его лица! Погибнет тело, но лицо свершило свой круг – поднялось и исчезло, но след его пройдет… Многое я и сам понял здесь, чего не понимал прежде. Я понял, глядя на Новосильскую, что можно жить самому à la Dickens и понимать тех, кто живет à la Sand. Я понял, глядя на нее, что мечтательная душа может достигать результатов несравненно высших, чем натуры стойкие, если только она захочет внести начало пользы в свою жизнь. Все это я понял здесь. Все это так, но мне надо бежать!
– Разве его деятельность здесь не полезна? И разве человек не имеет права быть покойным? – спросила в другой раз наедине у старшего Лихачева Катерина Николаевна.
– Он, именно он не имеет права быть покойным! – сказал предводитель. – Здесь он перекипит бесплодно.
– А мои дети? – спросила Новосильская.
– Узко, не по нем шито! – отвечал предводитель. – Ведь это – эгоизм своего рода: заедать человека одною любовью и покоем. Учителем что ли ему навек остаться? Помилуйте, что это? Аполлон в пастухах у царя Адмета! Послушайте меня: та деятельность только практична и небесплодна, в которой примирены: правила рассудка, природные расположения и вкусы и личные обстоятельства жизни. Ясно?
– Ясно. Что же дальше?
– Ну-с, вот брат мой кутит с мужиками и любим ими, имеет много спокойной энергии, домосед, ума весьма положительного и острого, но до сих пор жил без правил и цели. Вообразим себе, что крестьяне отпущены, что учреждены новые должности на либеральном начале. Так вы как думаете, не может разве брат быть на своем месте, когда займет эту должность? А если местное самоуправление устроится, хоть к старости нашей, разве он еще не может вырасти на целую голову? Вот что я называю служить цельным убеждениям, составившимся из правил и вкусов, и только они-то и годятся; а натяжки все эти ни чорта не стоят; только на время годны для выработки. Понимаете?
– Для брата вашего понимаю, а для Милькеева нет.
– Брат мой – здоровый, густой портер, вот что такое мой брат! Пусть шипит медленно и густо, а ваш Милькеев – шампанское!
– Вовсе он уже не так пуст; вы видите, как он прилежно с детьми занимается; сколько дети в год успели; сколько он для себя кончил в эти полтора года, как он аккуратно высылал отцу семьсот рублей за тех людей, которых он взялся откупить; теперь только он все это кончил и стал задумываться… Может, и правда ваша, что ему нельзя быть всегда нашим учителем… Что же вы сердитесь? и барабаните пальцами по столу и за голову схватились…
– Да как же на вас не сердиться, Катерина Николавна! Посудите вы сами, что вы наговорили; слов множество, а без толку все. Исходная точка – фальшь. Не надо спешить и людей смешить. Слушайте обстоятельно.
– Точно ami Bonguars; недостает только рукой по столу методически пристукивать.
– Bonguars – почтенный человек. И я рукой буду пристукивать – слушайте. Милькеев ваш – шампанское и должен им быть; постоял-постоял, да и хлопнул; еще закупорился, и опять хлоп! Последнюю копейку ребром, как все нервные натуры. Но этим, сударыня, я не хочу сказать, что нервные натуры, то есть вы или Милькеев, истрачиваются навек от этих выходок. Нисколько. Напротив того, я этим подвижным людям приписываю непостижимую живучесть души; упал, устал, никуда не годится, кажется, разрядился весь. Глядишь, нет! Вынырнул, да еще и как! Где наш брат, солидный, размышляет, а он уж вон где! Кавалерия, одним словом.
– Вы кончили? – спросила Катерина Николаевна.
– Кончил.
– Теперь вы меня слушайте.
Она объяснила ему, чего она хочет для Милькеева: призналась, что те самые должности, которых ждет Николай Николаевич для брата, соблазняют и ее для Милькеева, что она готова купить или отрезать ему земли, если, как слышно, это будет необходимо и если он, конечно, согласится; что будет не одна такая должность, и все они вместе – предводитель, его брат, она, Милькеев и Руднев составят огромную силу в краю, – силу, которая и теперь уже заметна в частной жизни, а тогда будет еще действительнее.
– Я не говорила еще ему об этом, – прибавила она, смеясь и краснея, – а сама, признаюсь, уже заранее даже придумала, что сказать ему, если будет стыдиться взять землю… Я скажу ему: «Разве Маша или Федя обиделись бы и не взяли бы? И вы должны взять!» Не правда ли?
Предводитель встал, прошелся по комнате, постоял перед ней и, не сводя с нее глаз, повторил задумчиво раза три-четыре: «А, это статья другого рода! Коли так – это другая статья!» Потом простился и уехал; но проходя через залу, спросил у детей: – Где ваш Вася?
– Васька зазнался больно, – сказал Юша, – знать нас не хочет! Все с англичанкой читает какого-то осла Байрона!
Предводитель с братом были всегда хороши, никогда не ссорились; но мало говорили между собою дома и если говорили, то охотнее о разных случаях и слухах, чем о чувствах и мыслях. Старший Лихачев иногда скучал без Милькеева, с радостию выслушивал отрывки из его статьи и диссертации, поправлял кое-что, советывал, готов был всегда ему помочь. Милькеев внимал дельным речам предводителя с большим почтением и научился у него многому в течение года; говорил, что «от бесед с ним я стал ядренее». В общих спорах в Троицком, полушуточных или вовсе нешуточных, они были часто заодно. Предводитель нередко выпускал вперед Милькеева, а сам «крепил его тяжкой силой» какого-нибудь анекдота про губернаторов, про раскольников, про жида, про судью или про армейца дедовских времен и множеством других осязательных, практических сведений, которыми изобиловали его память и суровый ум. Когда он говорил: «Постойте-ка! Слушайте!» – Милькеев нередко охлаждал свою пылкость и слушал, как тот рубил, пристукивая по-бонгаровски ребром руки по столу.
– Государственное начало, сударыня, Катерина Николавна, извольте, прошу вас, отличать от общественного: нравы худые могут убивать хорошие учреждения, и наоборот: хорошие нравы умеют обходить худые учреждения. Так, например, у вас, несмотря на гнусное учреждение рабства, крестьяне бедствуют гораздо менее, чем свободные городские мещане, а дворовые живут лучше чиновников.
И хотя в словах предводителя нередко и нового было мало, но служебный опыт его, его начитанность, его медленная стойкость, самый бас его хриплый и таинственный – придавали столько веса и вероятия словам его, что и старое приобрело в его устах проникающую в сердце силу.
Иногда, наоборот, Милькеев говорил что-нибудь игриво или возражал Рудневу и Новосильской, кувыркаясь философски, и предводитель был так рад его ловкости, что спешил договаривать или повторять за ним слова.
– …Нагая динамичность французов сделала то, что их народность состоит в стремлении к совершенной безнародности!.. – замечал Милькеев.
– …Безнародности! – вторил с тихим удовольствием предводитель.
Многое, что было говорено предводителем брату, было не принято тем, но привилось Милькееву; многие из простых и ясных лучей предводителя, проходя сквозь Милькеевскую призму и разлагаясь на множество разноцветных огней, возвращались к молодому Лихачеву и находили доступ в его ум, менее солидный, но больше требовательный по тонкости, чем ум старшего брата, и предводитель с радостью стал замечать это возвратное влияние к концу второго года.
Александр Николаевич на предложение быть членом будущих мировых учреждений, не отвечал ему, как прежде: «Что это! Вдруг я сделаюсь гражданином. Совсем не к лицу!» Милькеев говорил ему не так, как предводитель; предводитель говорил грубо: «Что, брат, ты небо коптишь!», а Милькеев совсем иначе: «Ах! если бы я был такой домосед, как ты, и так бы был популярен, как ты, как бы охотно занял бы я эту должность… Сколько в этом и пользы, и движения, и чести, и поэзии. И твой вид, твое русское лицо, даже мускулы твои!.. Это – прелесть! Вся твоя обстановка, серый флигель твой озарятся смыслом…» – и Александр Николаевич задумывался над словами Милькеева, и он, который не давал себе прежде труда подумать, популярен ли он или нет и даже не знал, идет ли такое важное слово к его поведению и обстоятельствам, к нему, который сближался с народом только потому, что «дед-чудак – смешит, Арина отлично пляшет, а Марфуша удивительно мила, когда она в штофном сарафане и кисейных рукавах говорит ему: «ну, ты! за что это тебя барином только зовут! отпустил бороду, настоящий купец! поцалуй-ка меня, разнощик!» И Лихачев полусонным султаном цаловал ее, приговаривая небрежно: «Чорт знает, что ты городишь!» – этот самый Лихачев стал говорить: «А, пожалуй, что и недурно бы делом заняться!» «Молодец Милькеев», – думал предводитель, замечая перемену в брате. «Вот, если бы он только Nelly оставил в покое!.. Пока брат не женится – не будет толку!» С этого дня, в который Новосильская так ясно сказала ему, чего бы желала она для своего любимца, предводитель еще чаще стал повторять Милькееву: – Пора бы тебе, брат, перестать пасти овец у царя Адмета!
III
Отпраздновали новый год с друзьями. Все были веселы. Милькеев выпил лишний бокал и, поднимая его, сказал: – В сторону все серьезное; давайте нам женщин, вина, лошадей и музыку!
– Однако статью кончил прежде, а потом проклял науку… – заметил предводитель.
– Женщин, танцев и музыки недостает в этой жизни, – продолжал Милькеев, обращаясь к Новосильской. – Если вы искренно хотите, чтобы я остался здесь подольше, заведите у себя то, без чего жизнь похожа на обед без вина и десерта!
Другие поддержали его, утверждая, что в соседстве можно набрать много красивых девушек и женщин. Руднев похвалил Любашу и сказал Милькееву: – Это, мой отец, штучка хорошая. Вот бы вам заняться! Женились и остались бы навек у нас.
– Да, она ничего, – заметил младший Лихачов.
– И очень даже ничего, – прибавил предводитель.
– За чем же стало дело, Василиск? – спросила Катерина Николаевна. – Не пустить ли в ход кудри и убийственные взгляды?
– Можно! – отвечал Милькеев. – Сколько месяцев до лета? Январь – вздохи и вступление; февраль и половина марта – сильная дружба; половина марта и весь апрель – страсть; май – сомнения, борьба, разрыв, отчаяние и отъезд! Ура! Да здравствует Любаша, и пусть гибнет все, что напоминает Руссо, Адама Смита, Фурье и тому подобных извергов! Когда же первый вечер?
Новосильская просила дать ей обдумать, рассчитать расходы, приготовить наряды для Nelly, для дочерей и для себя; но на следующий день приехал князь Самбикин звать молодых людей к сестре, на обед и бал, и к себе на утро после бала на завтрак и folle journée с волчьей садкой. Он умолял также – нельзя ли отпустить с ними как-нибудь Nelly, и предводитель взялся быть ее отцом и дядей на эти два дня.
Руднев сразу обещал быть, нарочно, чтобы не очень просили и чтобы потом отозваться болезнью или неожиданным делом; но без князя вся троицкая семья уговаривала его ехать; дети говорили: «вы, Василек, нам расскажете много!» Однако он уступил только Милькееву, когда тот сказал: – Где же та дружба, о которой вы говорили? Вы находите удовольствие унижать меня контрастом между вашей солидностью и моей пустотой. Дайте мне вырасти немного от мысли, что и вы человек!..
– Ну, ну! – отвечал ему Руднев, – поеду с вами для того, чтобы видеть, как вы там будете витать!
– Не очень-то развитаешься, – возразил Милькеев, – когда знаешь, что первый слуга, который из дверей смотрит, спросит у другого: «Кто этот большой и косматый?» А тот скажет: «Троицкий учитель!» А все-таки поеду, несмотря на все страдания, которые буду переносить от этой мысли!
Князь Самбикин и сестра его Полина были близнецы и родились в ночь под 4-е января; поэтому они праздновали или 4-е вместе, или Полина 3-е, а князь 4-е, чтобы иметь случай веселиться лишний день. Протопопов любил покормить и попоить гостей, а Полина считалась всегда очень любезной хозяйкой и танцевать была сама большая охотница. Знакомы они были почти со всей губернией, и гостей с полудня у них уже было множество. Многие должны были остаться ночевать у них, чтобы вместе с хозяевами ехать на другой день тройками к князю в его еще недостроенный, но крайне красивый швейцарский chalet, которым он украсил неподалеку от материнской усадьбы горку, покрытую молодыми дубками.
Баумгартен, вполне счастливый и в белом галстухе, приехал вместе с Милькеевым, в троицких крытых санях с богатой медвежьей полостью; а Руднева привез младший Лихачев. Все они были представлены хозяйкой многим из гостей, между которыми особенно заметны были два военных генерала и один мрачный господин, с чорными усами и седой головой, недавно возвратившийся из Сибири. Княгиня Самбикина, мать Полины и князя, была тут; Воробьев, Сарданапал, предводитель, Авдотья Андреевна, Анна Михайловна, Максим Петрович и Любаша, и Сережа…
Максим Петрович сейчас же подошел к Рудневу и почти до самого обеда не отпускал его от себя; водил его в бильярдную, в кабинет, рассказывал ему, как он в Польше попал, во время ночного свидания, в такое место, хуже которого ничего быть не может на свете, показывал ему портреты родных и предков.
– Вот этот в пудре, граф***, – говорил он флегматически, – дальний, очень дальний родственник Самбикиным. Однако они его вешают везде.
– Гордый вид! – сказал Руднев.
– Гордиться нечем. Впрочем, это он дома так смотрел, а в Швейцарии его не то Массена, не то Макдональд распатронил так, что насилу ноги унес.
И, вздохнув, Максим Петрович продолжал: – Графы ведь у нас заведение новое. А князья у нас двух разрядов. Настоящие князья – варяжские; это сейчас слышно – от городов имена: Оболенский, Трубецкой, Мещерский, Звенигородский… Это – князья. А то еще есть Шах-мамаевы, да Хан-лакаевы, да Уланбековы, да Сумбекины; это – все восточные! Там, которые побогаче, хорошо живут; а победнее – медведей водят. Прошлого года один такой мурза пришел к нашему кузнецу с медведем… «Дай-ка, брат, я у тебя переночую»; медведя поводил по пчельнику, заклинания делал да два целковых с него взял. Пчелам это полезно. А пчелы-то у кузнеца через неделю и улетели; три роя пропало! – с злобной усмешкой прибавил старик.
– Я и то говорю княгине… (Вы княгиню Сумбекину знаете? – вот на диване с кольцами и оборками сидит, папироску курит) – я ей говорю: «а что, ваше с-во, Шах-Мамай тот, который у кузнеца нашего ночевал – не родня вам?» Не любит она этого! У них княжество и вовсе отнять хотели – все в Петербурге хлопотали…
Потом старик спросил у Руднева, будет ли он завтра у князя?
– Я думаю, не буду, – отвечал Руднев, – в Троицком и дома дело есть…
– Дело не уйдет, – сказал старик, – молодому человеку надо веселиться. У него домик славный. Дела у матери ихней плоховаты были. Она цветники разводить мастерица да колечки покупать, а насчет полевого хозяйства не так-то способна. Ну, так сын и поступил года на четыре в комиссариат, а тут война подоспела… Он – человек расчетливый, аккуратный, был смотрителем долго и поправил дела… Долги материнские позаплатил и домик этот вздумал строить… Посмотрите завтра. Со вкусом. А Любу мою видели?
– Видел, Максим Петрович!
– Говорили с ней?
– Нет, очень много народа было кругом.
– Конечно, на народе, что за разговоры. Вы – человек скромный. А танцовать ужо будете?
– Нет, я не танцую; не умею.
– Ну, что ж. Это ничего! Не всем же танцовать. Я и военный был смолоду, да не мастер на это был. Люба, а Люба, поди-ка сюда!
Любаша подошла…
– Ты доктора видела?
– Видела. Я никак не ожидала, что вы здесь будете, – сказала она, садясь около Руднева и пожимая ему руку.
Старик, как только увидел, что она села около Руднева, тотчас же ушел в залу. Но Руднев с Любашей еще не успели сказать друг другу и двух слов, как на хорах загремела музыка и все пошли обедать. К Любаше подбежал было князь Самбикин, но она уже прежде предложила руку Рудневу, и они вмешались в толпу.
Садясь около нее за обед, Руднев, по обыкновению, поколебался с минуту, но она сама указала ему на стул около себя и сказала: – Отчего же вы не садитесь? Садитесь. Руднев сел и молчал.
Любаша ела с большим аппетитом, съела три пирожка с супом и сказала: – Нравятся вам эти пирожки? Возьмите еще… Я от жадности взяла четвертый; возьмите его, если вам не противно, что я держала его руками… Впрочем, я его, пожалуй, на вилку надену сейчас… Руднев с удовольствием взял пирожок.
– Вы любите хозяйство?.. – спросил он.
– Не знаю… право. Занимаюсь дома чаем всегда. Кто же будет? Тетушка Анна Михайловна нездорова… Папа и бабушка оба любят, когда я наливаю чай… Говорят, что у моего чая особенный вкус… Вот и все мое хозяйство… А другого я ничего не делаю… Иногда охота придет с нашей Ульяной… Вы ее видели… смешная такая, и помните еще, вы что-то с глазом ее хотели делать… Только я думаю, ей, бедной, помочь нельзя… Нельзя помочь ей?
– Нет, у нее бельмо слишком застарело.
– Вообразите, это ведь ей Павлуша инбирю много в глаз вдул… (Любаша засмеялась и указала на Сарданапала) он все лошадей в полку лечил и ей вдул…
– Как же вам не стыдно смеяться? – позволил себе сказать Руднев.
Любаша покраснела и пожала плечами.
– Такая глупая привычка; я сама знаю, что это нехорошо. Только, как вспомню Павлушу и все его штуки…
– Вы начали говорить о хозяйстве… Вы говорили, что вы с Ульяной что-то делали…
– Ну, что! Это совсем неинтересно. Я хотела сказать, что помогаю ей варенье варить; летом обираю ягоды, невейку люблю делать… Ну, что тут интересного? Я бы вот лучше желала, чтоб вы с Павлушей познакомились поближе…
– Может быть, Павлуша не захочет со мной знакомиться.
– Полноте. Что за вздор! Отчего Павлуша не захочет познакомиться? Он вовсе не гордый. Да и гордиться ему нечем особенно. Скорей вы. Вы, вот, гордый… Сколько раз я хотела заговорить с вами, а вы все не обращаете на меня никакого внимания. Помните?
Руднев засмеялся.
– Да что вам во мне? – сказал он.
– Нет, вы мне понравились… Я слышала тоже об вас много хорошего. Хотела с вами сойтись. А вы, я думаю, думали: «Какая противная, скучная деревенская барышня!..» А! Признайтесь, думали? «Что я с ней буду говорить…» Думали?
– Думал, по правде сказать.
– А теперь, что думаете?
– Думаю, как Баумгартен прав, что недавно начал роман под заглавием «L'apparence trompe!..» – Вы разве говорите по-французски? Руднев захохотал и отвечал ей: – Нет, не говорю, а на что вам?..
– Я так и думала, что вы не говорите… А вот это «L'apparence trompe» вы произнесли хорошо… Я тоже не очень хорошо говорю по-французски… У нас жила одна m-lle Feloux… Только она пила, часто была пьяна; бабушка ей отказала… Я у нее училась… Перевожу, читаю иногда…
– Много читаете?..
– Нет, не очень много, – серьезно ответила Любаша, – то лень, то некогда, то книг нет… Да я как-то французских романов не люблю… Я больше люблю наших писателей. У наших как-то проще все… Наше такое понятное…
– Жорж-Занда читали?
– Нет; говорят, она такая безнравственная… Все против семейства писала… Ничего, говорят, у нее святого нет… Лихачев давал мне раз один роман читать, я не помню его названия. Только я не дочла: слишком уж серьезно…
– Вот вы какие, – вы ничего серьезного не любите, все веселое… Так как же вы хотели со мной подружиться, когда во мне веселого нет ни на грош?
– Я людей серьезных уважаю, – отвечала Любаша, – я не люблю книг серьезных…
– Отчего же это такая разница?.. Бедные авторы серьезных книг!.. – воскликнул Руднев громко… Он так увлекся, что не почувствовал, как прошел обед; уже подавали жаркое.
– Объясните же теперь, отчего эта глубокая разница? Отчего вы любите серьезных людей и не любите серьезных книг?
– Я не говорю, что я люблю серьезных людей; я говорю, что я уважаю только их. Вовсе не трудно понять отчего, – отвечала Любаша… – Человека я могу издали уважать, буду смотреть на него и уважать, или изредка буду говорить о чем-нибудь, а книгу нельзя так издали уважать… надо ее ведь прочесть, чтобы уважать… Ну, и скучно… Я очень неразвита! Где мне было развиться! Папа добр. Только вы видите, какой он… Ну, бабушка – старый человек, тетушка Анна Михайловна тоже.
– Вот, если вы хотите развиться… вам лучше подружиться с Милькеевым, а не со мной; он как раз разовьет вас; а я не сумею…
Любаша поглядела на Милькеева, который на другом конце стола благосклонно разговаривал с седым генералом, и отвечала: – Он мне не нравится; он, кажется, много о себе думает… Так нейдет! Разыгрывает из себя такого светского человека. Положим, он собой молодец, хорош… Ну, вот, посмотрите, как он лорнирует барышень!.. Как я не люблю, кто о себе так много думает… И даже к должности его совсем это нейдет…
– Вот уж это странно! – возразил Руднев.
В эту минуту все встали с бокалами, и смуглый генерал, который сидел около хозяина, сказал громко: – Здоровье Пелагеи Васильевны Протопоповой!
– Здоровье Александра Васильевича! – закричал хозяин.
– Князя Александра Васильевича Самбикина! – перебила сама княгиня, привставая и протягивая с улыбкой бокал в сторону сына.
Музыка гремела; все чокались; князь покрыл руки матери поцалуями.
– Теперь вместе, за здоровье близнецов и вечную дружбу между ними! – сказал кто-то вдали.
Музыка опять заиграла, и опять загремели стулья.
– Не стоит и пить за это! – заметил другой гость, когда шум утих. – Близнецы, известно, всегда дружны… У меня были два знакомых брата…
– Может быть, братья и живут хорошо, – перебил как можно громче Максим Петрович, – а вот если брат с сестрой близнецы, так те не так-то ладят!..
Авдотья Андреевна покраснела; Анна Михайловна затряслась; князь опустил глаза; княгиня презрительно взглянула; хозяин нахмурился; Любаша тихо засмеялась; многие гости захохотали громко.
– Что это такое? – спросил Руднев у Любаши.
– Папа чудак! – отвечала она, – что вздумает, то и скажет. Княгиня Самбикина дочери не любит; князь – ее фаворит; княгиня, князь, бабушка, тетушка Анна Михайловна – это одна партия; а Платон Михайлыч и Полина – другая. А папа ни к кому не принадлежит: всех бранит; только бабушку не бранит, уважает. Он говорит – Полина не хочет, чтобы князь женился, потому что Коля после него наследник. А у бабушки и у тетушки с Платоном Михайлычем уже давным-давно были ссоры, из-за имения что-то! Как все это грустно, Василий Владімирыч! – прибавила она с веселым лицом.
– Это правда! – сказал Руднев. – Да вам-то что ж! Вы всех их любите?
– Мне-то никто из них не противен… Как-то нет-нет, да и пожалеешь всех!







