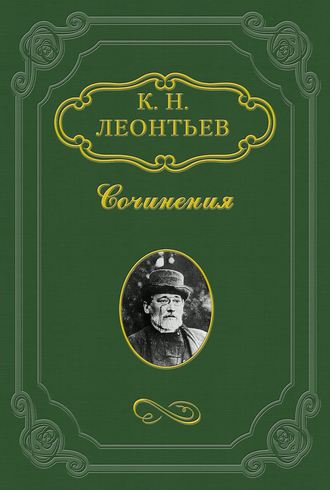
Константин Николаевич Леонтьев
В своем краю
V
Заметив, что Милькеев танцовал мазурку с Любашей и был очень оживлен, а Руднев за обедом сидел около нее и тоже был оживлен, Полина Протопопова стала думать об обоих молодых людях и, сравнивая их между собою, казалось, решала, который лучше годится в мужья Любаше. Милькеев, конечно, виднее, смелее и развязнее; дай ему состояние, так он был бы вполне светский человек; Руднев застенчив, не дворянин, но зато имеет верные доходы, ремесло и гораздо, кажется, добрее и солиднее. Она передала свои мысли мужу, когда осталась с ним наедине. Но в муже проснулась на минуту родственная гордость.
– Ну вот, какие же это женихи для Любаши! Милькеев, конечно, молодец и в компании славный малый. Я сам люблю слушать, когда он спорит или рассказывает. Да что ж… ветреный и пустой человек. В двадцать шесть лет с своими способностями, связями и образованием никакой карьеры не сделал… Домашний учитель! Это смех! А тот не Дворянин и бедный лекаришка, хоть и солидный человек.
– Я сама нахожу, что Руднев надежнее Милькеева и вообще, как жених, лучше; а что он небогат теперь, так это ничего не значит: ему всего двадцать четыре года; после дяди у него будет деревня; практика будет со временем большая. А что он не дворянин, кто ныньче на это смотрит! Нет, я бы желала его сблизить с Любашей.
– Да это, впрочем, твое дело, – отвечал муж, – . мне, право, все равно. У нее есть отец, бабушка, тетка… А о брате едва ли стоит тревожиться… он, кажется, вовсе не сильно влюблен в нее…
На утро после бала Полина с Любашей поехали вместе к князю Самбикину, чтобы помочь ему по хозяйству. Они вместе расставляли букеты в вазы для украшения стола, и Полина сказала Любаше: – А что, Любаша, замуж не пора тебе? как ты думаешь?
– Отчего ж! – отвечала, смеясь, Любаша. – Всем замуж надо! Одна тетенька Анна Михайловна не вышла. Только я знаю, что не придется мне выйти за человека, который мне нравится…
– Отчего?
– Приданого нет. Даст бабушка или нет, это ее воля… По ее вкусу жених – даст, не по ее – не даст!..
– Бедной еще лучше выходит замуж, – сказала Полина, – знаешь, по крайней мере, что берут тебя, а не деньги…
– Это правда, – отвечала Любаша, – да если за бедного же выйти, каяться после? – Я хочу веселиться, а тогда что я буду делать?
– А богатый разве не найдется? – спросила Полина, – вот брату, кажется, ты нравишься…
Любаша покраснела.
– Может быть, я ему и нравлюсь. Да ведь он без спросу княгини не женится. А княгиня разве на такую невесту для него рассчитывает?
– Маменька сама не знает, чего хочет. Брату бы вовсе не надо жениться. Его всякая жена за нос будет водить. Еще тебя, Люба, мы знаем; ты добра… А другая – избави Боже! Впрочем, брат – такая флегма, что из этого никогда ничего не выйдет. Он будет рассчитывать; а у маменьки на одной неделе семь пятниц! А что ты думаешь о Милькееве?
– О Милькееве? Ничего еще не думала. Говорят, он очень умный… Я не знаю.
– А Руднев?
– Руднева я люблю. Такой он добрый и милый… И уморительный какой. Лихачев рассказывал мне, что он сделал раз от стыда в Троицком. Он Nelly боится, потому что по-французски не знает. Дети ее подговорили, чтобы она сама пригласила его танцевать; он хотел от нее в двери – дети не пустили; все кричат. У них в зале есть гимнастика – он на веревки влез и качается наверху. Однако сошел танцовать, все внизу стояли и звали его по-французски.
– Да! он уж слишком застенчив, – заметила Полина. – Это пройдет. Я уверена, что он будет со временем отлично жить…
Через полчаса Полина, увидавши, что мать ее, разодетая, выходила из сыновнего кабинета с раскрасневшимся лицом и кричала что-то, спросила у нее: – Что с вами, maman?
– Опять Афроська, ma chère amie, зазналась!.. Расфуфырилась, как червонная краля, и сидит в передней с лакеями кокетничает, вместо того, чтобы помочь Наталье меня одеть. Как можно – возлюбленная князя Александра Васильевича! А этот слабый, слабый человек! Никем не в состоянии управлять! Вот тебе рука моя, что он женится на ней; я с ума схожу от этой мысли и готова была бы хоть сейчас его с кем-нибудь обвенчать!
– Вот уж с этим я не согласна, maman! Бог знает, еще какая жена попадается! Брат так осторожен и расчетлив, что никогда не решится жениться на Афросинье. Да и разве он так сильно привязан к ней?! Все молодые люди это имеют, и с ней нам всегда легко будет справиться и найти ей место; а с женой что сделаешь, если он будет несчастен? Счастливых партий так мало!
– Это правда! – отвечала мать. – Но что ж делать – эта связь меня бесит! Я так люблю его и так всего за него боюсь… Ну, и она не должна зазнаваться…
– Не беспокойтесь, не беспокойтесь, ради Бога, сегодня, maman! Слава Богу, мой вчерашний бал удался и сегодня надо всем быть веселым…
Полина пошла к Афросинье и так пристращала ее, что та сейчас со слезами пришла просить у барыни прощенья, что не догадалась прийти помочь ей одеться. Княгиня успокоилась и сказала себе: «Правда, рано еще ему жениться!» Несколько больших саней тройками и беговых на рысаках и иноходцах подъехали друг за другом к крыльцу. В числе приезжих был и Богоявленский; его привез с собой Сережа по настоятельной просьбе князя. Подали кофе, и князь объявил, что волк уже снесен с горки на открытое поле, и многие из гостей поехали прямо туда, в том числе младший Лихачев и Милькеев.
Волк, огромный и свежий, был принесен в большом ящике, вроде мышеловки с подъемной передней стеной. Все собрались за ящиком; псари держали собак. Александр Лихачев распоряжался садкой.
Милькеев, в новой чорной дубленке и хорошей боярке, помог Любаше выйти из саней, взял ее под руку, повел к ящику и любовался на нее, не думая ни о садке, ни об общественных вопросах.
– А если волк на нас выскочит? – спросила, заманчиво поглядывая на него, Любаша.
– Я не боюсь! – отвечал Милькеев, – он мои сапоги и мою дубленку не скоро прокусит…
– Что мне за дело, что вы не боитесь! Я боюсь, – возразила Любаша. – Зачем вы пистолета не взяли с собой?
– Я боялся быть похожим на Чичикова, который в дорогу возил с собой саблю для внушения страха кому следует.
– Кто это такое Чичиков? Не здешний? – спросила Любаша.
– Отчасти и здешний. У Чичиковых родство большое. А Гоголя вы знаете?
– Гоголь полицмейстером, кажется, в Петербурге был. Одна моя знакомая вышла за его дальнего родственника. Ах! смотрите, смотрите! Ящик открыли. Выскочит сейчас, выскочит!.. – закричала она без испуга и взяла Милькеева за руку.
Это движение так понравилось. Милькееву, что он желал бы в эту минуту иметь оружие и пять волков перед собой, чтобы защищать ее.
Смущенный волк выбежал из ящика, оглянулся на толпу и собак, которые рвались со свор, и пустился по полю вдаль. Когда, выждав немного, спустили собак, все ринулись за ними кучей и с криками – дамы, мужики, охотники, мальчишки…
Милькеев не бежал: ему хотелось побыть подольше с Любашей; взяв ее под руку, он шел за. другими большими шагами, и Любаша насилу поспевала за ним.
Толпа остановилась, и раздались новые крики. Протеснившись вперед, Любаша и Милькеев увидали окровавленный снег и волка, который боролся с собаками. Весь зад был оборван, и кожа висела клочьями…
– Какая жалость! – воскликнула Любаша, – зачем это так много собак напустили! Посмотрите-ка, кто стоит перед нами, по ту сторону! – прибавила она, указывая вперед.
Перед ними стоял в теплой шинели и старой шапке Богоявленский; он криво усмехнулся, заметив движение Любаши, и спросил у Сережи: – Это кто ж этот лихач-кудрявич с твоей сестрой? Уж не Милькеев ли?
– Он, – отвечал Сережа.
– Красивый зверь! – сказал Богоявленский. – Да полно тебе Сергей, улюлюкать… Помещичья кровь взыграла. Глядя на этого волка, я подумал, знаешь что? Что серый, злой, израненный волк – это я. А псы…
В эту минуту псарь Лихачева хотел подойти с кинжалом, чтобы сесть на волка и заколоть его; но волк рванулся, хватил за нос одного борзого, щолкнул зубами и кинулся назад в ту сторону, где стояли Богоявленский и Сережа.
Все расступились; но Богоявленский не шевельнулся, а только махнул рукой на волка, надеясь его испугать… Один миг – и волк схватил его за руку…
Закричали все, бросились… Богоявленский со злобой бил волка по голове свободным кулаком. Лихачев вынул пистолет и размозжил зверю череп.
Окружили семинариста, приложили снег на окровавленную руку; Любаша перевязала ее надушенным платком своим и сказала ему с улыбкой: – Вы, однако, не очень испугались!
– Рука не голова-с, Любовь Максимовна! – отвечал семинарист, – да и голову-то разве уж стоит так жалеть? Зубы – вот досадно – у него большие… Больно укусил, проклятый!
– Какой энергичный хам! – шепнул Лихачев Милькееву. – Говорят – радикал в своем роде. Жаль только, что наружностью похож на озябшего дождевого червя…
– Пойду познакомлюсь с ним, – сказал Милькеев. – Я его в первый раз вижу.
Он догнал Сережу; заговорил сперва с ним, а потом с раненым радикалом и спросил у него – отчего он не был вчера у Протопоповых?
– Фрака нет! – отвечал Богоявленский. – Сшить фрака не на что. Да и сюда-то я уж так… по неотступной просьбе Самбикина приплелся. Не следовало бы…
– Отчего?
– Вот Сергей знает… Маменька ихняя, княгиня Самбикина, очень знатны, брезгливы… С полгода тому назад в Чемоданове у них за обедом кричала-кричала на семинаристов и на всех простых людей. Даже героические кости Дениса Давыдова в гробу шевелила: «мошки да букашки, говорит, полезли из щелей…» У меня тогда, от неопытности, голова разболелась; из-за стола вышел. Ну, а князь зовет; клянется, что надо простить старушке отсталость…
Обидите, говорит, меня. Человек сладкий; на что ж его обижать!
– Конечно, нарочно бы надо приехать. Кто ж смотрит на эту бедную княгиню? Я даже и лица ее до сих пор не разглядел, – отвечал Милькеев.
Они пошли пешком до дому и всю дорогу разговаривали: Милькеев – интересуясь идеями Богоявленского, как проявлением лица, а Богоявленский – насильственно примирясь с молодцеватыми и театральными формами Милькеева, за те идеи, которых он ожидал от человека, пославшего, как он слышал, в Москву статью в пользу эманципации женщин.
– Что ты в нем открыл? – спрашивал после младший Лихачов у Милькеева.
– Я вспомнил Хавронью Крылова, – отвечал Милькеев, – которая кроме грязи ничего не нашла на барском дворе. Но с другой стороны, думаю, что никто лучше этих людей не сумеет разрыть этот двор так, чтобы на нем выросло что-нибудь роскошное, чего они и сами не ожидают. Только прошу, не передавай моих слов никому; я хочу сохранить с ним хорошие сношения.
VI
С волчьей садки все вернулись бодрые и голодные. На большом столе покоем, рядом с вазами, полными цветов, уже стояли груды ростбифа и котлет; люди разносили в чашках бульон. Поели и выпили. Заиграла музыка; Милькеев стал танцевать с Любашей.
– Вашего поклонника нет, – сказал он ей.
– Кого, Руднева? – спросила она, оглядываясь вокруг.
– Отчего вы не боитесь так прямо говорить? Немногие девушки так откровенны; мне это нравится.
– Зачем я буду скрывать, когда я не чувствую ничего особенного? – отвечала Любаша. – Если бы я была влюблена в него или в другого, я бы, может быть, стыдилась… Да и то нет – я думаю…
– А в вас никто не влюблен?
– Нет, я вам скажу правду: я нравлюсь одному человеку, и он мне… Только из этого ничего не выйдет – он здесь.
Милькеев вздрогнул, но пересилил это внезапное движение и продолжал: – Нельзя ли указать? Хороший случай доказать вашу откровенность.
– Поищите, угадайте сами… Я вам скажу, если угадаете…
– Лихачев?
– Нет! Отчего он первый вам пришел в голову?
– Оттого, что по-моему он лучше всех: красив, ловок, умен, молодец…
– Тоже и у него есть большие недостатки… Манеры слишком гордые, потом язык злой – я этого не люблю, и еще один недостаток…
– Какой это?
– Вы сами знаете… Он пьет часто и даже с крестьянами…
– Это-то и хорошо. Жаль, что вы не цените его! Да об нем мы поговорим после… Кто же еще? Этот улан, который так хорошо все танцы танцует?
– Ну, вот! Я его всего второй раз вижу…
– Разве сразу нельзя влюбиться? Поверьте мне, что можно…
– Не знаю; только не он.
– Этот молодой человек с красивым носом, который давича долго говорил с вами?..
– Он мне двоюродный брат; я за него замуж не могу…
– Разве нельзя влюбиться в того, за кого замуж нельзя? – с удивлением и любопытством спросил Милькеев.
– Зачем же, из чего я буду хлопотать? Вы не знаете Вареньку Шемахаеву – сестру Павлуши, вот что Сарда – напал… Его сестра Варенька два года как влюблена в Лихачева… А он не хочет жениться… Она плачет; сюда не приехала нарочно, чтобы не встретить его. Разве это приятно? Посудите сами…
– Вы очень положительны, я вижу, – продолжал Милькеев. – Кто же? Жаль, что я многих здесь не знаю…
– Нет, вы его знаете.
Милькеев думал и осматривал всех.
В эту минуту князь Самбикин закричал, глядя на Любашу: «Les dames en avant!» Любаша улыбнулась ему.
– Уж, конечно, не Самбикин! – сказал Милькеев.
– Отчего не он? – спросила Любаша.
– Лицо, положим, красивое, – отвечал Милькеев, – но вялое такое. Глуп; как будто добрый; а я из верных рук знаю, что мать скажет: «бей людей» – он бьет; мать скажет: «секи!» – он сечет.
– Он очень любит мать, – возразила Любаша. – Если бы не он, княгиня теперь нужду бы терпела, а он ее дела поправил.
– А вы думали когда-нибудь, какими средствами он это сделал? Ведь здесь, где мы с вами танцуем – каждый ореховый стул, каждая чашка чаю украдены у полумертвых на Кавказе и в Крыму.
– Богоявленский то же говорил мне, – отвечала Любаша. – И я после спросила раз у князя, что он делал в комиссии; он покраснел и говорит: «конечно, говорит, были выгоды, только я, говорит, добр и никого никогда не обижал. А возьму, например, половину капусты себе; если давать щи, как казна отпускает, так уж будет очень густо!..» Он хочет, как только устроит все – на бедных пожертвовать тысячу рублей, чтобы совсем совесть была покойна.
– Grand rond! – закричал князь.
– Какая скотина! – сказал Милькеев.
– Что с вами? Что вы так просто бранитесь? – с удивлением спросила Любаша.
– Да разве только для того, чтобы не вредить, не надо было трогать эту капусту? – спросил Милькеев. – Не надо бы к ней прикасаться, чтоб самому не быть грязным. Есть своего рода душевное comme il faut, которое этого требует. Не всякий вред грязен, и не всякое добродушие чисто!
– Очень жалко, очень жалко! – прибавил он, возвращаясь на место.
– Что жалко? – спросила Любаша.
– На вас смотреть жалко… Много хорошего вам судьба дала; а еще было бы лучше, если бы семена добрые посеять… Лицо у вас красивое…
– Говорят, у меня нос слишком горбат, – заметила Любаша, проводя рукой по носу.
– Да! вот и это невинное кокетство кстати! – продолжал Милькеев. – Только видите ли что… Можно все вам говорить?
– Можно!
– Если бы вы убежали с Лихачевым или с Рудневым и никогда бы не вышли замуж, так можно бы вас было, пожалуй, еще уважать. А будьте вы самой доброй женой такой дряни, как этот князь, вы этим самым замараетесь и унизитесь… Женщин не только за то следует уважать или презирать, что они делают, но и за то, с кем они что делают. Подумайте дома; пошевелите у себя на сердце, и вы меня поймете. А главное, вам надо познакомиться с Новосильской, ездить к нам в Троицкое и, поверьте, через месяц вы будете думать так, как я вам теперь говорю!
Любаша отвечала, что она сама бы очень желала бывать в Троицком, но не знает, как это сделать, и Милькеев обещал употребить все усилия, чтобы сблизить ее с графиней.
К вечеру все разъехались. Милькеев всю дорогу при Nelly говорил, что Любаша – прелесть; и Nelly много смеялась, когда Милькеев рассказывал, как он уничтожал и позорил хозяина, у которого они так много ели и веселились. Баумгартен почти не слушал его: он был покойнее обыкновенного; Nelly выбрала его при всех раза три в мазурке, и теперь он обдумывал стихи на первый выезд ее в свет. Пока ему нравился только припев, которым кончались все куплеты: Oh' ma Sylphide, Veux-tu un quide? Me voici!
VII
После обеда у камина Катерина Николаевна села вдвоем с Nelly. Милькеева не было дома: он уехал в первый раз к родным Любаши. Дети играли в зале под присмотром француза.
– Что, отдохнули вы от бала? – спросила Катерина Николаевна.
– О, да, – отвечала Nelly.
– От души танцевали и много?
– Много!
– Я у вас еще мало расспрашивала. С кем вы танцовали первую кадриль?
– Ах! с m-r Bongars, – отвечала, смеясь, Nelly.
– Для этого не стоило ездить, – сказала Катерина Николаевна, – по крайней мере, другой раз были счастливее?
– Вторую танцевал со мною m-r Лихачев и один lancier и мазурку, и вальсировал со мною много.
Катерина Николаевна пристально глядела на тихую девушку, сгорая желанием узнать, что она думает и чувствует.
– И весело было? – спросила опять она.
– О, да, очень весело! – спокойно отвечала Nelly.
– Оживились вы немного?
– Не знаю! Самой этого видеть нельзя никак. Не думаю, впрочем. M-r Лихачев смеялся даже надо мной и сказал, что танцевало только тело мое, а не душа.
Катерина Николаевна рассеянно улыбнулась и переспросила.
– А мазурку, вы говорите, танцевали с меньшим Лихачовым?.. А гросфатер был?
– Был, я его танцевала с князем Самбикиным. Это очень забавная вещь – этот гросфатер. Я его нигде, кроме России, не видала.
– О, так у вас все хорошие кавалеры были! А если я у вас спрошу, Nelly, откровенно одну вещь, вы скажете?
– Если могу – с удовольствием.
– Скажете? Ведь ваша мать просила меня быть с вами как с дочерью… Это, конечно, ничего не значит… Самую снисходительную мать редко дочь выберет в подруги. Но вы ведь мне не дочь и тем лучше, все-таки я вам желаю всего лучшего от души… Скажете правду?
Nelly поблагодарила и обещала сказать правду.
– Кто вам больше нравится – Лихачев или Милькеев?
Nelly покраснела и пожала плечами.
– И тот и другой, и ни тот ни другой, – отвечала она, подумав.
– Как так? Это интересно. Скажите обстоятельнее, как это?
– Я не люблю брюнетов, – сказала Nelly.
– Значит, наружность Лихачева для вас лучше.
– О, да! он лучше.
– Еще чем он лучше? Если бы вы только могли знать, какое вы наслаждение доставляете, когда говорите; говорите больше!..
– Неужели? – спросила Nelly с удивлением и отвечала, – если вас это занимает, я постараюсь вам сказать побольше. Лихачев танцует гораздо лучше; Милькеев уж слишком высок, с ним неловко.
Nelly приостановилась, но Катерина Николаевна с беспокойством взглянула на нее, и Nelly продолжала: – Теперь что следует – ум? Я гораздо больше серьезных вещей слышала от Милькеева, но мне кажется всегда, что если бы m-r Лихачов не был так ленив, он мог бы столько же говорить хорошего, сколько и тот…
– Знаете, я сама это думаю! И остроумны они оба, только на разный манер… Ах! как я рада, что вы согласны!.. Еще что?
– Еще что? – продолжала Nelly. – Лихачов, мне кажется, надежнее Милькеева, – (но заметив, что по лицу Катерины Николаевны пробежало что-то), прибавила с поспешностью, – я думаю, что Милькеев способен быть твердым во всем благородном, во всем добром; но как это сказать, не знаю, ему, кажется, так скоро все может надоесть… Il a, je pense, la tournure d'esprit plutôt allemande, mais le caractère un peu franèais… C'est tout le contraire de l'autre, qui a l'esprit plus léger, mais le caractère plus solide…
– Это великолепно! что вы сказали сейчас, – с удивлением воскликнула Новосильская. – Какая это правда! Ах, какая это правда!
После этих слов Новосильская задумалась так, что забыла о присутствии Nelly. Nelly молча поправляла щипцами дрова. Наконец Катерина Николаевна пришла в себя и спросила: – Ну, скажите… а если бы, положим, необходимость заставила бы вас выбирать из них двоих для себя, кого бы взяли? Вы мне простите этот вопрос…
– Кого бы я взяла? Я никогда не думала об этом, – отвечала Nelly, краснея.
– Это искренно?
– Как же мне думать об этом… Я не русская; мне никогда в голову не приходило прожить всю жизнь в России… хотя я русских очень люблю.
– А если бы пришлось вам выбирать непременно?
– Если бы это случилось, я бы желала смешать их вместе, – отвечала Nelly, – волосы и черты Лихачева, его постоянство, его спокойные манеры, а у Милькеева взять глаза, его познания, его веселость и предприимчивый нрав… С Лихачевым таким, какой он теперь, мы бы заснули.
– Вы думаете? – сказала Катерина Николаевна, продолжая подозревать, что Nelly не договорила до конца правду.
Больше ничего она не стала добиваться, несмотря на все муки любопытства, надеясь, что постепенно скорее узнает все, и полагая, что первый шаг уже сделан.
«И тот и другой; ни тот ни другой». И это на первый раз хорошо. Все-таки оба ей нравятся!» Катерина Николаевна, оставшись одна, долго думала, помогать ли Милькееву, пригласить ли Любашу или нет?
Он так хвалил ее на разные лады, что Новосильской самой захотелось познакомиться с такой милой девушкой.
– Она не идеальна, – говорил Милькеев, – это чисто русская красотка, из веселых… Когда я думаю, что в старину жила точно такая же Любаша русая и белая, румяная, сытая и рослая, стройная белоручка – так я вовсе не воображаю ее себе в тереме, вечером, у окна, задумчивою при лунном свете, как Светлану, а представляю ее себе в роще с кузовком за ягодами или с плетушкой за грибами: хочу, чтобы она непременно покрылась платочком, чтобы черемуха и калина цвели в роще и чтобы ветер играл ее платочком; чтобы она смеялась и любя, смеялась и хозяйничая, пела и смеялась. Крылов назвал ямочки на щеках красавицы «умильными». У Любаши все лицо умильно. И что за коса! И как она танцует хорошо! И как проста в движениях и словах! И как мне нравится, что у нас в России, рядом с правильным воспитанием, существует неправильное. Она читала иных новых авторов наших, а не знает, кто такой Гоголь! Надо постараться, чтобы она перепрыгнула прямо из природного добродушия в прочное сознание добра.
Полагая, что намерения его непорочны, Катерина Николаевна решилась помогать ему. Но как сделать это поприличнее? Она так давно жила в отдалении от всех соседей и кроме Лихачевых и старого Руднева ни с кем почти не видалась. Поехать прямо к бабушке не хотелось: женщина эта была известна по всему околодку своей жестокостью, и самый ум ее имел неприятный оттенок хитрости и злости. Анна Михайловна тоже не могла нравиться Новосильской. И если бы еще не было детей!.. Но вводить часто в свое семейное святилище людей, которых присутствие было бы пятном на троицкой жизни, ей казалось даже непозволительным. Протопопова сделала ей когда-то визит, и она его не отдала ей. Протопопова, которой муж был шесть лет губернским предводителем, которая всегда первая на губернских балах, во время проезда царской фамилии танцевала польский с государем – теперь без визита с ее стороны не поедет! И зачем допускать к себе ложную светскость! Женщина эта так пуста, так неприятна! Уж лучше тетка Любаши. Эта хоть и недобра, но стара, смешна и здесь от благоговения и благодарности будет безвредна. Она еще раздумывала, как вдруг Баумгартен подвинул ее на решение.
Бедный француз, по-прежнему, часто тосковал; бал развлек было его на один день; но там, несмотря на всю любезность хозяйки, он играл неблистательную роль, не ту, которой он считал себе достойным. Милькеев был по-прежнему не только учтив с ним, но даже внимателен; из всех сил принуждал себя быть гуманным и выслушивал по целым часам его жалобы на Nelly и его рассказы о прекрасной жизни в Celesta, но не мог никак угодить ему. Милькеев иногда нарочно отдалялся от Nelly, чтобы доставить ему удовольствие, но и здесь Баумгартен ловил его: «Ah! je le prends! – говорил он ей, – он нарочно удаляется от вас, чтобы заставить себя сильнее полюбить».
Nelly выходила из себя, просила его оставить ее только в покое… «Grâce! Grâce! – говорила она, – покоя, только покоя!» – Это ваш квиетизм! – твердил Баумгартен, преследуя ее по зале со скрипкой в руках, – правила общежития важнее вашего покоя. Если у вас нет любви, будьте, по крайней мере, вежливы, сострадательны.
Всплеснув руками в отчаянии, Nelly уходила к себе, а Баумгартен бросал детей, бежал в свою комнату и плакал на кровати.
Не раз уже жаловались тот и другой Новосильской, не раз уже она мирила их, убеждала его быть благоразумным, а ее терпеливее; просила их, наконец, не нарушать покоя в ее доме, для нее, которая дорожит ими обоими; но, наконец, принуждена была сделать строгий выговор Баумгартену и сказать ему, что этим он ни до чего не достигнет, а только все больше вооружит ее против себя.
Француз с горечью объявил, что или ее, или его не будет в доме.
– Я ее не отпущу от себя, – холодно возразила Новосильская, и Баумгартен, который не хотел без капитала вернуться в Celestà, испугался и был потише. Но ведь и его было очень жалко, и Катерина Николаевна старалась утешить его, чем могла: приглашала его по целым часам аккомпанировать себе на скрипке, внимательно слушала отрывки из его романа: «L'apparence trompe», поправляла ему этнографические ошибки (например, по всей России нет ménétrier du village и потому мужики на постоялом дворе не могли спорить, кто лучше играет на скрипке, он или le ménétrier du village)… кормила его почти каждый день яичницей, подарила ему голландского полотна на двадцать четыре рубашки. И он принимал все это с благодарностью, с радостью, казалось, забывал на миг о Nelly и говорил только, что хорошо бы отдалить от нее Милькеева avec son Эжель et son égotisme, я не смею сказать «эгоизм»!
– Теперь, – говорил он, – у меня к ней только дружба, она упала в моих глазах; я только жалею ее, как одинокую и неопытную девушку…
Но Катерина Николаевна не могла положиться на это; в октябре и ноябре он делал предложение и получил отказ; в декабре помирился на дружбе; в феврале уже опять начинал слабеть и писал к отцу Nelly; в марте получил и от него отказ за то, что он католик; опять влюблялся до того, что рыдал и не спал ночей. Положение его было тем более трудно, что нельзя было заставить Nelly быть добрей к нему, потому что Баумгартен, при малейшей любезности с ее стороны, начинал очень свободно обращаться с ней: при всех хлопал ее по плечу, а наедине брал ее за руку и говорил, протягивая к ней бороду: «allons-donc – будем счастливы!» И вот… не успела Nelly уйти в свою комнату, как Баумгартен вошел в кабинет, сел против Катерины Николаевны и, краснея, достал из кармана исписанную бумагу.
Новосильская пришла в отчаяние.
– Это, верно, новая глава из вашего романа? – спросила она любезно.
– О, нет! – лукаво отвечал француз, – это кой-что новое. Я докажу вам, как вы ошибались, утверждая, что она равнодушна к Милькееву. Руководствуясь правилами нашего Эготиста, который утверждает, что цель оправдывает средства, я решился тайно списать произведение молодой и влюбленной души. Прочтите!
Катерина Николаевна с беспокойством и удивлением прочла: «Шел путник по узкой горной тропинке и увидал розовое облако над синими лесами, которые покрывали вершины. Он поднялся с трудом к прекрасному облаку и увидал – один туман. Он отдохнул на минуту в прохладе, любуясь сверху на пройденную дорогу. – «Облака нет!..» – грустно сказал он, спускаясь по другому склону. Но путник ошибался! Облако было там; он не узнал его, когда был близко и, отдалившись опять, он обернулся и с радостью увидал, что на покинутом месте стоит опять то же облако, розовое… стоит там же, над синими лесами, лишь немного и не скоро меняя свой вид!
Не говори же мне никогда, милый друг мой, что идеала нет! Он есть, но вблизи ты не умеешь его узнавать!..
О, жизнь! жизнь! Все проходит, все меняется!.. Недавно ветка под моим окном висела зеленая и полная жизни, а теперь она покрыта снегом… Но жизнь в ней спит до весны. Осенью закрыли фонтан, но он не уснет навсегда. Придет весна – опять мы все пойдем в сад и будем слушать его. И ветка, и фонтан – и все будет то же, но я? Я буду ли все то же? И все ли мы пойдем вместе в сад?
Никогда Милькеев не был так близок мне, как пять или шесть дней тому назад, и вместе с тем я убедилась, как он далек от меня!.. Я спросила у него: «Зачем Child-Harold бежал от своей родины? Неужели никто не был достоин его? Или он был недостоин других!» – «Нет, – сказал он, – ни то ни другое. Разве бегут только от дурного? На родине Child-Harold'a было так много доброго, почтенного, честного… Но ему хотелось бури, борьбы и страстных наслаждений! И общество не было так дурно, как иные думают, стараясь оправдать Байрона, и Байрон не был извергом… Он хотел нового, нового и нового!..» Я сказала ему, чтобы он приехал к нам, если судьба занесет его в нашу сторону, что дом моей матери – его дом.
Он покраснел и сказал: «Хорошо иметь друзей!».
– Eh bien? Что вы теперь скажете? – воскликнул француз, когда Новосильская прочла. – Это разве не страсть? И разве вы не рискуете перед Богом и людьми за честь и счастье этой девушки?
– Во всяком случае, – отвечала с притворной строгостью Катерина Николаевна, – я не нахожу похвальным, что вы позволили себе унести это с ее стола и списать… Я вас не узнаю! Это можно извинить только вашим увлечением…
– Мое увлечение! Oh, madame! Мое увлечение! Мое увлечение наводит на всех скуку – я это вижу… Но это – увлечение дружбы и сострадания… Честь и счастье этой девушки, которая приехала сюда издалека, подобно мне, для меня дороже моего спокойствия. И ее страсть, которой вы видите образчики, меня пугает!
– Я не знаю, страсть ли это, – сказала Новосильская в раздумье. – Конечно, она ничем почти не занята у нас. Это пока еще только тоска по идеалу, которого она ищет. Она всегда как будто сонная и тихая, но воображение у нее раздражено… Она любит уходить одна или с Машей в лес… С восторгом говорит, что над тем пустым оврагом за лесом всегда кричат вороны. Я слушала раз нечаянно сказки, которые она рассказывает детям. Всегда пустые замки на горах, старушки у камина… Все это опасно… я не спорю. Но теперь уже нечего бояться: Милькеев решился ухаживать за Любашей. Что ж, быть может, она составит его счастье; он останется здесь, и вы будете покойны…
– О, не верьте, не верьте ему! – отвечал Баумгартен. – Это – уловка… Любаша будет только щитом, из-за которого ему ловчее пускать стрелы в Nelly!
– Все-таки надо попробовать… Я теперь все придумываю, как бы получше устроить все это… Успокоить вас, отвлечь Милькеева от Nelly, ее развлечь, детей повеселить… Надо ехать с визитами… Знакомиться… Чем оправдаться… что до сих пор десять лет не ездила, и вдруг…
– Oh! qu'а cela ne tienne! – воскликнул Баумгартен, – дайте мне три-четыре дня, и я вам приготовлю комедию в трех действиях; она будет применена к актерам… Она уже давно у меня зреет… M-lle Эме не может, конечно, поддержать дельный разговор на французском языке; но она произносит порядочно. Я ей приготовлю простую роль!..







