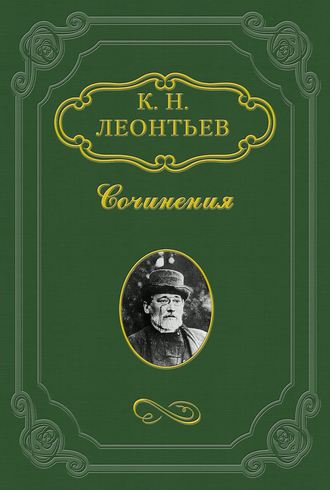
Константин Николаевич Леонтьев
В своем краю
IV
Тотчас после этого Руднев пошел искать Милькеева, чтобы сказать ему, что дела его плохи, и передать ему мнение Любаши.
Он нашел его в кабинете в куче других мужчин, которые спорили, стеснившись около дивана; сидели: смуглый генерал, мрачный декабрист, недавно возвратившийся из Сибири, и еще один худой помещик небольшого роста с суровым выражением лица; перед диваном стояли сам хозяин и предводитель. Последний был окружен несколькими дворянами, которые осыпали его вопросами и возражениями, и Лихачов, медленно поворачиваясь то туда, то сюда, отгрызался от них, как кабан. Милькеев разговаривал в углу с тем седым генералом, с которым он подружился за обедом.
– Знаем, знаем, что хотите вы сказать – сельскую полицию!.. – «Сельскую полицию? Это за что я няньчиться буду!» – «Это еще бремя за что?» – шумели дворяне, подступая к предводителю.
– Постойте, – говорил Лихачов, – это не я, а Аполлос Федорыч сказал – сельскую полицию… А я не то говорю…
– Для предупреждения… против опьянения свободы в прямом и переносном смысле! – перебил Аполлос.
– Дайте сказать! – продолжал предводитель, – чем меньше будет у нас власти, тем более будет влияния. Дворянство всегда будет впереди… Образование, предание, богатство…
Но тут несколько человек закричали разом: – Богатство? Богатство! – «А разве, сударь вы мой, не знаете вы, какие есть дворяне: «сам пашет, сам орет!» – «Деньги в чужих карманах не считаны!» – «Да-с! Сударь вы мой, да-с!» – Ни собственность, ни даже жизнь не обеспечены, – уныло заметил кто-то из толпы, когда шум смолк.
Лихачов взял одного соседа за пуговицу и сказал ему внушительно: – Поймите вы вот что: если вы сами не догадались это прежде сделать, так не возбуждайте против себя ненависть бессильной оппозицией, а лучше спешите забегать вперед, где можно! Сколько у нас привилегий…
– Однако, Николай Николаич, – заметил смуглый генерал, – от вас, именно от вас мне странно это слышать… Доверие, девятилетнее доверие!..
– Чем менее будет у нас власти, тем больше будет влияния, – повторил Лихачев. – Те, которые не в силах поддержаться наряду с богатыми, опустятся в народ и выиграют от этого. Не сами они, так дети их из плохих шляхтичей станут передовыми простолюдинами, и совсем другое общество, другое настроение самолюбия облегчат им экономическую сторону жизни. Сытый мужик в дубленке доволен и бодр, а бедный дворянин в заштопанной шинели жалок и болен…
– Хорошо тому жить, кому бабушка ворожит! – возразил издали один помещик двадцати душ.
– Не называйте меня «ваше превосходительство», – кротко шептал в углу Милькееву седой генерал. – Человеческая личность должна быть свободна; это вы правду говорите! Пусть всякий будет счастлив, доволен – это главное… Я вам скажу про себя; у меня прежалостливое сердце: вот теперь я вас слушаю, так у меня в душе переворот такой делается… Мне очень приятно познакомиться с вами!
– Разберите теперь вопросы о караулах, рабочих днях, – начал сам хозяин, обращаясь в Лихачеву, – о стариках, наконец, и старухах, которых мы должны даром кормить. Я, я еще могу! Но многие другие… И народ наш так груб, так дик, так не приготовлен… В друзьях своих видит врагов… не правда ли, Николай Семеныч? – прибавил он, обращаясь к мрачному декабристу.
– Правда, – сказал тот, которому родные только что возвратили восемьсот душ.
– Что вы об этом думаете, ваше превосходительство? – спросил смуглый генерал у седого.
– Я что думаю? – отвечал старик. – Я сижу и думаю, что это г. Милькеев вот правду сказал или нет сейчас… «Коли, говорит, мужик нехорош – так зачем дворяне его не воспитывали!» Я сижу и думаю, правда ли это?
– Правда, – сказал предводитель.
Он хотел продолжать, хотел сказать о том, что русский дворянин сам давно пренебрегает собой, предпочитая столицу и службу деревенской жизни, что их сторона еще лучшая по населению и деятельности; но слова Милькеева, переданные седым генералом, так возмутили многих, что дворяне подняли страшный шум, подступая одни к генералу и Милькееву, другие к предводителю.
В эту минуту младший Лихачев подошел к одной кучке, посреди которой с жаром говорил худой, суровый помещик, и, вставляя в глаз стеклышко, спросил: – Что это у вас за базар, господа?
– Базар? Базар! – с изумлением и злобой закричал худой и суровый помещик, выпрямляясь перед ним. – Базар! На базаре мужики, подобные тебе… с бородой, а здесь общество дворян, а не базар!
– С каких это пор мы с тобой на ты? – спросил младший Лихачев.
– Либералы вы все! Базар! Общество… дворян – базар! Поди с мужиками обнимайся – вот твое место!
– Чудак! – заметил Лихачев, – забыл верно, что я девять пудов одной рукой поднимаю!
Опять все захохотали, а суровый помещик гордо отошел прочь.
– Что ж, отец мой, вы не боретесь? – спросил Руднев у Милькеева. – Разве не под силу?
– Конечно! – отвечал Милькеев, – здесь, чтобы не быть смешным, надо показать пример, надо иметь крестьян. Лихачевы имеют право спорить: у них мало земли и потеря их будет сильная. А я – не от міра сего!
– Жаль, а я бы желал, чтобы вы разгорячились!
– Зачем?
– Чтобы возбудить нервы и повитать после… А то Любаша вас не хвалит; говорит, что учителю нейдут ваши манеры.
– Будто? Ну, Бог с ней, – рассеянно и печально отвечал Милькеев.
– Как, Бог с ней! – надо вступить в борьбу, на мазурку звать…
– Едва ли я решусь здесь танцевать мазурку; это не Троицкое; там я – Вася Милькеев, честный утопист, Василиск, старший брат, поэт, друг и наставник прекрасных детей, древний философ, поучающий в саду… А здесь я только – троицкий учитель. Ослабею вдруг от грусти, упаду посреди залы, и все будут рассказывать, как троицкий учитель упал. Здесь надо по-вашему жить, а vol d'oiseau…
С этими словами он встал и пошел звать Любашу на кадриль.
Но кадриль не помогла: Милькеев поговорил с ней кой о чем, но ни сам не сказал ничего хорошего, ни от нее ничего особенного не слыхал. Он был встревожен тем, что видел и слышал в кабинете, ушел с Рудневым и младшим Лихачевым в дальнюю, пустую комнату, сел с ними там и высказал им все, что думал о собравшихся дворянах.
– Что это такое? – сказал он, – я ничего не могу решить… Хочу понять – и не могу. Все спуталось у меня. Мне кажется, что я ничего не знаю! По правам это больше чем аристократия… Нравы, физиогномии, привычки в целом дворянстве разнообразнее, чем у другой небольшой нации, взятой в целости… Люди средней руки, внешним видом, бытом, манерами, они почти все больше похожи на тяжелых западных лавочников или засидевшихся чиновников, чем на свежую и бойкую сельскую аристократию!.. Что же это такое?
– Ты слышал, – отвечал младший Лихачев, – брат мой хорошо определяет их: это не аристократия, а шляхетство. Аристократия не может быть так многочисленна и так доступна…
– Я не могу теперь понять, – продолжал Милькеев, – как и с какой стороны примирить мне свой идеал с тем, что я вижу вокруг себя! Любить мирный и всемiрный демократический идеал, это значит, любить пошлое равенство, не только политическое, но даже бытовое, почти психологическое… Развиваясь под однообразными впечатлениями посреди тех жалких уклонений, которые способно дать одно разделение полезного труда, характеры должны стать схожими… Одна разница темпераментов недостаточна. Необходимы страдания и широкое поле борьбы! На что тогда великие полководцы, глубокие дипломаты? Поэту не о чем будет писать; ваятель тогда будет только сочинять украшения для станций железной дороги или лепить столбики для газовых фонарей… Я сам готов страдать, и страдал, и буду страдать… И не обязан жалеть других рассудком! Если сердце мое жалеет – это дело организации, а не правил!.. Идеал всемірного равенства, труда и покоя?.. Избави Боже! Истинная аристократия уже тем хороша, что она подразумевает многое другое под собой. Уничтожая аристократию, мы оставляем только два начала: фрачное мещанство и народ. Уничтожая в свою очередь буржуазию, которая не допускает до себя народ, мы уничтожаем в сущности не буржуазию, а народ, потому что работник и без того с ума сходит, как бы ему надеть сюртук, хоть грязный и вонючий, но сюртук!.. «Дело, говорят – в конце!» Отчего же все боятся говорить о конечных целях в точных науках, которые проще жизни, а не боятся решать конечную цель жизни, которая еще до сих пор необъятна?! «Воля человека ничто перед общей статистикой», говорит точная наука; «L'homme s'agite, mais Dieu le mène!» говорит богослов. Конечная цель нам неизвестна… Вы понимаете ее так, а я иначе. Но нам есть указание в природе, которая обожает разнообразие, пышность форм; наша жизнь по ее примеру должна быть сложна, богата. Главный элемент разнообразия есть личность, она выше своих произведений… Многосторонняя сила личности или односторонняя доблесть ее – вот более других ясная цель истории; будут истинные люди, будут и произведения! Что лучше – кровавая, но пышная духовно эпоха возрождения или какая-нибудь нынешняя Дания, Голландия, Швейцария, смирная, зажиточная, умеренная? Прекрасное – вот цель жизни, и добрая нравственность и самоотвержение ценны только как одно из проявлений прекрасного, как свободное творчество добра. Чем больше развивается человек, тем больше он верит в прекрасное, тем меньше верит в полезное. Малоразвитой человек везде ясно видит пользу; но чем сознательнее идем мы в жизнь, тем труднее решить, что истинно полезно для других, для рода; сохраняя вас, я, может быть, стесняю или даже гублю десять человек; губя их, я, может быть, спасаю косвенно сто. Вы, доктор, и на прошлой неделе вылечили свирепого старика, который вернется на деревню и станет опять бить свою невестку. Невестка умрет раньше, и муж ее женится на молодой девушке. Первая жена рожала все девочек; молодая жена от сорокалетнего вдовца будет рожать мальчиков, работников, и семья разбогатеет… Прекрасное не гибнет никогда: погибло здесь, поднялось там; вооружась прекрасным, мы понимаем и любим историю; с одной пользой, честностью и миролюбием мы видим в жизни народов только слезы, кровь и обманутые надежды. Я не боюсь демократических вспышек и люблю их; они служат развитию, воображая, что готовят покой; на почве этих стремлений вырастают гремучие и мужественные лица; их крайности вызывают противодействие, забытые силы, дремлющие в глупом благоденствии, и им в отпор блестят суровые охранители; а после, в года отдыха, из накопившихся богатств и противоречий слагаются глубокие, полные люди, примирившие в себе, насколько можно, прошедшее и будущее… В средние века была поэзия религиозных прений и войн; теперь есть поэзия народных движений; я даже не хочу сказать, что они лучше тех, но говорю только, что они под рукою… С другой стороны, я вот что скажу: «Стесните, пожалуй, сословие, которое убивает развязность других, но не лишайте мір широкого досуга и роскоши…» Только при этих условиях могут являться: Байрон, Гете, Жорж-Занд, Цезарь, Потемкин, граф Д'Орсе… Со всем своим гением Шекспир не вышел бы Шекспиром, если бы пестрая и вместе сдавленная там и сям формой жизнь Англии не посеяла бы ему в мозге разнообразных представлений. Не в том дело, чтобы не было нарушения закона, чтобы не было страданий, но в том, чтобы страдания были высшего разбора, чтобы нарушение закона происходило не от вялости или грязного подкупа, а от страстных требований лица! И Креон у Софокла прав, как закон, повелевающий убить Антигону, и Антигона, которая, любя брата, похоронила его – права!
– Но разве для народа не нужно вещественного благосостояния, чтобы облагородить его страдания? – сказал Руднев. – Страданий высших много. У дяди мужичок прибил до крови жену за то, что она принесла ему четверть часа позднее хлеб и квас на поле во время работы. А если бы он пошел позавтракавши вплоть пирогом и кашей, да выпил бы стакан вина, да жал бы, сидя на какой-нибудь машине? Помните картинку в книге, на которой представлен молодой английский фермер на машине с двумя здоровыми лошадьми, густая рожь и белый домик в зелени сбоку?.. Вы тогда сказали: «вот праздничный труд!» Глядя на это, веришь, что эти люди за ужином благословляют Бога и труд, который послан небом… Если бы труд был таков, разве мужик стал бы с голода и усталости бить жену? Он, может быть, способнее бы был влюбиться и пошел бы на войну от несчастной любви, если вы непременно хотите страданий…
– Я ничего не говорю против этого, – отвечал Милькеев, – мы с вами можем извлечь многое из бедности; а для земледелия не нужна личность; поэзия и достоинства крестьянина – в цветущем покое многолюдной семьи и правильной работе. – Ужасно видеть чиновника или портного, обремененного детьми и привинченного к месту, а здесь на чистом воздухе!..
– По твоему идеалу следует, – сказал Милькееву Александр Лихачев, – что для всякого народа нужно совсем не то, что нужно для другого… Французам было бы полезно постепенное развитие, устояться бы им недурно, мохом порасти; а то Франция стала похожа на какой-то пустой, чисто выкрашенный балаган. Англию бы радикализмом хорошенько раскачать, чтобы не слишком уж повторялась; для Италии – то политическое единство, о ко – тором она теперь хлопочет; немцам бы Фридриха нового, чтобы из кабинетов их доброй войной вытащил… После этого и живется, и поется, и думается лучше… Все это так… Но что же нужно для России, чтобы дать ей в твоем духе прекрасную эпоху?
– Не знаю, не знаю! – грустно отвечал Милькеев. – Пусть скажет твой брат, что он об этом думает…
– Для России, – сказал предводитель, – поди спроси у дворян, что нужно для России! Поди, потолкуй с ними! Я думаю, брат, что я последний год служу! Уж на будущий год меня прокатят на вороных за все эти разговоры! Что ж, в посредники пойду. Нет, прежние бары были лучше; в тех была славянская ширина, сила, те умели иной раз, хоть в обход – да постоять за себя… А эти ни для себя, ни для других, на jeu de paume неспособны; вниз нагнуться не хотят, чтобы почерпнуть живой воды. Да, слава Богу, не сделать им ничего; против них и народ, и писатели, и мнения младших в семье, и сила вещественная. Для их же достоинства надо с них смыть пятно рабства и отнять у них страсть к казенной службе. Страдая, они вырастут… Я говорю: прежние бары жили дома, любили выборы, деревню и хозяйство, и наш край куда, до сих пор, еще много лучше других! Душа болит, как видишь под Москвой и везде заброшенные дома, заросшие сады, или чистые, да пустые… Наш край лучше многих… многолюден, жив… Трудиться легче там, где весело. Пропусти сквозь это веселье гражданскую струйку, доблесть и любовь к родному и посмотри, что будет… Ты, Милькеев, хлопочешь о разнообразии, о развитии лица. Я стану на твою же точку зрения и скажу, что для этой цели необходимо обособление наций. Народный дух – ярмо, под которое должны волей или неволей склоняться самые необузданные сердца. Всякая нация только тем и полезна другой, что она другая! Уперлась одна нация в стену, не знает что делать; поглядела на другую и освежилась… Стесни пределы твоих любимых крайностей любовью к родному; крайности отсохнут, но запас духовный вознаградится более тонким и крепким развитием внутри. Ты ищешь разнообразия? Да где ты найдешь столько противоположностей, как у нас? Уж, конечно, не в Европе. Надо уметь их видеть; у нас все широко и рассыпчато, но все бледно и не выработано. Свобода и сознание – лак, от которого все черты становятся глубже и все краски ярче. Свобода и сознание только могут нам дать то внутреннее единство, которого нам недостает; без этого народного единства одни живут без свободы и сознания, другие довольно свободно и крайне сознательно носятся по воздуху, как ты, не зная к чему прилепиться. Чего у нас нет? В великой России земская община и рядом с нею помещик, у которого больше земли, чем у многих германских государей; в Малороссии – громада, без общинного владения землей; московский ученый и донской казак; петербургский безбожник и непоколебимый в вере своей раскольник; кавалергард и степной киргиз… Разнообразие физиогномий и сложений в высших слоях удивительно; обычаи и поверья – вовсе разные в разных местах… Вообще мы более философы, чем французы и англичане, более поэты, чем французы и голландцы, более музыканты, чем французы и англичане, трезвее умственно итальянцев, практичнее и решительнее немцев, более художники-пластики, чем англичане, более пышны жизнью, чем немцы, более европейцы, чем турки или персияне, более азиятцы, чем другие европейцы (и по-моему, это не всегда порок), мы более искренни и страстны, чем англичане, мы воинственнее немцев, у нас более, чем во Франции, начал для областного самоуправления и т. д. Но на каждое качество мы найдем на западе или востоке, на севере или юге, в прошедшем или настоящем такое блестящее, сильное выражение, что должны склониться перед ним!.. Нам нужен градус, нужна крепость каждого народного начала, каждой родной черты, душа моя Милькеев, а не ширина, которой мы богаче других! Не за варварство, не за азиятизм в Европе не любят России; боятся и не любят. Не любят за то, что прилепляться не к чему: все бледно, кроме государственной силы; а государственная сила – вещь великая, но холодная!.. А между тем, эти пестрые племена, это богатство темпераментов, это разнообразие быта, климатов и степени развития – какое поле для обработки! Не жду я ничего от общества, пока народ, верующий, грубый и самостоятельный не влияет на него… В чем нет зла, суеверия? – но суеверие только застывшая пена веры; жестокость? – но без жестокости нет энергии. Все родное – спит; оно хранится у бедного народа, который тупо хранит, не развивая. Рука бы моя не дрогнула на того, кто святотатственно посягнул бы на земскую общину нашу, посягнул бы от подлого страха, что быт Европы основан на личной собственности; как будто рядом с этим нет у нас личной собственности; как будто ты, Милькеев, не прав, говоря, что для земледелия не нужна резкая оригинальность лица! Как будто Ломоносов и новый Кольцов не найдут уже Шувалова и Станкевича, для извлечения их из мiрской сходки! Община, песни, одежды, постройки – все спит и дурнеет у народа; и не может не спать и не дурнеть, не может вырастать вещь, предоставленная одним беднякам! А между тем, все иностранцы с жадностью глядят у нас на то, что не по-ихнему: на пеструю Москву, на розовые рубашки, на мелкие разноцветные дома; с наслаждением слушают наши песни; после мира в Крыму (вот брат Александр сам видел!) они с удовольствием прежде всего бросались к казакам и говорили друг другу: «Don! Don!» Баумгартен, и тот восхитился, когда в первый раз поехал кататься с нами в бор зимой и увидал, что Nelly и девочки в ранжевых дубленках и цветных платках на голове и больших сапогах. А кто научил? – Я. Жаль мне было видеть, что Федя и все мужчины молодцами, а девочки шлюхами, в капорах и салопишках! – Один художник в Москве говорил при мне: «нам нужно строить не мраморные дворцы и белые храмы, это слишком холодно для нашего и без того холодного неба; нам нужны теплые краски, как у той милой часовни, которую поставили на Невском; и не только часовни, но дома и дворцы надо строить такие. Теплые краски эти и народу любезнее, и к печальному добродушию нашего ландшафта идут, и ни на что чужое не похожи!» Все эти народные искры надо раздуть, надо посеять пшеницу, которая тысячи лет спала в египетских гробах… Быть сильно народным – значит в высшей степени служить космополитизму, чтобы пригодиться примером другим в чорный день! – Освобождение крестьян – каково бы оно ни было теперь! Широкие права! Образование переходных форм быта!
Предводитель приостановился и, помолчав, прибавил, обращаясь к Милькееву с усмешкой: – По твоей же эстетике, «красота есть единство в разнообразии». – Второе есть: надобно нам духовное единство. Посмотри на Австрию: государство сложное, богатое началами; а что она производит без его единства? – При нем здоровые станут тоньше, а тонкие здоровее; сознательные станут проще, а грубые сознательнее; взамен общественного мнения, которого у нас нет, проснется свежее народное мнение… А если кто-нибудь кого-нибудь изредка прибьет, так, разумеется, это не беда; мне даже иногда кажется, что Козлянинов, о котором теперь так много пишут – человек независимый, и я бы желал познакомиться с ним…
Молодые люди засмеялись; в зале заиграли мазурку, и младший Лихачев пошел звать Nelly, a Милькеев Любашу…
Руднев сошел вниз, тайком от приветливой хозяйки, отыскал шапку и шубу и уехал.
Он в первый раз в жизни обедал под музыку за таким шумным столом; в первый раз видел так много незнакомых и красивых женщин; в первый раз видел Любашу в праздничной воздушной одежде, с цветами. Она была в этот день столько раз то доступнее прежнего, то оторвана от него толпой развязных и танцующих щоголей…
Вырвавшись из освещенной и полной залы в темное и морозное поле с такой же радостью, с какой, бывало, выходил он в Москве из вонючего склада трупов в маленький казенный садик, покрытый инеем, Руднев почти возненавидел Милькеева за его соблазняющее влияние. К тому же все, что он слышал в дальней комнате от Милькеева и предводителя, так кровно шевелило его, так сильно подрывало многое, во что он верил прежде. Одно уж то потрясало его, что демократия, как демократия, для них обоих ничего не значила: для одного она была только вечным орудием жизни и брожения, другой любил ее только тогда, когда она – архив народной старины, и сам говорил не раз и прежде, что демократия Соединенных Штатов «выеденного яйца не стоит»; ибо у нее нет и не будет загадочных, темных преданий… Как примирить все это?!







