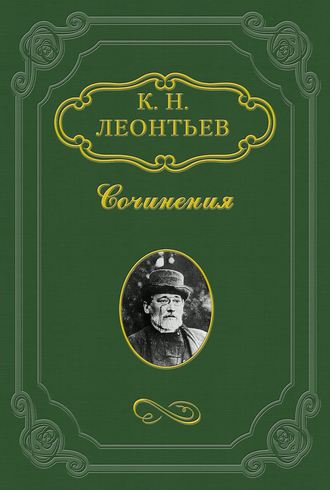
Константин Николаевич Леонтьев
В своем краю
– Хорошо ехать в санях! – сказала Любаша.
– Недурно, – отвечал Руднев.
– И погода сегодня славная. Завтра тоже будет хорошая. Заря такая чистая. А вы не озябли?
– Нет, – отвечал он, – не озяб что-то… Когда же тут успеть озябнуть.
Уже видно было имение родных Любаши, и очень заметна была одна еловая аллея в саду, между другими голыми деревьями, когда Любаша опять обратилась к Рудневу: – Вы не показывайте виду папа, что вас для него привезли: скажите, что для тетушки Анны Михайловны. Она тоже часто нездорова. Он сегодня смирнее стал, оттого что бок сильнее болит, а третьего дня сорвал с тетеньки мантилью и бросил в печь… И еще когда будете входить к нему, осторожнее в дверях: он как рассердится на всех, вынимает половицу около порога, чтоб никого не пускать в свою комнату… Прошлого года тетушка Анна Михайловна провалилась под пол… и только одной рукой удержалась.
При этих словах Любаша, заранее начавши улыбаться, засмеялась так громко, что кучер обернулся, взглянул на барышню и тоже захохотал.
Через минуту сани остановились у крыльца чемодановских хором.
XIV
Руднева провели по темному коридору в пустую комнату и оставили одного с сальной свечой. Немного погодя пришла горничная, принесла стеариновую и приняла сальную свечку. В соседней комнате шептались. С полчаса посидел он один. Наконец вошла Анна Михайловна. Вприпрыжку подбежала она к доктору и подала ему дрожащую и худую руку.
– Вы озябли? – сказала она, совсем приближаясь к нему лицом, – сейчас принесут чай. Mon frère va très mal… Садитесь, пожалуйста… мы все так огорчены… Садитесь, пожалуйста… Вообразите себе (она еще больше придвинулась к нему и обрызгала ему лицо слюной)… он ажитируется страшно… Третьего дня прогнал дьякона и простудился… Когда он в ажитации, он терпеть не может, чтобы его кто-нибудь спрашивал о здоровье. Дьякон пришел и спросил у него, только всего и спросил: «Как ваше здоровье, Максим Петрович?» И Боже мой!.. C'est affreux!.. Вон, дурак, скотина, вон, дурак, скотина!.. Гнался за ним в переднюю, на крыльцо, на двор… Пришел домой, и в боку немного погодя заболело. Все пробовали: горчичники, липовый цвет, бузину, – все давали…
– Позвольте же мне видеть больного, – сказал Руднев.
– Нельзя вдруг, никак нельзя вдруг. Избави Боже! Un médian tout а coup!.. Он придет в бешенство. Надо вас просто познакомить. Сказать: приехал Руднев… Позвольте узнать, как ваше имя… Василий…
– Владимиров…
– M-r Basile. Мы ему скажем… M-r Basile Руднев. Вы пробудьте у нас дня два-три и как-нибудь уговорите его приставить пиявки. Я уж не знаю, право, что делать… Даже домашнее что-нибудь трудно предложить ему… У него страшно ведь болит бок!
В эту минуту послышался шорох шелкового платья, и вошла Любаша.
Она сказала, что к отцу можно, что напрасно тетка беспокоится, что Малаша неосторожно проговорилась о приезде доктора, и старик спросил только у нее: «Какой это доктор, Руднев, что ли?» И когда ему сказали, что Руднев, он успокоился и прибавил: – Для Анны Михайловны?
– Да, папа, для Анны Михайловны…
– Ну, пусть и ко мне зайдет…
Анна Михайловна была, по-видимому, рада и, шатаясь, пошла вперед. Любаша и Руднев за нею.
– Сколько верст отсюда до Троицкого: кажется, верст двадцать пять? – спросила девица.
– Да, будет около этого, – отвечал доктор.
– Я проезжала через Троицкое несколько раз. Как у них хорошо; я бы хотела там побывать.
Руднев не отвечал.
– У Полины тоже дом хороший, только там как-то, мне все кажется, должно быть лучше.
– Да, Новосильская хорошо живет, – сухо отвечал молодой человек.
Любаша замолчала, увидав, что он так неохотно разговаривает, и они перешагнули вместе через яму порога. Старик сидел с кочергой у печки, когда Руднева ввели к нему.
– Папа, Василий Владимірыч Руднев, – сказала Любаша.
Старик покашлял, исподлобья посмотрел на него и протянул руку.
– Вы доктор?
– Да, я медик…
– Что значит медик? Вы хотите сказать: лекарь?
– Да, лекарь.
– Иностранные слова! – промолвил старик, все не спуская глаз с Руднева. – Медик… облагородить… Ну-с, г. медик… очень рад вас видеть… Прошу садиться…
Любаша смеялась, отойдя к окну. Руднев сел и молча наблюдал больного. Старик покашлял, вздохнул и, поглаживая бороду, продолжал смотреть на своего врача.
– Вы в Московском кончили?
– В Московском.
– Хороший университет, славный. Педагоги ваши всем известны.
Тут он вдруг засмеялся.
– У меня был один знакомый, из вашего университета – учитель. Его утопили в реке товарищи.
Сказав это, старик хотел захохотать, но схватился за бок и закашлял.
Руднев хотел броситься к нему и протянул уже руки к больному боку, но Максим Петрович отстранил его.
– Ничего, это пройдет. Ну-с, так его утопили товарищи…
– Зачем же? – спросил Руднев.
– Зачем?! Что за вопрос!.. Чтобы не было его, чтобы утонул… Цель, кажется, ясная?.. А за что? Вот это другое дело. Хороший был человек, начальство его любило, награды получал. Они напились пьяны и утопили его. Вы, может быть, хотите мой пульс попробовать?
– Позвольте…
– Извольте… Вы не поляк и не жид… Главное, вы Воробьева знаете?..
– Знаю.
Старик ядовито усмехнулся и велел дочери достать из шкапу склянку.
– Ту, знаешь… Любаша его отговаривала.
– Да ведь она запечатана.
– Ничего, опять запечатаем. Вот, видите эту склянку… Я ее запечатал, хотел послать во врачебную управу… Воробьев этот – друг закадычный Анне Михайловне… Вы, небось, видели Анну Михайловну. Как она вам понравилась?…
Руднев пожал плечами.
– Вы пожимаете плечами. Это резонно! Не стоит и спрашивать! Так вот эта Анна Михайловна просила его прописать мне рецепт. Он прописал… Я ничего. Пусть пишет и пошлет в аптеку, а я все буду молчать, все ничего не скажу. А как привезли, я увидел эту стклянку. «Нет, говорю, брат, постой. Я знаю, что это яд… Злейший яд!..» У меня была собака… так, собачонка дрянная, дамская… Ну, а я к ней привык, любил ее; однако не пожалел ее, дал ей ложечку… Вмиг – судороги и смерть… А это не яд?… это не яд? скажите мне, это разве не яд?
– Позвольте посмотреть.
– Смотрите, нюхайте… что же это по-вашему, г. медик?
– Это, точно, подозрительно, – сказал Руднев, – я возьму с собой, если вы мне доверите, и постараюсь исследовать его… Впрочем, все яды полезны; надо знать, в какой болезни и в какой мере… Воробьев – человек скверный.
– Ну, да, да, разумеется, в какой мере… Возьмите себе эту стклянку… Я вам верю.
Руднев поклонился.
– А ваш бок? – сказал он.
– Бок болит. Я, впрочем, сделаю все, что вы мне посоветуете. Матушка и Любаша (вот эта барышня, которая стоит у окна… это – дочь моя Любаша… – с небрежностью прибавил он) – так вот эта Любаша и матушка все жалуются, что я не лечусь… Я сам говорю: дайте мне доктора, а у Воробьева я лечиться не буду… Что это за доктор! Постойте-ка, Любаша, выйди-ко вон.
– Зачем это? – с неудовольствием сказала дочь, – разве вы не можете при мне говорить?
– Ах, матушка… Пожалуй, останься, коли у тебя стыда нет! Мало ли о чем мужчина доктору может говорить…
Любаша поскорей ушла, а старик схватился за бок и, стараясь не охать, качался от радости на кресле…
– Ушла девчонка! – начал он, и лицо его сейчас же стало опять грустно. – Я очень рад, как вас там зовут… с вами поговорить. Мне сдается – человек вы хороший. Скажите мне, между прочим, отчего бывает гной на крови, которую выпускают из руки перед смертью. От яда этого не бывает?
– Гноя никогда не бывает на выпущенной крови, Максим Петрович.
– Не бывает? А что ж бывает?
– Кора такая белая бывает, воспалительная кора…
– От яду?
– Нет, зачем от яду? Эта кора бывает в разных случаях: при воспалениях некоторых, иногда у беременных женщин фибрин…
– Фибрин – это яд, как стрихнин?… Не дают ли его беременным?
– Нет, позвольте, дайте мне досказать: фибрин – это вовсе не яд: это – нормальное вещество… Что с вами, что с вами?
– Ах! чорт возьми, бок проклятый, бок… Помогите мне лечь. Эх! чорт побери, дьявол… Ой!
Любаша, которая ждала за дверью, вбежала, вместе с Рудневым сняла с отца халат и уложила его в постель. В доме были пиявки; Руднев сам поставил тотчас их Максиму Петровичу. Любаша все время не отходила от него, измаралась в крови; старик лежал и молча слушался, беспрестанно переводя задумчивый взгляд с дочери на молодого человека, а с него на дочь.
– Вы верите, доктор, в животный магнетизм? – спросил он только раз.
– Верю; а что-с?
– У вас он есть; вы как меня тронете руками, так приятно станет… Эх, как приятно! Подите в магнетизеры! А?
– У меня слишком мало душевной силы, чтобы быть магнетизером, – отвечал Руднев.
Когда Максиму Петровичу после пиявок захотелось спать, Любаша увела Руднева в большую темную залу с пляшущими половицами и спросила его: – Он вам, верно, говорил об крови, об яде?
– Говорил. Что это значит?
– Это всегда… Вы что ему сказали?
– Я сказал, что гноя на крови не бывает, а то, о чем он думает, бывает не от яда.
Вслед за этим вбежала Анна Михайловна и спросила у Любаши: – Est-ce qu'il a parlé?
– Да, я уж сказывала, – отвечала Любаша по-русски.
– Toujours ces bêtises?
– Все то же.
Анна Михайловна внимательно посмотрела на племянницу и печально покачала головой.
– Toujours, toujours! Вы что сказали ему?
– Я сказал, что гноя в крови не бывает, но бывает воспалительная кровь, которая происходит не от яду.
– А! вот и прекрасно. C'est magnifique! Он теперь уснул… Ха-ха-ха… Такой он у нас чудак… Пойдемте теперь к «maman».
«Maman» была гораздо больше похожа на матушку, чем на «maman». Она только что вернулась из субботней бани и сидела в большом кресле; горничная расчесывала ей густые и длинные седые волосы большим пальмовым греб – нем; вся она была белая: лицо белое, глаза светлые и цветом и блеском, капот белый с оборками.
– Очень приятно познакомиться, – сказала она Рудневу с гордой небрежностью, – кажется, наш больной успокоился?
– Да, ему, кажется, лучше.
– Ашенька, – продолжала она, обращаясь к Анне Михайловне, – не подать ли нам сюда ужинать? Я ослабела… Да где твой брат, Люба?
– Брат? не знаю, бабушка.
– Верно в людской в карты играет… Хи-хи-ха-ха!.. – донесла Анна Михайловна.
У старухи пробежал по лицу луч гнева.
– Марфа! – сказала она сурово, – отыскать Сережу… И пожалуйста, из людской или из девичьей всегда его прогонять…
– Le voilà, le voilà! – захлопотала вдруг Анна Михайловна – и в самом деле, в комнату вошел мальчик лет шестнадцати, в старом гимназическом платье, очень похожий на Любашу.
– Ужин привел сюда? – холодно и ядовито спросила бабушка… – Кланяйся же доктору, или уж совсем с холопьями отвык от порядочного обращенья. Предупреждаю тебя, что я велела тебя из людской и передней в три шеи гонять.
– У меня только одна шея, – отвечал гимназист спокойно.
Анна Михайловна затряслась, закивала головой, защолкала языком с упреком, а Любаша тихо засмеялась.
– Вы слышите? – сказала бабушка Рудневу, – какой острый ответ. Хоть бы при чужих постыдился.
– Стыдиться или не стыдиться, зависит от убеждения, – возразил гимназист.
Бабушка махнула рукой и велела поскорее подавать ужинать. Стол поставили перед ее креслом, и все заняли молча свои места. Большая комната была освещена всего двумя свечами, и Руднев, только садясь за ужин, заметил, что из-за кресел старухи поднялся кто-то. С удивлением Руднев догадался, что это была дурочка. «Где я?» – подумал он… Сомневаться было невозможно – это точно была дурочка, уже немолодая, глаза навыкате и раскосые, волоса всклокоченные; платье, однако, на ней было чисто.
– Рекомендую; это – Пелагея Сергевна наша, – сказала бабушка.
– C'est une pauvre idiote, – объяснила Анна Михайловна.
– Маменька, маменька, а маменька… Какая же ты дура! – закричала вдруг Пелагея Сергеевна.
– Знаю, что я дура, – кротко отвечала бабушка, – только зачем же ты при докторе-то меня бранишь?
– Дай хлебца… маменька… Авдотьюшка… дай хлебца…
– Сергей, подай ей тот большой кусок!
Сергей швырнул хлеб дурочке через стол; и она опять опустилась в темноту за кресла, как будто провалилась сквозь землю.
Ужин был вкусный и обильный; старуха начала расспрашивать доктора о службе, о Троицком, о дяде.
– Я ведь знавала хорошо Владимiра Алексеича, – сказала она между прочим, – прежде мы все вместе жили; съезжались, веселились много, все знали друг друга. А потом стали стары, стали дома все сидеть; а молодые наши не мастера веселиться. Я лет пятнадцать, думаю, вашего дядю не встречала. А первый раз, как мы познакомились, это было преуморительно! Аша, помнишь?
– Помню, maman… Как не помнить!..
– Да! ныньче все здоровья стали плохого, беспрестанно простужаются… А мы что выносили – волос дыбом теперь станет… Я была первый раз вдовой; второй мой муж был женихом моим тогда, и мы, вот с Ашенькой, приехали к нему в дом на несколько дней погостить. Было еще человек несколько родных; а ваш дядя был Петру Петровичу (моему второму мужу) друг; от скуки вздумали возиться, и ваш дядя вострый такой был на все. Бегать прыток был, игры выдумывать и смешил исподтишка – на все руки! Возились-возились, бегали-бегали, Ашеньке было лет пятнадцать, она взяла да из рукомойника Петра Петровича и облила всего, а на нем был с иголочки бархатный сюртучок, как этот цвет, Аша, звали?
– Puce vanouie, maman.
– Да! так звали этот цвет. Что тут делать? Какую месть придумать? Вот, вы и не поверите, быть может, а это правда: Ашенька была всегда такая худая, слабая, и мы ее «фараоновой коровой» звали. Что ни ест – все не впрок. Так ее пожалели, а меня, вот княгиню Самбикину да еще покойную сестру мою взяли под руки да в пруд и окунули, как есть в платьях, а на дворе октябрь стоял.
– В конце, в конце октября! – подхватила с восторгом Анна Михайловна.
– Да, в конце октября, – продолжала бабушка, – а ничего, все сошло с рук… Теперь уж не сойдет! Зато, по крайней мере, пожили мы! Пожили ведь, Аша? – прибавила она с гордостью.
– Пожили, maman, как еще пожили! – отвечала Анна Михайловна со вздохом.
После этого рассказа все собеседники приуныли. Анна Михайловна пробовала развлечь общество, принуждая Пелагею Сергеевну за кусок пирожного повторять поговорку: «каша – мать наша!» – Говори: каша – мать наша…
– Экая ты дура! Хи-хи-хи-хи…
– Говори: каша…
– Каша…
– Мать наша…
– Мать наша…
– Нет, не так (comme elle est drôle): каша – мать наша…
Но никто не смеялся; а Сережа вышел из терпения и отдал дуре с своей тарелки большой кусок пирожного, чтобы прекратить эту сцену.
Пелагея Сергеевна опять провалилась и, громко чавкая, невидимкою, ворчала оттуда: «Ах! ты дурак! Аи! ты дурак Колечко (так выучил ее кто-то в людской звать молодого барина вместо «Сережка»). Колечко… Ах, ты мой муж – ты меня бьешь, бьешь, бьешь, бьешь»…
Бабушка вздохнула, заметила, что «вот идиотка, и у нее что-то есть… думает, что муж непременно бьет»…
– Это потому, что русские все бьют жен; видала часто, – заметил Сережа.
Ужин, наконец, кончился, и все простились. Любаша и брат ее пошли провожать Руднева до той комнаты, где ему следовало ночевать.
Любаша крепко пожала ему руку и благодарила.
– За что? – спросил он с удивлением.
– За папа.
– За папа? Ты бы лучше за попадью поблагодарила, – сострил Сережа.
– Ну, полно, ради Бога, – сказала сестра и протянулась к нему для поцалуя.
– Вот еще что выдумала! Цаловать я тебя каждый вечер стану? – отвечал брат, – жирно, брат, кушаешь; в день по яичку. Я губы-то свои для какой-нибудь получше тебя поберегу. Войдите, Василий Владимiрыч, идите – вот ваша комната.
Руднев посмотрел на уходящую по коридору Любашу, и она стала ему на минуту так мила, так знакома… что он не мог удержаться от легкого вздоха, и поскорее вошел за Сережей в жарко натопленную и очень уютную горницу с старым ковром по всему полу, где ему уже была приготовлена на одном конце огромного турецкого дивана самая свежая постель, покрытая пунцовым шелковым одеялом.
– Вы еще не хотите спать? – спросил Сережа, оставшись наедине с Рудневым.
– Нет, еще посидимте, покурим вместе… – отвечал доктор. – Вы, конечно, курите?
– Курить-то курю! Да, знаете, не всегда финансы есть… Вот с тех пор, как Алексей Семеныч здесь, курю все его табак.
– Кто это Алексей Семеныч?
– Вы не знаете Алексея Семеныча?.. Что вы? Да вы же сами его рекомендовали. Богоявленский, Алексей Семеныч…
– А!.. Вы довольны им?
– Кто? я или наши?
– И вы, и ваши?
– Отец ведь ни во что не входит. Всем вот теперича кощей-то бессмертный вертит; старуха только: «Ашенька, Ашенька». Я доволен, а они не так-то… Алексей Семеныч молодец; все, что скажет, как зарубку сделает в душе… Право!
Руднев не отвечал и стал раздеваться.
– Вы хотите спать? – спросил Сережа, вставая.
– Нет-с. Я только прилягу, я очень рад побеседовать с вами… Какое славное одеяло мне положили.
– Это Люба вам свое… ишь, бестия!.. Алексею Семенычу ни за что бы не дала…
Руднев покраснел.
– Зачем же это? Это зачем, я не знаю, – сказал он, – я его сниму, здесь и так жарко. Я одной простыней оденусь. Отослали бы его назад.
– Ну, вот еще… Что она за фря! У нее два одеяла… Другого в доме хорошего нет, – так вот это вам прислала. Алексею Семенычу старое ситцевое дала. Накрывайтесь, накрывайтесь… А я посижу…
– Скажите, давно ваш папа впал в душевную болезнь?
– У-у! давно уж! Это все кочерга, эта Анна Михайловна наделала. Она, шельма…
– Зачем это вы все бранитесь? Перестаньте, пожалуйста, я вас прошу; говорите просто.
– Ну, хорошо. Так это все она сделала… Ведь она от другого мужа; старуха-то наша бедокур, троих мужей заела. Третий-то бездетный был, бессемянка; а от второго отец наш; да еще тетка есть на Кавказе, замужняя; да под Карсом полковник убит, тоже дядя; а от первого мужа трое: один в Варшаве – губошлеп, старик уж; другой, вот знаете, Платон Михайлыч, у которого вы Колю лечите (какую красотку ведь старый чорт подцепил; дура только), а третья – вот наша ехидна Анна Михайловна. Да вот еще тетка была, Марфа Михайловна, за Шемахаевым; сын ее олух, еще к Александру Николаичу Лихачеву часто ездит, тот его все Сарданапалом зовет. Родных у нас куча!
– Знаю, знаю; да что же вы об отце своем забыли?
– Вот я вам сейчас расскажу все. Приехал он молодым офицером в отпуск; Анна Михайловна одна была дома: ее братья тоже были на службе, – меньшие еще не родились; а бабушка уж овдовела второй раз; ну, Анна Михайловна была двадцати восьми лет, а отцу двадцать два… Шуры-муры пошли. Известно, чем кончилось; она ведь, говорят, смолоду хороша была… Завтра в зале посмотрите ее портрет с голубком… В ту эпоху-то! Каковы? Тоже люди! После отец второй раз приехал, женился, – из Курской губернии привез нашу мать… Любаша, говорят, на нее две капли воды похожа… Тут вдруг польская кампания; отец уехал, а мать была мною беременна. Умерла в родах, а я вот жив остался. Люди рассказывают, что доктор приехал, пустил ей кровь, так кровь даже сверху вся жолтая, как гноем покрылась, он поскорее выбросил ее из окна.
– Это вздор! Я вам после объясню, что это вздор, – перебил Руднев. – Если бы ей сильный яд дали, и вас бы не было на свете. Продолжайте, продолжайте, мне все это для лечения нужно.
– Нет, доктор, поверьте, если не в этот раз, так прежде она хотела ее отравить. Повара за это сослали на поселение. Это такая до сих пор неразгаданная тайна! Вы знаете наш суд, Алексей Семеныч называет его всегда Шемякиным судом. Старая стряпуха до сих пор помнит, как Анна Михайловна бледная бегала; а мать молоком поили… и кто бы, вы думали, ее спас? Эта Палагея Сергевна, которую вы видели: она выпросила у матери варенье, в котором был яд, да и поела; а мать одну ложечку съела. Конечно, Палагея Сергевна – животное, вынесла, – уж, говорят, что с ней делалось; а мать с тех пор все хирела. Отец как из Польши вернулся да мать не застал, – он, первое дело, до полусмерти сестру избил, говорят, – ужас! Она от него, в ноябре месяце, за анбаром всю ночь просидела спрятавшись, а на рассвете убежала к тому брату, у которого вы вчера Колю лечили… С тех пор отец и плох. Вот у нас, батюшка, какие дела происходили. Вы нами не шутите. Любаша не верит этой истории, а я верю! Мать была добра, не сдобровала, а Анна Михайловна живет и наслаждается! Какое же тут высшее правосудие, скажите?
– Не надо его себе так представлять; тогда и не удивимся таким случаям, – отвечал Руднев. – Вам, может быть, это кажется странным; а уж если верить в высший, всемірный разум, который так, как наш дух проникает все частицы нашего тела, проникает всю природу, – так и не будем удивляться, что злой коршун доброго зайца ест; заяц развелся бы и поел бы овес у мужика и т. д. Ну, однако, покойной ночи.
Сережа ушел, а в душе Руднева, когда он остался один и погасил свечу, поднялась целая буря ощущений.
Эта жаркая комната, лунный свет на пестром ковре; этот старый дом, небрежный рассказ грубого мальчика про темные дела прошедшего; эта красивая девушка, которая, как полудикий куст розового шиповника, казалась еще милее оттого, что выросла в смрадном углу развалины, и которой девическое благоухание он слышал так близко от себя, в свежем шолковом одеяле… Руднев, Руднев!.. что с тобой?! Ты ли осмелился так свободно мечтать? Что ты подумал, глядя на ковер, на свет месяца и касаясь рукой невидимого шолка, которым тебя так радушно покрыли?.. Усни, усни скорее, мгновенный смельчак… и проснись ты завтра обыкновенным скромным Рудневым, который смеет только существовать и трудиться, а не блаженствовать.







