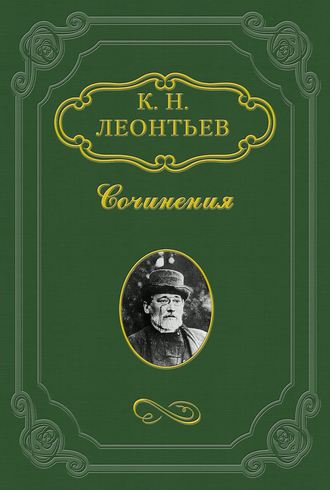
Константин Николаевич Леонтьев
В своем краю
XV
Пока Руднев странствовал по округу, сперва убитый горем, а потом вне себя от счастья, а Милькеев опять стал уединяться, читать и раздумывать, – Варвара Ильинишна принялась за дело. Богоявленский узнал, что в Троицком лекции расстроились и потому начал ездить через день к Варе и вместе с нею учить дворовых и крестьянских детей. Конечно, сразу дело не могло идти превосходно; дети слушали и смотрели с удивлением, боялись, смеялись некстати, затоптали, засморкали, заплевали весь пол; девочки закрывались руками, мальчики скорее ободрялись и затевали драки. Варя смущалась и говорила, что из этого не будет толку; топала, схватила даже одну девочку за ухо, когда та двадцать раз не могла сложить слово «тя-тя» и говорила «дя-дя». Но Алексей Семенович обращал все это в шутку, уговаривая ее быть спокойнее и не воображать, что все пойдет так плохо, как сначала.
– Подождите месяца два, и вы сами их не узнаете! прежде всего, чтобы они нас не боялись.
За порыв выдрать девочку за ухо он строго журил свою вспыльчивую невесту.
– Старый Адам, Варвара Ильинишна, старый Адам проглядывает; признайтесь, пристукивали иногда?
– Все случалось! – отвечала Варя, краснея. Богоявленский, может быть, не совсем выгодно для дисциплины, заставил ее покаяться при всех детях, что она поступила дурно, и скоро простил ей этот поступок, убеждаясь все больше и больше, что она хочет трудиться с честностью и рвением. Прежняя ученица Вари – Саша, помогала им и указывала самым отсталым детям большие и пестрые фигурные буквы на огромном листе, которые раскрасил в Чемоданове сам Богоявленский, пока господа занимались дальше с самыми способными.
– Не все помещичье надо бросать, – сказала однажды Варя, – вот у нас, у всех, знаете, привычка на маслянице или на церковные праздники раздавать пряники и ленты девочкам; нехорошо только, что бросают как собакам, а они рвут друг у друга и дерутся за них. А я думаю, не будет ли практичнее по праздникам раздавать награды тем, кто хорошо учился.
Богоявленский покачал головой в раздумье.
– Видите что! Выходит, что они это для нас делают одолжение, а мы им за это платим; и потом надо от них требовать, чтоб они в самых занятиях приманку видели, а не в побочном. Скверная вещь эти награды – для награды учиться.
– Сначала только, – отвечала Варя. – Чтобы приманить, заохотить, пока скучно еще им; или вот что, не будет ли практичнее так: ленты – это точно награды, заметно очень; а пряники, постила и яблоки, так вроде десерта всякий раз, чтобы было веселее. Вот в Троицком мы еще до театра слушали раз целый вечер, все вместе, как Милькеев читал из истории Рима, а мы пили чай и даже мороженое ели – как-то бодрее слушали.
– Ну, это другое дело, это другое дело! – воскликнул Богоявленский, не сводя с нее радостного взгляда и думая: «Не ошибся я в ней!» – Правда, правда, – повторял он и, обнимая ее, долго цаловал и упивался неожиданным счастьем.
Катерина Николаевна звала еще раз Варю и, получивши ответ, в котором Варя отказывалась болезнью, подумала, что болезнь эта душевная и сама, объезжая всех благодарить за вечер, заехала к ней и приглашала опять; несколько раз хотелось ей навести Варю на откровенный разговор и приучить ее к себе, но страшно было так поступить с человеком, которого она считала раздражительным.
Варя отвечала ей, что она очень занята теперь, учит детей и что она вообще для света не создана.
– Отчего же? – сказала Катерина Николаевна. – И что за свет – Троицкое? Уж так просто! И я сама терпеть не могу всех этих стеснений и натяжек. И почему вы думаете, что вы не созданы для света?.. Вы скажите, что вы не привыкли к нему – это другое дело.
– О, нет-с! Я просто не создана! Во-первых, я по-французски не умею хорошо говорить, – с гордостью сказала Варя.
– Так это разве значит созданы, разве с французским языком родятся?.. Вы стройны, танцуете очень легко, легче Nelly и Любаши, – так говорили мне Милькеев и Лихачов-меньшой, и даже мой Федя… Федя находит, что даже слишком легко: «не слышно, говорит, ворочать нечего». Видите! лицо у вас такое, что везде заметно будет…
– Своим безобразием! – сказала Варя.
– Нет, оригинальностью, – ласково продолжала Новосильская… – Полноте, вы сами знаете, что это так. Зачем вы от меня отдаляетесь? Наше Троицкое вроде болота: стоит только попасть в него, уж не выйдешь. Вот Руднев слишком год не ехал к нам, а теперь как с нами подружился. И Любаша, и Полина Протопопова стали часто ездить. Я вас уверяю, что Бог дал вам все, что нужно: рост, и талию, и развязность, и ум, и глаза выразительные, а это что вы говорите о французском языке, или вот еще уменье одеваться к лицу, эти вещи не – Богом даны от рождения, а приобретаются.
– Я не знаю, что Богом дается… Если Он и дает что-нибудь, так очень несправедливо: одним – много, другим – ничего. Вот Полине дано все – и красота, и богатство, и ловкость, и положение в обществе…
– Какое же общественное положение? Что ее муж был губернским предводителем и что она со всеми ревизорами и флигель-адъютантами танцевала в первой паре мазурку? Это ведь не всякому нужно… и по-моему, она не умна, и скучна, и суха… Да вот еще насчет французского языка я хочу вам сказать… Остроумие, находчивость, некоторые приемы, наружность и еще стройный стан – это везде и всегда будет годно; а язык этот скоро, поверьте, перестанут считать у нас необходимым для светской жизни… Что за вздор… Знает – хорошо, не знает, да все другое есть – не беда… Мало ли есть порядочных англичанок и итальянок, которые ни слова по-французски не знают… И русский язык теперь уж со времен Пушкина, Лермонтова и Тургенева приноровили так, что на нем и всякие эти легкомысленности очень мило могут выйти. Бросьте вы это недоверие и приезжайте к нам. После занятия с детьми еще лучше повеселиться… Наша молодежь тоже вся занята по утрам, и они могут вам много пользы сделать своими советами.
– Merci, – отвечала Варя, – мне не нужно – со мной Алексей Семеныч занимается… Впрочем, я подумаю и, если будет время, постараюсь… Я вам очень благодарна.
Новосильская уехала, упрашивая ее приехать не с церемонным визитом, а ночевать дня хоть на три, сначала, потому что деревни их за двадцать пять верст друг от друга; а Варя в тот же день виделась с Алексеем Семенычем и рассказала ему, как она отклонялась от приглашений графини.
– Щемило сердце, ох как? – спросил он.
– О! нет, – отвечала Варя.
– Будто бы?
– Перестаньте, какой вы демон, – отвечала Варя. – У меня вот когда щемит, когда вы начнете через очки так пристально на меня смотреть.
– Так хочется?
– Да нет же, нет… Противный!
– Если хочется, – продолжал, спокойно наблюдая ее душевные конвульсии, Алексей Семеныч, – если хочется, – говорил он медленно, – то можно и съездить. Прятаться от людей, значит сознавать себя бессильным. Отречение – вздор, сидя в своей мурье, но отречение для высокой цели, на людях, при увлекающей обстановке – вот это дело. Умей, живя с людьми, презирать их пустые радости, бороться с ними – вот это дело: в Фиваиду удаляются только те люди, которые не могут вытерпеть, чтобы не скоромиться постом. Поезжайте… Поезжайте. – Развлечение и испытание.
– А если?.. А если?.. – спросила Варя.
– Ну, что ж? Что значит это «если»?
– Если? – повторила она, краснея. Богоявленский прошелся по комнате.
– Если? – повторил и он, – ну, что ж, тем лучше… Увидим, что делать дальше.
– А наше слово, – слово, которое мы друг другу дали?
– Что слово? Что такое слово, Варвара Ильинишна? Слово – пустой звук… Из-за слова надевать на себя цепи! Помилуйте… Кому же этим пользу сделаешь, посудите, Слово! Дело очень ясно: если его вы встретите, обсудите дело сами; теперь вы сблизились со мной, короче узнали меня и сравните, взвесьте, кто вам больше понутру…
– Как мило: понутру? разве можно так женщине говорить?
– Вот видите, хвостик Новосильской и остался… Ну, этак пусть будет – по душе, если нутро вам не понутру. Так, я говорю, разберите, взвесьте, оцените все, как знаете – к весне увидим, едем ли мы с вами в Петербург или я, бедняга, один уеду… А все-таки, сами согласитесь, что лучше нам разойтись, чем ненавидеть друг друга…
– Стоило поднимать все это!.. Что за любовь ваша, когда вам все равно: хочешь – любишь, хочешь – нет… Что это такое?.. что это такое? Это разве любовь? это разве любовь?.. – настаивала она, кокетливо приступая к нему.
– Любовь-с, любовь-с… Значит, любовь-с, когда я вот вижу, как вы от радости, что можете ехать в Троицкое, сами не знаете, что говорите! А все-таки не сержусь.
XVI
«Простенькое платье к лицу, прекрасное пение, скромные игры с детьми, неглупые разговоры с Катериной Николаевной и Nelly – молодец Варя! На все руки! И как Катерина Николавна ко мне внимательна! Значит, я не так уж плоха! И за что я так себя презирала? Теперь, если бы и он меня увидел, я бы верно не была бы ему противна!» Вот как в трое суток, проведенных в Троицком, зазналась Варя!.. Сознание того, что она дома все это время трудилась с Алексеем Семенычем, а теперь имеет и здесь успех, вдруг подняло ее до той бодрости, при которой человеку кажется, что он все себе может позволить и что ему все сойдет с рук.
Как нарочно, Лихачев приехал на третий день. И она не совсем ошиблась в его чувствах. Неприятно пораженный сначала ее присутствием, молодой человек скоро остался доволен ее скромностью и несколько томным и серьезным видом, который приобрела она после того, как у нее болели грудь и душа. Глядя мимоходом, как она, гладко причесанная, в чистом воротничке и темном толковом платье, смотрела с Машей большую книгу с старинными гравюрами и с участием расспрашивала ее о той или другой картине и делала сама разные замечания, Лихачев подумал: «Как приятно, однако, видеть, что женщина, которой страсть нас обременяет, может еще жить помимо нас и не утратила способности к тем умным наслаждениям, которым всякого научит этот удивительный дом!.. Когда бы она меня забыла!» Интересуясь знать, как об ней думают здесь, он спросил, нарочно, у Nelly: – Кажется, Варвара Ильинишна ночевала у вас две ночи?
– Да, две ночи, – отвечала Nelly, – y меня в комнате… Маша уходила спать к матери… а она была со мною; она мне нравится. Бедная! она, говорят, так одиноко живет!
– Этого нельзя сказать, – отвечал Лихачев, – разве недавно. А то ведь она безвыездно по неделям гостила то у Протопоповых, то у Авдотьи Андревны. Очень бойкая девушка, но с дурными манерами.
– Эти три дня она гораздо лучше была, чем на вечере. – Кажется, тогда она была чем-то огорчена, – сказала Nelly.
Катерина Николаевна выразилась про нее гораздо откровеннее и вместе с тем хитрее.
– Она ведь не глупенькая, Александр Николаич, только ужасно иногда кривляется, и я с ней все время на иголках… Того и гляди, чем-нибудь обидится; и еще вы заметили, как она плечами шевелит, когда смеется… Смеется совсем как горничная. Но она гораздо умнее Любаши, гораздо умнее! Вот бы вам заняться ею; воспитаем ее вместе, а вы женитесь; приятеля вашего сестра, и за ней пятнадцать тысяч серебром приданого. Годится все-таки… Мне кажется, что из самолюбивой и умной девушки можно все сделать… Она теперь детьми крестьянскими занимается. Как вы думаете?
– Мне кажется, что симпатичною женщину сделать так же невозможно, как самого умного и образованного человека сделать таким писателем, каков был Пушкин. Это – врожденное. Посмотрите, вот Nelly ничего почти не делает и, кажется, от нее особенной пользы не видать; да уж одна польза оттого, что она такая, а не иная… Не знаю, впрочем, как вы думаете… А я думаю, что я прав…
Катерина Николаевна на это не отвечала ничего, но глаза ее заблестели от двойной радости: слышать и правду, и похвалу своей Nelly.
Уезжая, Лихачев пожал руку Варваре Ильинишне и шепнул ей: – Прощайте; когда бы вы всегда так мало обращали на меня внимания, как бы я вас уважал… Вы здесь были очень милы!
Крайне довольный, что все это, кажется, кончилось, и Варя будет себе жить, как и все и еще гораздо лучше прежнего: учить детей с Богоявленским, будет ездить в Троицкое, в Чемоданово и к Полине – он встал на другой день, по обыкновению, рано и, севши со стаканом кофе у окна в большое кресло, взял Пушкина, которого знал почти наизусть и все-таки не мог никогда им вдоволь начитаться. Вспоминая о Варе и Nelly, напал он нечаянно на одно стихотворение, крайне свободное и ясное до того, что только Пушкин мог себе позволить такую вещь: Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем…
Прочитавши Пушкина, взял он другого своего любимца, Шекспира, и отыскал то место, где французский король, уводя с собою обиженую отцом Корделию, говорит, что «отвергнутая родными, она ему еще милее…» Мысль за мыслью, Nelly и Корделия, Варя и Nelly, Любаша, Nelly и Корделия, Любаша, Варя и Nelly, Nelly, Вакханка, Клеопатра, Варя и капризная Катерина в «Исправленной строптивой», гражданский труд и бодрость, освобождение крестьян, либеральная должность, новый домик и свой очаг – вдали путешествие изредка как будто одиноким холостяком, но таким одиноким холостяком, который знает, что ждет его дома в глубине русских полей и за родными рощами, не на песке построенное счастье, – а жена добрая, синеокая, румяная, с утра разодетая и всегда ровная, как водное зеркало того озера в зелени, на берегу которого они все веселились два года тому назад.
Мысль за мыслью, картина за картиною, дошел он до того, что задал себе вопрос: как на него смотрит Nelly, и любит ли она Милькеева или нет, и что этот чудак Милькеев, в самом деле, намерен заняться Любашей или это он хитрит, чтобы там чего-нибудь достичь? Ведь он откровенен иногда до наглости и бесстыдства; но чего он ищет, чего он хочет – иногда так же трудно узнать, как у самого таинственного скрытника; скрытник молчит не сложно, а этот чудак отыскивает тысячи новых ресурсов в своем изворотливом уме и так часто является в новой коже, что в него надо бы было бить вперед, как в птицу на лету, если бы только можно было уловить, куда он полетит завтра!
«Да, в этом и весь вопрос! Куда он полетит завтра?» С этими мыслями Лихачев, надев дубленку и шапку набекрень, как всегда, сходил покормить собак на псарню, посидел на конюшне с кучером, полюбовался на мартовские поля, с которых крупными пятнами уже начал сходить весенний снег, и хотел велеть давать себе обедать, не дожидаясь брата, который уехал надолго в город, как вдруг в воротах показался на беговых санках Милькеев.
Лихачев был ему всегда рад; он кликнул кучера, чтобы принять у него лошадь и распречь ее, но Милькеев распрягать не велел, и тогда Лихачев заметил, что у него и глаза невеселые, и выражение всего лица какое-то скучное и сухое.
– Что с тобой? – спросил он, введя его во флигель.
– Что со мной? – спросил Милькеев, сбросив с себя полушубок. – Скучно, вот что со мной… Душно, скучно… Тоска такая, что сил нет…
И он начал скорыми шагами ходить взад и вперед по комнате.
– Нет! Это отвратительно, весь век провести в этой скромной доле… Это невозможно… Я уеду! Душа моя! Дай мне взаймы пятьсот рублей.
– Постой, постой… ты мне скажи…
– Нет, ты мне скажи, дашь ты мне пятьсот рублей… или нет? А то поеду чорт знает к кому занимать… В Чемоданово поеду, к Рудневу, к Сарданапалу – осрамлюсь, но займу хоть по частям… а уеду…
– Да куда! Куда, скажи…
– Куда уеду? Что тебе до этого? Можешь ты мне дать пятьсот рублей или нет?
– Смотря по тому, скажешь ты или нет, куда едешь.
– Ты рутинер или нет? – спросил Милькеев, – дурак ты или нет? Настоящий приятель ты мне на дне души или злорадный друг? Ну, что ж ты не говоришь? Скажи прежде всего, дурак ты или нет?
– Дурак, – отвечал Лихачев, – потому что ничего не понимаю, что с тобой.
– К Гарибальди еду – вот что. Теперь понимаешь? Вот что! к Гарибальди хочу ехать… Но ты понимаешь, что значит на такую вещь решиться нашему брату, в глуши? Понимаешь ли ты весь риск смешного? Я измучусь, если это не удастся… До тех пор, пока не сяду на тройку, не выеду вовсе из Троицкого – не успокоюсь… Это уж кончено!.. Дашь ты мне пятьсот рублей или нет?
– Погоди, у меня теперь всего двести, спрошу у брата; у него всегда есть деньги.
– Я хотел с братом твоим посоветоваться насчет кой-чего по этому поводу… Так я заеду к нему, а теперь прощай. Я вижу, что ты веришь мне только на двести рублей серебром. Прощай!
– Постой, постой, – сказал Лихачов, – это вздор, дождись брата, я тебе слово даю, что я достану тебе или у него или у Сарданапала еще триста рублей. Будь только покоен… Садись, я велю твою лошадь отпречь и пообедаем, а к вечеру брат приедет… И чтоб тебя скорей утешить, подожди, я сейчас…
С этими словами он отпер ящик в письменном столе, отсчитал двести сорок рублей наличных денег, оставил себе двадцать, а двести двадцать отдал тут же Милькееву.
– И двадцать годятся, все меньше у других занимать! Милькеев обнял его и сказал: – Очень может быть, друг мой, что ты этих денег и не получишь. Потому что кто знает, что там будет… Но поверь мне, я, даже и умирая, раскаяваться уж не стану, что занял их у тебя.
– Очень приятно слышать, – отвечал Лихачов, – так уж я на всякий случай заранее их похерю… Выпьем-ка хересу да потолкуем, какие это соображения заставили тебя сделаться таким коммунистом не на словах, а на деле… Иван! давай-ка обедать…
Милькеев с жадностью пересчитал еще раз деньги, выпил одну за другой три рюмки и съел две тарелки супу, объясняя Лихачеву, как ему пришла мысль уехать в Италию.
XVII
Они спорили и рассуждали до тех пор, пока стало немного смеркаться.
– Любопытно было мне самому узнать, что это меня гонит, – говорил Милькеев, – спрашивал, спрашивал себя, и все не могу… Строго добирался, уж не желание ли новых успехов – какие еще успехи? Меня здесь все любят и – баста! Ну, да что там толковать; знаешь ли, что Руднев влюблен в Любашу не на шутку… Не знаю, как она… Они оба что-то перестали ездить… Руднев заглянул только в лазарет, а теперь в округе третью неделю пропадает.
– Уж не ты ли его счастливый соперник? Впрочем, знаешь ли, что я тебе скажу… Что с тобою? Что ты встал?
– Послушай, – сказал Милькеев почти с отчаянием, – Бог с ними! Бог с ними! Дай Бог счастья Рудневу и ей… Они оба стоят его… Но мне, клянусь тебе, не до них… Что же брат твой не едет, скажи мне… Послушай, душа моя, успокой меня, доставь мне вечер наслажденья, вместо целой ночи муки, чтобы эти пятьсот рублей были все сполна у меня в руках сегодня… Не жди брата, съезди к Сарданапалу.
– Поедем вместе… А ты лошадь отпусти свою.
– Ну, нет, ни за что! – отвечал Милькеев. – Лошадь? Ни за что! Я завтра же уеду, чтобы с деньгами в кармане продолжать там, пока до Святой, уроки… Я забрал уже вперед деньги до половины апреля, и надо ей отслужить… Да я у тебя умру с тоски без работы. А там пока все пойдет своим чередом… Вели запречь и поезжай к Сарданапалу и привези мне еще триста рублей.
– Так вот сейчас ехать… Послушай, однако… После обеда.
– Последний раз, Лихачев; ведь скоро ты меня и не увидишь… А я один подожду… Может быть, брат твой подъедет пока.
Лихачев, покачивая головой, велел запречь себе лошадей и уехал; а Милькеев, спустивши только его с глаз, сел в свои сани и поспешил в Чемоданово.
В зале его встретил Максим Петрович очень неприветливо и спросил: «какими это судьбами?» – Я к Алексею Семенычу! – сухо и надменно отвечал Милькеев и, не обращая большого внимания на старика, прошел мимо него в коридор, застал Богоявленского одного за чтением и немного погодя заперся с ним на ключ.
– Я хочу огорошить вас, Алексей Семеныч, – сказал Милькеев.
– Извольте, горошьте, я готов, – отвечал Богоявленский.
– Едемте вместе, недели через две, в Италию, к Гарибальди; в волонтеры поступим, если удастся… Отчего же? Англия также чужая земля для Италии, а англичан, посмотрите, сколько там будет… Денег нам надо немного. Мы с вами не на балы придворные будем ездить… Ах! Алексей Семеныч, Алексей Семеныч… Если мы с вами здесь в грязь и снег таскались на долгих в кибитках и в избах ночевали, так ведь вся Италия дворец перед этим… Чтобы бедный русский не мог перенести там то, что он иногда переносил здесь… Да в этом смыслу нет! Я знаю, каково было ваше житье прежде; да знаю, здесь оно каково! А там-то, там-то! Горы! Неаполь – с народом вместе, и с каким еще народом… который страстнее и добродушнее французов и способнее их к той свободе, которой образец мы видим в Англии.
– Английская свобода – фальшивый идеал, – отвечал Богоявленский в раздумье.
– Положим так, в нем много фальши, потому что мало любви, но в Италии то же самое будет с любовью, и цветущего, бедного итальянского рыбака нельзя же ставить на одну доску с золотушным английским работником. Правда ведь… А? Скажите сами? Потом, в этом есть еще другие стороны…
Милькеев понизил голос.
Богоявленский встал, прошелся по комнате, потом сел и молчал.
– Конечно, – сказал он, – приятно быть атомом в таком прекрасном деле… Но откуда вам вдруг пришла такая странная и смелая мысль?..
– Это кто мне говорит? Это вы мне с удивлением говорите – смелая мысль? Вы? Послушайте; отчего же я вас, именно вас выбрал себе в товарищи… У меня есть тут два приятеля, пожалуй, друзья – Руднев и Лихачов; однако я не к ним обратился… Выразить вам, как я уважаю Руднева – трудно, но я знаю, что ему предлагать этого не следует… Он – доктор, он страстно любит свой край, и к тому же его привлекает еще другое…
– Постойте, я знаю, что это такое за другое! Знаю… И ему платят тем же. Я уверен. Она князю Самбикину отказала недавно… Но почему вы думаете, что и у других не может быть того же? Я, Василий Николаич, вас сам несколько уважаю, по крайней мере знаю разницу между вами и всей этой шаверой, которая нас с вами окружает, и не хотел бы, чтобы вы думали чорт знает что обо мне, что я рутинер, трус что ли, или Хлестаков, хвастун на словах… Я здесь и сам не намерен киснуть и гнить… все-таки мы хоть на что-нибудь да годимся… Надо здесь трудиться, а там и без нас обойдется дело… Но пусть будет по-вашему – опыт, участие в движении, пусть мы имеем столько же права, как и богачи, ездить за границу и с большим смыслом съездить, чем все эти таскуны и обжоры… Но я вам скажу не обинуясь, что и у меня есть задержка здесь… Я хочу жениться… разумеется, если она не откажет… на Варваре Ильинишне… Девушка эта мне нравится… И я хотел бы вместе с нею, а не один уехать в Петербург. Я говорю вам это, надеясь на вас… Раньше времени не хотел бы я, чтобы кто-нибудь знал… Мне было бы это не по вкусу…
– И я ехал к вам с своим планом итальянского путешествия, с такой надеждой на вас… Подвергнуться насмешкам в моем случае опаснее, чем в вашем. Вас еще пожалеть могут, если ничего не выйдет, а меня осыпят насмешками… если не в глаза, так заочно! Да вот еще что… Она-то вас любит?
– Я люблю ее, – отвечал Богоявленский, – а она свободна и богаче меня в пятнадцать тысяч раз, так как у меня ничего нет, а у нее пятнадцать тысяч. Значит, если она согласна, она знает, что делает…
Милькеев помолчал и поколебался, но начать дело и не доделать… это хуже всего!
– Бывает ведь и так, что девушка, любя безнадежно, выходит с горя за другого! Бывает ведь и так! – сказал он.
Богоявленский покраснел.
– Не знаю, насколько любит она теперь Лихачова, – отвечал он прямо, – но знаю, что любила прежде, что она была его любовницей; но ведь вы понимаете, должно быть, что это все вздор… Из такой женщины скорее выработается друг, чем из невинной и презренной фитюльки, которая сама не знает, что она будет завтра…
– Я иначе вас и не судил… Но заметьте, что в такой-то женщине и друге особенно надо искать откровенности и правды… Уверены ли вы, что она с вами вполне пряма? Дело не в верности, а в искренности… уверены ли вы…
– Почти… – отвечал Богоявленский с болью на сердце.
– Смотрите, смотрите, я бы на вашем месте подумал бы, да и подумал.
– Спасибо за совет… Я вам дам ответ дня через три.
– Конечно, обсудите хоть сколько-нибудь… Я так буду гордиться, что мог увлечь такого человека, как вы… Я изною от нетерпения… Подумайте… подумайте, где мы будем, что увидим, к чему привыкнем… Прощайте…
– Подумаю, подумаю… Прощайте, – отвечал Богоявленский, и в первый раз, с тех пор, как он знал Милькеева, он задумчиво вздохнул.
Милькеев, не совсем довольный своей полуудачей, прошел опять мимо старика, который бродил по зале, едва поклонился ему, и, не встретив Любаши и Сережи и никого из старших, уехал опять к Лихачеву, а Богоявленский не спал до рассвета, ходил по комнате, даже в большие нежилые покои вышел, чтобы дохнуть свободнее, и половицы в огромной зале так скрипели всю ночь от его шагов, что Анна Михайловна наверху испугалась и завернулась с головой в одеяло.







