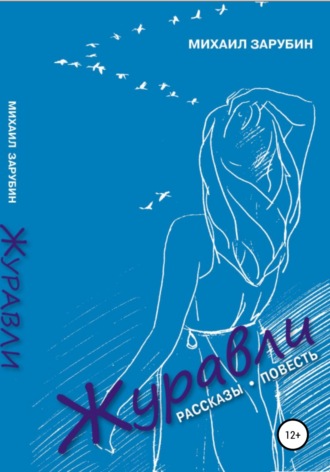
Михаил Константинович Зарубин
Журавли. Рассказы
Гонец из юности

Вокруг как-то быстро все померкло, погасли последние утренние звезды, небо заволокло тучами, и начался нудный, долгий, моросящий дождь. Дядя Вася, руководивший бригадой косарей, громко ругал погоду, поглядывая на небо, словно ждал оттуда, сверху, каких-то утешительных новостей или распоряжений.
– Господи, не могла эта проклятая погода подождать хоть чуть-чуть, одна луговина осталась за большой еланью. Сгребли бы сено, в зарод сметали, тогда и лей, хоть залейся, а сейчас жди, когда подсохнет…
– Василий, говорил я тебе, что косить не надо, – встрял в разговор дед Филипп, который обычно метал сено в зароды.
– Когда это ты мне говорил? – набычился дядя Вася. – Чего ты из себя умника строишь, задним-то числом?
– Не заводитесь, мужики, – миролюбиво сказал Мишка Солод, встал из-за стола, вышел на воздух и, задумчиво попыхивая под навесом самокруткой, грустно поглядел в призрачную дождливую морось, похожую на гигантский рой мошкары.
Вслед за Солодом и вся бригада выбралась наружу. Разойтись никто не посмел – не было команды. Все курили и ждали распоряжений дяди Васи. Наконец, бригадир принял решение:
– Одевайтесь, мужики, потеплее, пойдем зароды огораживать.
Никто не спорил, дело это нужное, хотя в дождь любая работа не в радость.
– Дед Филипп, ты останься, чего мокнуть-то, – примирительно пробурчал дядя Вася.
– Да нет уж, Василий, пойду со всеми, вязку делать буду.
– Накинь мою накидку.
– А ты как?
– А я колья забивать буду, все равно вспотею и скину…
Постепенно все втянулись в работу. Мужики готовили в лесу жерди и колья, пацаны тащили их к зародам, дядя Вася и Мишка Солод забивали топорами колья, а Иван Петухов подменял попеременно одного из них.
Дед Филипп из гибких ивовых прутьев делал опоры для жердей. Намокшие прутья были податливыми, работа спорилась. От косарей, как от паровых утюгов, валил пар. Пообедали всухомятку, у кого что было. Потом почаевничали, покурили и вновь за работу.
Погода, казалось, сжалилась над косарями; бурые облака, висевшие над покосным лугом, поредели, разошлись, исчезла морось, и казалось, никаких препятствий работе больше не предвиделось.
Мишка Карнаухов тоже промок до нитки, он занимался тем, что таскал из перелеска жерди и колья. Отяжелевшая от воды одежда затрудняла движения и холодила все тело. В очередной раз, подавая жерди бригадиру, мальчик услышал команду:
– Мишка, дуй в зимовье, растопи печь, приготовь чего-нибудь на ужин!
– А чего приготовить, дядя Вася?
– Ты же повар, не я. Приготовь макароны с тушенкой, что ли.
– Будет сделано! – козырнул Мишка.
– Беги, беги.
После ужина, покурив и поругав небесную канцелярию, мужики стали укладываться спать. В зимовье дышать было трудно. Терпкий запах пота, исходивший от разгоряченных мужских тел и подсыхающей одежды, развешенной на просушку по всем возможным зацепам на стенах, вынудил молодых парней устроиться на ночлег под навесом.
Сумерки быстро накрыли зимовье. Они пришли так быстро, что никто и не заметил этого. Казалось, они бесшумно рухнули откуда-то сверху, с небес. Только пронзительнее зазвенел перекат на речке, громче закуковала кукушка, капризнее заухал филин. И вдруг среди этой полнозвучной лесной тишины залаяли обе собаки, которых Иван Петухов взял с собой. Они, как бывалые охранники, деловито бегали по округе, отпугивая непрошенных лесных гостей, в том числе и косолапых.
– Кто это к нам? Иван, проверь, неужто «хозяин»?
– Да ну тебя, дядя Вася. Похоже, кто-то едет.
– В такую погоду? Нет, Иван, это вряд ли.
Собачий лай усилился, мужики вышли и с любопытством смотрели на дорогу, выходящую из леса. Показался верховой.
– Кто это? – спросил Мишка Солод.
– Похоже, Толька Замаратский.
– А чего приперся? Неужели беда какая?
– Сейчас узнаем.
Толька подъехал к зимовью, соскочил с коня и радостно крикнул:
– Привет, мужики!
Посмотрев на молчаливые лица, спросил с удивлением:
– А чего молчите-то?
– Это ты нам скажи, что тебя по такой погоде принесло?
– Может, под навес хотя бы пустите? Да и коня в изгородь поставить неплохо бы.
– Колька, коня накорми-напои, – скомандовал дядя Вася. – Заходи, Толя, рассказывай.
Гость сел за стол, выпил кружку воды. Мужики молча смотрели на него, ожидая самого худшего. Дед Филипп не выдержал первым.
– Кто-то умер, что ли, или война началась? Чего ты молчишь?
Толька всплеснул руками.
– Господи, какая война! И никто не умер.
– А чего приехал?
– Приехать нельзя, что ли?
Все опять замолчали, недоуменно поглядывая друг на друга.
– Ладно, томить не буду, – сказал Толька с хитроватой улыбкой, – приехал я за Мишкой Карнауховым, в лагерь его отправляют.
– Мишку в лагерь? Час от часу не легче… – протянул бригадир. – Чего он натворил такого? Парень, вроде, хороший, толковый…
– Дядя Вася, вы не поняли… – хмыкнул Толька. – Где Мишка?
– Здесь я.
Мишку, не понимавшего, что происходит, подтолкнули к столу. Толька победоносно провозгласил:
– Мишку отправляют в пионерский лагерь!
– Это который за песчаным яром, напротив аэродрома? Стоило коня гнать, мы через неделю, если дождя не будет, в деревню вернемся, – беспрекословно подытожил бригадир.
– Нет, лагерь не районный. Мишку отправляют в Крым!
– Куда? Куда? – послышались удивленные голоса. – В какой это еще Крым?
– В Крым, во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек».
– Ни хрена себе, – выпалил Иван Петухов. – За что ж ему такая честь?
– Сказано: за учебу.
– За учебу! Мишка, ты что, отличник? – спросил дядя Вася.
– Две четверки за год, – еле слышно ответил Мишка.
– Сколько четверок?
– Две, – уже громче, сухими от волнения губами повторил Мишка.
– А полноценного отличника не нашлось? – нарочито сурово спросил Иван Петухов. – Чтоб все пятерки? А?
– Что вы меня пытаете, дайте лучше поесть! – подвел итог совещания измученный Толька.
Пока гость ел, его расспросили обо всех деревенских новостях, разобрали гостинцы, переданные заботливыми родственниками.
От счастья Мишка не находил себе места, ему хотелось в одиночестве осмыслить это чрезвычайное событие. Он зарылся в копну сена с головой и сделал вид, что уснул. Но в голове его билась одна-единственная мысль: он едет в «Артек»! Неужели именно ему из всей школы так повезло? Он увидит Иркутск, Москву, а самое главное – будет купаться в Черном море. Разве это не чудо? О таком он не мог даже мечтать.
– Мишка, где ты? – глухо донесся голос его одноклассника, Вовки Анисимова.
– Да здесь я, что надо?
– Дядя Вася зовет.
Мишка выкарабкался из копны, слегка отряхнулся. Мальчишки робко протиснулись в душное зимовье, где с заинтересованностью казаков, пишущих письмо турецкому султану, косари что-то обдумывали и обсуждали.
– Мишка, – сразу накинулся бригадир, – где «Артек» расположен?
– В Крыму.
– Что в Крыму, я знаю. Но Крым большой. В каком месте?
– Рядом с Ялтой, дядя Вася.
– Точно. Мы освобождали Ялту, я запомнил, у них там есть село, со странным названием – Никита.
– Так людей называют, а у них – село.
– Где-то рядом с этим селом лагерь и расположен.
– Василий, ты хочешь сказать, что в «Артеке» бывал?
– При чем тут лагерь? Мы видели только развалины, обгорелые печные трубы, битые кирпичи и стекла… На набережной – доты, встроенные в углы зданий. Кругом копоть, дым, а деревья в цвету! Природу не обманешь, подошла пора, цвести надо. До того, как город освободили, почти двое суток на себе перетаскивали орудия и пулеметы, через горы, скалы, по бездорожью…
– Ну, понеслось, – тихо сказал Вовка, – теперь полночи вспоминать будет… Пошли под навес…
– Мишка, ты куда собрался? – остановил мальчишку голос бригадира.
– Под навес, дядя Вася.
– Зачем?
– Спать.
– Да ты посиди, послушай, успеешь выспаться, на отдых едешь.
Мишка присел на нары, потом поудобнее привалился к стене и стал слушать дяди Васины воспоминания. Под его рассказ утомленные мужики один за другим начали клевать носами, а вскоре сон сморил и счастливого обладателя путевки в «Артек».
Утро выдалось опять пасмурным. Позавтракав, Толька Замаратский с Мишкой стали собираться в деревню. Подошел дядя Вася.
– На холке, поди, тяжело будет, задницу отобьешь.
Мишка промолчал. Анатолий, посмотрев вокруг и улыбнувшись, ответил за него:
– Дядя Вася, мне не впервой, меняться будем, если совсем невмоготу, спешусь, рядом побегу.
– Может, таратайку запряжешь?
– Так ее ведь возвращать надо.
– И то верно.
Подойдя к изгороди, где паслись лошади, дядя Вася вдруг твердо сказал.
– Давай, Мишаня, седлай Светлого, все равно без тебя на нем копны возить некому будет.
Мишка растерянно смотрел на собравшихся мужиков, которые, как он чувствовал, тайно, в своих сердцах гордились им, младшим односельчанином, и хотели хоть как-то выразить ему свое почтение, свою гордость. И сегодняшний невероятный Мишкин успех, его достижения, которые вышли на такой недосягаемый уровень, казались им частичкой великого счастья, о котором они мечтали в лихие военные годы…
– Седлай! – радостно засмеялся Иван Петухов. – Пока не передумали.
Мишка бережно за узду вывел Светлого, накинул седло, подтянул подпругу и перекинул мешок с вещами у передней луки.
Стали прощаться. Пожимали Мишке руку, хлопали по плечу.
Бригадир подошел последним.
– Мишка, передавай Крыму привет от меня. И морю поклонись – я ведь один-единственный раз в жизни купался в море, никогда этого не забуду…
– Хорошо, дядя Вася.
– Ну, поезжайте. Толя, скажи в правлении, что скоро заканчиваем, вёдро установится, два-три дня, и мы по домам.
Конь легко шел по лесной дороге. Мишка не оглядывался на зимовье, представляя, как уменьшаются за его спиной навес с изгородью для лошадей, старые могучие ели и ветреные березки, вечно бурливый речной перекат и безмолвный, исполненный тайного достоинства непроглядный омут.
Грустно почему-то стало Мишке. Умом он не понял, но сердце его почуяло, что там, у речки Тушама, в этих благословенных местах, которые он уже никогда не увидит, завершилось детство. Что это не односельчанин Толик привез радостную весть, а гонец из юности за ним приезжал. Что по лесной дороге, благоуханной и легкой, этим летним утром он уходил из детства.
Мгновения для души

…Опять осень. Я люблю ее и всегда ей радуюсь. Ранняя осень примиряет с миром, заставляет оглянуться на недавнее минувшее, шумное, ненасытное в своих летних аппетитах. Тщетность удовольствий, недолговечность праздника бытия наводит на мысли о незыблемом, вечном, о том, что во все времена лежит в основе всего, что, даже умирая, остается неподвластным времени. Осень называют меланхоличной, грустной, обманчивой. Но я с этим не согласен. У каждого времени года свое предназначение. По моему жизненному опыту выходит так: зима – для работы, весна – для любви, лето – для семьи. А осень – время мгновений, просветляющих душу.
Меня ничто так не вдохновляет, как осенние краски природы, их сложные цвета и оттенки. В эти сочные краски хочется окунуться, как в море, брызгаться опавшими листьями, расплескивать пряный воздух… И созерцать, и мечтать, и любить, и верить.
Примета ранней питерской осени – утренние туманы. Еще все зелено, еще тепло, но они, предвестники грядущих ледяных дней, густыми молочными реками насыщают утренний воздух и бесследно растворяются в океане рассветного неба. Иногда в это время, пока близкие спят, я езжу на велосипеде. Дорога ведет мимо садов, заборов, перелесков к дальнему лесу. В сильный туман видны только крыши домов, но постепенно пейзаж проясняется, проявляются ограды, деревья, палисадники, вспыхивают на мокрой траве капельки росы. Это таинство возникновения красоты происходит в полной тишине, и только насыщенные запахи увядающих листьев и трав свидетельствуют, что это не сон.
На повороте перед обратной дорогой останавливаюсь: скамеечка под величавым раскидистым дубом ждет меня. Наслаждаюсь покоем утра, наблюдаю трудное рождение солнечных лучей – слежу, как они, словно тоненькие кисточки художника, усиливают, насыщают цвета просыпающегося мира. Хорошо! Прищуриваюсь, солнце светит ярче и ярче. Оглядываюсь вокруг – где же туман? Неужели от него осталась только белая рябь на холодной тверди утреннего неба? И мне отчего-то становится радостно.
С этой радостью я возвращаюсь домой.
* * *
В нашем саду у бани растет высокий клен. Когда приходит положенное время, за одну ночь маленькая полянка под деревом сплошь покрывается опавшей листвой. Не оторвать взгляда от желтых, похожих на лапы огромной диковинной птицы пятипалых листьев, трепетно прильнувших к шелковой, ласковой траве. Ступаю медленно, листья еще живые, яркие, золотистые. Боюсь их поранить, смять. Но как же хочется собрать их в охапку, уткнуться лицом, вдохнуть живительный запах осени и унести все это богатство домой. Чтобы, просыпаясь утром и засыпая вечером, любоваться и не налюбоваться этой красотой. Но я знаю, что в комнате они быстро увянут. А здесь, в звонкой тишине, еще надолго сохранят красоту медленного осеннего угасания.
Холодные ночи еще впереди, и листья не спешат, падают плавно, как будто стесняются своей слабости, своего притяжения к земле. Яркий лист клена, оторванный ветром от материнской ветки, в вертикальном полете пересекает границу бытия-небытия. Даже завидно, с какой легкостью, с каким смирением он прощается с жизнью, как будто знает, что все это временно, что весной все оживет и повторится вновь. А мы как? Как мы осознаем последний час жизни? Как пролог к грядущей вечности или как трагедию безвозвратного конца? Каждый по-своему…
* * *
Солнце в августе особенно нежное, по-матерински ласковое, ночи по-отцовски скрытные, сдержанные, чувствуешь, что ночью происходят какие-то перемены, а не видишь, какие именно. В наших северных широтах последний месяц лета после первой его декады считается и первым месяцем осени. В воздухе появляется неуловимый запах увядания или, можно сказать, несравненный, волнующий, как дорогие духи, аромат последнего прощания. В августе каждой клеточкой, каждой жилкой чувствуешь свою кровную связь с миром, сокровенную сопричастность всему, что происходит, происходило давно и будет происходить через сотни лет. Как такое может быть? И почему так щемит сердце?
Август великолепен, величествен и беспрекословен, как древнеримский император. В августе все преображается, наполняется особым смыслом. Я страшусь что-то важное упустить, просмотреть, прослушать. В августе удается иногда увидеть себя со стороны. И понять, что доброта, душевная щедрость, светлые мысли делают тебя сильным, уверенным. Что только независтливое, любящее сердце может быть мудрым.
Август светел и тих, в его благодати сердце может услышать тихий стон другого человека, проникнуться чужой болью, принять ее в себя, как ласковая трава принимает в свои объятия падающие на нее листья.
* * *
…Плывет по Илиму на большой лодке крестьянская семья. Молодые, здоровые люди ищут пригодные для своей будущей жизни места. По обе стороны реки сомкнутым строем грозно стоят угрюмые леса, в них мирно соседствуют сосны, лиственницы, ели и березы. Здесь нет деревьев-гигантов, при одном взгляде на которые кружится голова; здешние деревья не красивее, не крупнее тех, что растут где-нибудь на Вологодчине. Но поражает пространство, занятое этой природной ратью. Это тайга без конца и без края. Заливаются птицы, жужжат насекомые. Хвоя, припекаемая солнцем, насыщает воздух густым запахом смолы. Поляны и опушки у берегов, покрытые голубыми, розовыми и желтыми цветами, кажутся усыпанными смальтовыми кусочками упавшей на землю и разбившейся радуги. Протяни к ним руку, и вмиг они соединятся в единое ослепительное сияние.
Притягательность тайги в ее скрытых силах, в ее непостижимой, космической огромности, в том, что лишь перелетные птицы знают, где она кончается. Сделаешь остановку, взберешься на сопку, заросшую лесом, глянешь вперед на восток, по направлению реки, и видишь: внизу лес, дальше еще сопка, кудрявая от леса, за ней другая сопка, потом еще одна… И так без конца. Идешь дальше. Через сутки глянешь с другой сопки вперед – та же картина. Что же находится за этими лесами, которые тянутся по сторонам реки на север и юг? Где они кончаются? Это неизвестно было даже тунгусам, родившимся в тайге. На такие вопросы они отвечают привычно, коротко и убежденно: «Конца нет!»
Сколько тайн прячет в себе тайга! Вот меж деревьев петляет, как будто запутывает след, тропинка, исчезающая в лесных сумерках. Куда она ведет? В тайный ли винокуренный завод, о существовании которого не слыхал еще местный исправник, или, может быть, к золотому прииску, разрабатываемому артелью беглецов-каторжников? Манящей надеждой, тревожной свободой веет от этой сказочной тропинки!
По рассказам людей бывалых в тайге живут медведи, волки, сохатые, соболи, дикие козы. Лодка плывет вдоль берегов, на которых непроглядные чащобы соседствуют с просветленными рощицами. Оглянешься назад, увидишь, что важно, по-хозяйски выходит и смотрит тебе вслед медведь или пугливый лось. Стремглав пролетают над головой утки, шлепают себя по бокам крыльями взлетающие гуси. А в прозрачной воде, в пластах глубинных течений видны косяки непуганых рыб.
Восторг и страх вызывают первые шаги по незнакомой земле. В лес не углубиться, ни тропинок, ни дорог, только высокие завалы сухих веток, срезанных прошлогодними пронзительными непогодными ветрами, или нагромождения вывернутых с корнем деревьев. Они повсюду преграждают путь, кажется, никогда не пройти сквозь бастион, образовавшийся из поваленных стволов, вывороченных пней и острых обломанных сучков, торчащих во все стороны, как пики бесстрашного войска.
Жарко… С едва слышным шелестом пролетают таежные птички. Ветви и кусты составляют сложный единый орнамент, расшитый радужно сверкающими алмазными паутинками. Вдруг взлетит из-под ног, пугая резким шумом крыльев и теряя перья, линяющий косач или рябая тетерка. Кажется беззащитной горстка людей в этом огромном мире природы, живущем по своим сложным законам. Вверху синь с кучевыми облаками и животворные лучи солнца, ниже – оркестр таежных красок, цветастые бабочки, увлеченные своей непостижимой работой, умиротворяющий, убаюкивающий шелест листвы, неумолкающий стрекот кузнечиков в траве. Вечером – костер на гальке у реки, уха из только что пойманного тайменя и негромкая печальная русская песня, неизбывной надеждой согревающая души… Так начинали жизнь в этом краю и мои далекие предки, с которыми меня и моих потомков связывают незримые нити общего опыта, непресекающейся любви, упрямой веры. Накрепко эти нервущиеся нити связали меня с коренной родней, прошлое с настоящим.
* * *
Вспоминая свое детство, когда я был такой же подросток, как сейчас мой внук Паша, невольно сравниваю два мира: бурлящий страстями сегодняшний и тот тихий, ушедший навсегда мир прошлого. Каким же ясным и понятным он был! Ему не надо было грозных призывов к защите природы, предостережений, что человек может уничтожить ее. Наши предки жили и берегли окружающий их мир без всяких напоминаний, по естеству своего миропонимания, они сохраняли для нас этот бесценный дар.
Каким было мое детство? Оглядываюсь назад. Вижу маму – она всегда в работе, и на колхозной ферме, и дома. Я не помню, чтобы она отдыхала. Ее жизнь была непрерывным трудом, привычка к нему передавалась из поколения в поколение. Удивительно, но мне, мальчишке, казалось, что это состояние труда она любила. На мой взгляд, мама трудилась всегда легко, радостно, с улыбкой. Сейчас я понимаю, что она была вынуждена так трудиться, чтобы мы, ее дети, не знали нужды.
Я помню ее усталые, измученные постоянной работой руки, ими она нежно гладила мою голову, помню ее добрые, источающие свет голубые глаза. Ласка и тепло, исходящее от матери, остались во мне на всю жизнь. Она любила меня, и я любил ее. Сейчас, когда я уже взрослый, и даже старше по возрасту, чем тогда мама, понимаю, что она была человеком мудрым, наделенным любовью ко всему миру. Она сердцем понимала природу, любила жизнь, какой бы стороной та к ней ни поворачивалась. Мама хранила свою душу в первозданной чистоте, не пускала туда зависть и уныние.
Мама была сильной и выносливой, как все женщины в Сибири, но вместе с тем удивительно отзывчивой к красоте. По-детски могла любоваться заходом и восходом солнца, восторгалась, рассматривая узоры мха на камнях или затейливые листочки папоротника. Помнится, если я в тайге находил цветок саранки, мама не позволяла мне выкапывать его вкусную сладкую луковку, говорила, что такую красоту нельзя губить, ею можно только любоваться.
Тогда я не подозревал, что наш простой, накрепко связанный с землей мир – не единственный, что есть мир другой, возвышенный, духовный. Не знал, что есть мир больших знаний, искусства, музыки, литературы. Но я благодарен своей детской судьбе за то, что она наградила меня жизненной силой Сибири. И хотя жили мы тогда небогато, но были счастливы, веселы. Да и как иначе можно было жить в том прекрасном природном мире, питающем нас животворными соками первозданного бытия.
Та далекая сибирская жизнь закалила меня, обкатала незаметно и ласково, как речка обкатывает голыши. Вот и остался я таким обкатанным «голышом», пусть неправильной формы, но зато крепким и надежным.
Лет с десяти все ребята нашей деревни уже работали в колхозе. Это не называлось, как теперь, эксплуатацией детского труда. Нас приучали к работе, прививали трудовые навыки, передавали основы мастерства. А уж сенокос – мечта любого деревенского мальчишки! Сенокосные угодья были и рядом с деревней, и далеко от нее, километров за пятьдесят. В начале июля на лошадях мы отправлялись заготовлять сено. Дорога шла по тайге. Я и сейчас явственно слышу звуки тех минувших времен, голоса друзей, вижу лица родных, даже иногда вспоминаю давно забытые запахи.
Для меня тайга – моя жизнь, моя радость, моя надежда. Для меня она олицетворяет всю красоту Сибири: богатырское стояние гор, плодородное лоно равнин. Мне кажется символом неиссякаемости вековой кедр с розовыми смолистыми цветочками, прячущимися в глубине кроны. Поразительна неуловимая игра света и тени в таежном лесу. Полезно для души здесь побыть одному и последить, как спешит с хвоинкой на спине муравей, посмотреть, как под корой старого дерева прячется гусеница, почувствовать на себе внимание дятла, который делает вид, что высматривает на сухом стволе пропитание, а на самом деле с любопытством поглядывает на меня.
Если бы у меня была возможность, я молился бы только в тайге и музыку слушал бы там же. И с мамой разговаривал. Лучше всего она меня слышит здесь, в тайге, где нашла свой вечный приют.
* * *
В детстве мне посчастливилось ходить на судне по Илиму. Это было большое плавание. Плыли мы только днем, а на ночлег обязательно приставали к берегу. Те ночевки на берегу я хорошо помню. Лодка чалилась к корягам, каких много по берегам, или к большим валунам, сбрасывался большой железный якорь. Парни заготовляли дрова, разжигали огромный костер, дым которого в какой-то мере спасал нас от гнуса.
Бреднем ловили рыбу, она, непуганая, прямо шла в невод. Иногда мы видели всплески огромных рыбин, от их предполагаемой доисторической величины становилось жутковато. Это был таймень. Девчата в большом котле варили уху на всех. Ужинали весело и шумно. Все чем-то были заняты, у каждого было свое задание, говорили и суетились, радовались берегу.
Значительно позже, читая книжки про первобытные племена, я вспоминал эти ужины у костра посреди дремучей тайги и, сравнивая, находил много общего с древними временами.
С кружками в руках мы рассаживались вокруг котла, окруженные непроглядной глушью ночной тайги. В нашем стане распоряжался капитан-лоцман, опытный специалист, много раз водивший большие лодки по реке, хорошо знавший фарватер и тайгу. Он же отвечал за жизнь людей и сохранность груза. Авторитет капитана, излучающего силу и уверенность, был непререкаем. Помню, что на его лице был большой шрам, на который мы смотрели с уважением. После ужина мужчины долго пили таежный чай, курили и рассказывали разные страшные истории. Постепенно разговоры затихали, люди умолкали, завороженные в глухой ночи мистическим слиянием тайги, костра, реки и наших жизней, казавшихся такими незначительными в огромном пространстве Сибири.
В этих походах были и неустранимые трудности. Нас изматывал таежный гнус. Плавание обычно начиналось в самое жаркое время лета, когда он особенно воинствен. На реке гнуса почти не было, а вот берега от него гудели. Гнус мог человека свести с ума. Страдало и зверье. Мы не раз слышали, как животное ревет, израненное этой мелкой тварью. Лоси были хитрее, они выходили на берег и периодически окунали головы в воду, так спасаясь от гнуса. Людям, закутанным с ног до головы, приходилось спать с дымокурами, но все равно мошка доставала, мы были искусанные и опухшие.
Запомнились бури и грозы на реке. Конечно, это не морской шторм, но при утлости нашего суденышка все же было страшновато. Тревога взрослых передавалась и нам, детям. Во время ненастья мы приставали к берегу или укрывались в ближайшей заводи.
Днем при ясной погоде можно было полюбоваться сибирскими красотами. Река и берега казались неизменными в своей непреходящей, величественной красоте, которая, однако, каждый день открывалась по-разному. После такого путешествия в душе на всю жизнь оставался немеркнущий свет восторга от щедрости природы и гармонии бытия…
В памяти с того времени остался страх большой воды, ощущение гнетущего безмолвия расширяющегося пространства.
Мне тогда открывался мир, а открывается он человеку полнее всего в детстве. Я этот мир не забыл: до сих пор помню запахи пронизанных солнцем брусничных полян, смоляной дух поскрипывающих кедрачей. А главное, моя память хранит ощущение величия таежных просторов, речных течений, высоких небес. Величия жизни.
Давно я покинул эту свою малую родину, много на своем веку городов и весей повидал, но нет для меня уголка земли краше и роднее нашего, Илимского. Места благодатные, хороши и для охоты, и для рыбалки, сладки для ягодников и грибников. До сих пор помню свои дрожащие от волнения руки, которыми снимаю с крючка хариуса, длинного и узкого, который внешне почти не отличается от своей родной сестры – форели.
Я люблю свой Илим и горжусь тем, что мои предки выбрали для жизни именно этот край! Люблю ненаглядные сопки, покрытые молочными цветами багульника, похожие на ответвления Млечного пути. Люблю воздух, напоенный дыханием разогретой полуденным солнцем хвои. А как не вспомнить нашу опрятную улицу, никогда не знавшую никакого транспорта. Поэтому пространство между домами и огородами всегда было покрыто идеально ровным травянистым ковром, расцвеченным покачивающимися на длинных стебельках ослепительно солнечными одуванчиками. Через этот двухцветный ковер от дома к дому скромно проходила тропка-дорожка. Это она выводила меня в жизнь.
Это она сейчас громко шуршит галькой под велосипедными колесами, возвращая меня из тумана воспоминаний в мир сегодняшний, в мой почтенный, требующий жизненных обобщений возраст. Опять вокруг красивые дома питерского пригорода, ровные дорогостоящие заборы, яблоневые сады, усыпанные, как ночное августовское небо звездами, – сияющими яблоками. После Преображения Господня или Яблочного Спаса они наливаются соком не день ото дня, а поминутно, посекундно. И в такую волшебную пору лучше всего понимаются божественные, вселенские смыслы древнего таинственного слова – преображение. Каждую секунду изменяется мир, изменяется человек в своих физиологических качествах и душевных проявлениях, но все, кажется, остается неизменным, незыблемым, вечным. Как солнце, как земля, на которой мы все живем одновременно. Но у каждого есть свой заветный край, свой уголок земли, где цветы душистее, солнце ярче, хлеб вкуснее. Где всегда жива мама.







