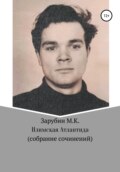Михаил Константинович Зарубин
Мы-Погодаевские
Бытовая сюита
Позвал меня друг на новоселье. Радостное событие, что и говорить! согласился. Прихожу под вечер, друг у подъезда встречает. Входим, на лестничной площадке веселые ребятишки кораблики бумажные в лужах пускают. Сверху дождик идет, ласковый такой…
– Что это? – спрашиваю. – На воре зима, а дождь льет…
– Дом новый, а головотяпство старое, – отвечает друг.
– Что же ты никуда не сходишь, не пожалуешься? Смотри, уже и побелка шкуркою повисал…не жалко, что ли?
– Жалко, – говорит друг, – ходил, жаловался, мне отвечают, что проект дома в южном исполнении, трубы конденсата на улицу выведем, перемерзают, вот и дождик зимой…
Сначала я обрадовался, что живем-то мы, оказывается, на юге, но тут же испугался: а вдруг отменят «северные» доплаты. А жаль!
Заходим в квартиру. Прелесть! Благоустроенная, улучшенной планировки, кухня большая, кафель вкривь и вкось, щели большие в полу, в дверях, в окнах…
Зашли в ванную. Просторная, на стенах пятна, как у леопарда.
– Ну, – не согласился друг. – Скорее похожи на харисовые…
– А холодно как!
– Это хорошо, что холодно: есть где картошку хранить, а было бы тепло, так картошка бы пропала, испортилась, а ведь денег стоит… Вот если бы поставил здесь радиатор – пропало б все. А так – хорошо! Может, кто и простудится, так ничего! Почихает, покашляет… Закаляться надо! Меньше ангинами болеть будем…
Ходим, смотрим… Отличная квартира!
– Недоделки, – говорит друг, – пустяки. Что стоит заделать щель в двери в ладонь величиной? Выстрогал планку – вставил, и все.
Недолго и переделывать то, что не закрывается, а должно закрываться, или что-то открывается, а не должно открываться… Неделя-другая – смотришь, и все недоделки доделаны, благо в хозмаге инструменты всевозможные есть, а навыки мы на уроках труда получили… Подкрасить, подклеить, проконопатить – это пустяки. Сложнее с тем, что капает там, где не должно капать, и не бежит там, где обязано литься… Тут мне не справиться…
– Что-то много «пустяков» набирается? – удивляюсь я. – Я бы эти мелочи…
– Мелочной значит, ты человек, – улыбается друг.
– Из мелочей, – уверяю я, – складывается великое. А квартира, что? Не великое?
…Ну посидели, чайку попили, кое-чего покрепче пропустили.
Славно новоселье справили. Стал я домой собираться, а друг упрашивает, мол, что ты в ночь-полночь пойдешь? У тебя завтра выходной, оставайся, мы тебе на диване постелем.
Согласился. Уснул. Проснулся в ужасе: за окном крупнокалиберный пулемет очередями бьет. Бросился к окну: дымом все заволокло. Присмотрелся – вот оно! Опять кто-то в чертежи не заглянул, в план генеральный. Это бывает! При некоторой безответственности людей, ответственных за строительство.
Отбойные молотки вгрызались в недавно положенный асфальтобетон на подъездной дороге к новому дому. Компрессор подпрыгивал от напряжения, дрова и уголь исходили синим пламенем и черным дымом, пытаясь разогреть бесчувственную твердь скованной морозом земли. Подскочил к окну и друг.
– А, – радостно воскликнул но, – канаву под телефонный кабель пробивают. Скоро по телефону говорить будем! Недели через две-три. А вообще-то летом один рабочий мог бы прокопать эту канаву за день-два…
– Конечно, – согласился я, – земля-то талая была, асфальтобетона не было.
Сражение, как я позже узнал, длилось пол месяца с переменным успехом: побеждали то мороз, то рабочие. Были и жертвы – финансовые!
– Опять ты мелочишься, – упрекнул меня друг, – ну что значит в масштабах нашего гигантского строительства какие-нибудь миллиона, выброшенные на ветер? На то и ветер, чтобы гулять в чьих-то головах. Не все же шахматисты, чтобы на тридцать ходов вперед смотреть. От таких дум и голова лопнуть может.
Сон в руку
Воспитали меня природа и жизнь в материалистическом духе, чему я очень рад, доволен и благодарен. Не верю ни в Бога, ни в черта, ни в лешего, ни в ведьм, ни в колдунов, ни в наговоры, заговоры и т. п.
Это дает мне полную свободу хотя бы в том, что могу мыслить так, как хочу, поступать так, чтобы не вызывать откровенной зависти одних, неприязни и неприятия других. Конечно, стремиться быть «белой вороной» мне ни к чему, но и быть «серой скотиной» тоже не хочется. Люблю, уважаю людей честных, справедливых, готовых вступиться за тех, кого хотят оскорбить, унизить, подвергнуть побоям только за то, что этот человек не понравился кому-то внешне или высказыванием, неугодным типу, считавшему себя самым умным, самым способным.
Не могу терпеть наглости, от кого бы она не исходила…
Во что же я верю? Верю в природу с ее пейзажами, и молниями, громом, дождями и засухой, потопами, пожарами, морозами и жарой, урожаями и неурожаями, с ягодами и грибами, с птицам и рыбой.
Все это материально, все окружает нас, все напоминает о себе. А вот такие понятия, как судьба, рок, для меня не очень удобны, потому что я не могу их представить в виде чего-либо реального, а раз так – значит, они не могут быть, тем более если я этого не хочу, не принимаю, не понимаю. Но такие, казалось бы, абстрактные понятия, как ум, честь, совесть, благородство мне по душе, хотя и душа, на мой взгляд, тоже нечто выдуманное, несуществующее.
Жизнь выкидывает «фокусы». В сны, в то, что они сбываются или что-то предсказывают, я тоже не верил: сон – он сон и есть. Мало ли что может присниться, тем более что во сне все не очень ясное, четкое, разумное. Вообще-то я редко вижу сны (сплю крепко от трудов «праведных»), но иногда снятся сны, которые мне так нравятся, что я хотел бы видеть их почаще. Особенно если все снится четко и ясно, и четче и яснее, чем в жизни, какой-либо пейзаж, цветной и реальный до потрясения, до такой степени, что не верится, будто бы в жизни бывают такие светлые и прозрачные тона! Проснувшись, долго еще находишься под обаянием дивного явления, жалеешь, что видение, к великому сожалению, приснилось.
Я был совершенно уверен, что сны в какой-то мере отражают пройденное в повседневной жизни, но чтобы они могли предсказывать будущее – в это поверить не мог, пока не случилось чудо.
Вечером явился ко мне друг Михаил, заядлый охотник и мой связчик.
– Поедем-ка завтра на тетеревов охотиться. Говорят, в устье Тушамы этих тетеревов развелось видимо-невидимо.
– Всегда готов! – ответил я.
Лег спать и сон увидел, да такой ясный и четкий, лучше, чем в жизни. Будто бы я со своей «ижевкой» (двустволка) иду вниз по речке Тушаме через перелески и полянки. День ослепительно ясный, все видится отчетливо. Нежная порошка лежит на снегу, словно стерильная полянка свесилась в покое береза. На одной из веток сидит тетерев, наслаждается чудесным утром.
Я поднимаю двустволку, прицеливаюсь, нажимаю на спуск. Тетерев камнем падает в снег. Я подхожу, поднимаю тяжелое тельце и вижу на снегу капельки крови, точь-в-точь-ягодки брусники…
Просыпаюсь утром, готовлюсь к охоте, забыв в хлопотах про чудесный сон.
Пришел друг, сели на мотоцикл и вот она. Тушама. Пошли пешком через перелески и полянки, которые почему-то казались очень знакомыми.
«Как во сне», – подумал я, удивляясь.
Друг ушел в другую сторону: зачем вдвоем ходить, пугать добычу. Я продолжал идти дальше. И вот – диво! На полянке, окруженной соснами и елями, склонилась береза точно такая, как и во сне, и на ветке сидел в раздумье тетерев. Я поднял двустволку, выстрелил. Тетерев камнем упал в снег. Я подошел, поднял тяжелое тельце и увидел на снегу капельки крови, точь-в-точь, как я годы брусники…
И вдруг вспомнился ночной сон, сбывшийся в абсолютной точности…
Говорить об этом другу побоялся: не поверит еще, подумает, что я «сочинитель», что такое в жизни не бывает.
А вы, читатель, поверите?
В час ночи
Быль
С тех пор прошло, кажется, двенадцать, да, точно двенадцать лет, но для данного случая это не имеет какого-нибудь значения. Он мог произойти и полсотни назад и вчера.
До сих пор все стоит в глазах, как на экране только что купленного телевизора, цветного к тому же.
– Поедем по бруснику, – предложил сосед по гаражному кооперативу, невысокий, похожий на подростка, худощавый, но боевой духом и резвый в движениях. Звали его Зуваир, только на мой взгляд, взгляд аборигена-сибиряка, илимчанина, от татарских кровей в нем ничего не оставалось, кроме проскальзывающего порой восточного высокомерия, впрочем, никого ничуть не оскорбляющего и никому не мешающего, потому что оно не превышало пределов допустимого, проявлялось редко и почти незаметно.
Глаза Зуваира крупные, серо-голубые, волосы русые, неухоженные, овал лица правильный, скулы не выпирали по – азиатски, нос и рот небольшие. И был он какой-то серым лицом и одеждами, будто предпочитал серый цвет прочим, не серым оттенкам.
Приехал он из-под Казани, но откуда точно – не знаю, рассказывал, что имел трудное военное детство, что голодал, собирал куски, бегая за поездами по железнодорожной станции, что пас овец и плохо помнит родителей… В наши сибирские места попал, завербовавшись на строительство Коршунского гороно-обогатительного комбината, будучи женатым, имя двух малолеток.
Сам и жена устроились оперторами дробильных установок на фабрику, стали «фабрикантами», как я их называл в отличие от «карьеристов»», то есть тех, кто работал в карьере.
Вскоре купил Зуваир мотоцикл «ИЖ-Юпитер» с коляской, вступил в гаражный кооператив и построил бокс неподалеку от моего, что и послужило для нашего знакомства.
Я преподавал в школе черчение и рисование, предметы, как известно, далекие от мистики, поэтому мог считать себя человеком в психическом отношении совершенно здоровым, да оно так и было на самом деле: не верил никогда, даже в самом раннем детстве, ни в чертей, ни в леших, ни в водяных, хотя полагал, что ведьмы все такие могут встречаться в жизни, в чем не раз пришлось убедиться, когда эмансипация женщин достигла своего апогея.
Но речь не о женщинах. Имел я горбатого колченогого «Запорожца» – машину, как-никак, по тем безмашинным временам, редкую. Она удивляла и восхищала своим норовом и проходимостью не только меня, но и многих других ягодников и охотников. Впрочем, речь не о машине…
– На чем поедем? – спросил я.
– На чем хошь. Хошь на «Юпитере»…
– Лучше на «Запорожце», – сказал я, по горькому опыту зная, что дальние поездки лучше совершать "«под крышей». Дождь или ранний снег (что на Илиме случалось часто), или падера, как называют у нас «винегрет» из ледяного дождя, мокрого снега и холодного резкого ветра, в машине почти не ощущается, на мотоцикле же с его «открытым характером» такое «удовольствие» не пожелаешь и врагу своему.
– Ладно, – довольно произнес Зуваир, – а когда?
– Прямо сейчас, – сказал я (хотя слово «прямо» можно было и не говорить, но что делать: илимские привычки!), – сбегаем в магазин за продуктами – и в путь! завтра у меня свободный день. А как у тебя?
– Здорово! – воскликнул Зуваир. – И у меня свободный.
…Запорожец бодро мотал под бескамерные колеса легкие километры наших так называемых дорог. За три часа он подобно рекордсмену преодолел почти девяносто километров, добросовестно доставив нас в Старую Игриму, бывшую колхозную деревню, а теперь леспромхозовский поселок, вынесенный из зона затопления на высоту, недосягаемую для равнодушной ко всему воде Усть-Илимского водохранилища, правда, наполненному пока еще только на половину. Полное «море» ожидалось на следующий год.
Машину поставили ха сваренные из металлических прутьев ажурные ворота химлесхозовского гаража под добровольный, но бдительный присмотр старенького, обросшего неряшливой бородой, бравенького и словоохотливого сторожа. Он, посматривал на наши горбовики масляные глазки, узнал о цели нашего приезда и очень-очень старательно стал объяснять нам, где найти бруснику, вычерчивая на песке прутиком план поисков. За это мы тоже очень-очень горячо поблагодарили его словесно, так как не прихватили с собой ничего горячительного, такого, что могло бы скрасить нудное однообразие тоскливого одиночества «сторожинной» судьбинушки. Он заскучал, спросил с надеждой:
– Ты, паря, по опутине, кажись, наш, местный?
– Местный, конечно. Хто отец-то у тебя?
– А Иннокентий Михайлович Замаратский…
– Как же, как же. Знавал твоего отца. Председателем был в колхозе «Трактор». Нескупой был человек!
– Я тоже, дед, не скупой: не захватили второнях…
– Поспешишь – людей насмешишь, – поучающее произнес сторож, – такие турсучищщи и пустые! Нехорошая примета…
– Ладно, дед, не расстраивайся, в следующий раз маху не дадим, привезем тебе радости, только не наворожи беды.
– Леший с вами, – сплюнул старик, – зачем не грех на душу брать… Вечереет, бегите, однако.
Мы спустились к бывшей речке Игирме, впадающей здесь в Илим, но теперь на месте реки синеет стометровый залив, и ребятишки на люральках плавали по нему, неуклюже работая веслами. Они перевезли нас на другую сторону, заросшую редким сосновым бором, но с чашами подроста там и сям.
Надо сказать, что в окрестностях таежного городка Железногорска, куда пришлось переехать многим илимчанам (не представляющим, как жить на дне водохранилища) и где сейчас жил я (тоже не привыкший находиться под водой больше двух минут), брусника водилась, но настолько редкая да кислая, что собирать ее могли только совершенно не уважающие себя люди, поэтому истинные ягодники предпочитали отмотать лишнюю сотню километров, да набрать боровой брусники, сладкой, крахмалистой, вкусной, употребляемой без всякого сахара, который казалось, ее только портил.
Мы сказали «спасибо» ребятам, накинули горбовики (по – илимскому – турсуки, хотя турсуки были из бересты, а горбовики из всякой дряни: алюминия, белой жести, пластмасс и т. пю и т. д) и отправились, глядя на ночь в буквальном и переносном смысле слова, то есть на север, вверх по Игирме, остающейся у нас справа и то сближающейся к нас, то отдаляющейся, исчезающей за деревьями из поле зрения.
Зуваир шагал налегке, у меня болталась за спиной двустволка, ижевка двенадцатого калибра и. как у истого оптимиста, не меньше полусотни патронов различного назначения, хотя я по горькому опыту знал, что, как всегда, не придется выстрелить ни разу. Но с ружьем в лесу чувствуешь себя гораздо увереннее! Ружье – надежней и, главное, сильнее друга, если оно находится в руках настоящего любящего друга, ухаживающего за ним тщательнее, чем за собой. В минуту опасности оно должно сработать, как говорится, без осечки. А патроны? Что ж, я и сам был не рад закоренелой привычке носить на поясе полный патронаж, причем справа, под рукой, в нем не меньше шести пуль – три для правого ствола и три для левого, полного чока. Чуть правее находились патроны с картечью, а левее пулевых – с дробью разных размеров, и чем ближе к краю, тем мельче дробь. Я ведь прекрасно понимал, что такое количество патронов может никогда не потребоваться, но ничего с проклятущей привычкой поделать не могу, полагая, что они могут пригодиться как раз тогда, когда их не возьму, поэтому и сейчас коробки с ними глухо постукивали о стенку горбовика, как бы напоминая мне о моем глухом желании таскать лишнюю тяжесть, и мне не оставалось ничего другого, как успокаивать себя тем, что «запас карман не тянет».
Дороги в том направлении, куда мы шагали, не было, топали напрямую, благо бор представлял собой редкий сосняк на слегка всхолмленной местности, покрытой белым похрустывающим под ногами мхом с редкими вкраплениями брусничника с нечастыми ягодками. Разумеется, собирать их не имело смысла: мы шли туда, где бруснику «можно грести лопатой», по вдохновляющему выражению химлесхозовского, столь несчастного сторожа.
Мы, казалось, уже обо всем переговорили, больше по пустякам, шли молча, мысленно сверяя пусть с чертежом словоохотливого старичка, но все еще не могли добраться до старинной гари (молодая поросль трудно приживается на зыбучих песках), которую мы никак не могли миновать, если держаться возле речки, вернее, пруда. Солнце охотно уползало за верхушки деревьев, повеяло вечерней легкой прохладой, по лесу стал расползаться красноватый свет, навевая смутное, тревожно-занудной чувство, какое обычно испытывает всякий, находящийся в незнакомых местах да еще томимый страхом, пусть и слабым, перед предстоящей ночевкой.
Но наконец-то мы вышли в гарь с редким. Чудом уцелевшими в беспощадном пламени отдельными соснами, лежащим вперехлест горельником, догнивающим, податливым под сапогом.
Я взглянул на циферблат: шли больше часа, значит, отмотали с нашим ягодным усердием километров семь – восемь. Но еще и по гари надо было шагать километра полтора-два, туда, где темнела стена нетронутого огнем леса – конечная цель нашего героического похода. Вон она, виднеется впереди…
Местность то и дело пересекалась неглубокими и неширокими распадками, устремляющимися к речке. Росли в распадках кусты ольховника и другие, названия которых я не знал, торчали горелые пни, валежины пластались на песке, но все это редко, не назойливо, не мешая обзорности на сотни метров.
Облюбовали место шагах в пятнадцать от речки. Вода была по-прежнему высокой и без течения. Сбросили с плеч горбовики, облегченно вздохнули: дошли!
Между нами и берегом шла недлинная полоса сухостоя: молодого леса, который горел лет пять – семь назад и теперь представлял из себя довольно густую стену с подсадком из двухметровой высоты чащи, тоже горелой. Сосенки, толщиной в десять – двенадцать сантиметров, являлись самой подходящей «пищей» для ночного костра. Слева полоса упиралась в зеленый лес, а справа. Шагов через десять, заканчивались, и дальше шла гарь, если смотреть туда, откуда мы пришли…
Зачем я утомляю читателя столь подробным, может быть даже нудным, описанием пейзажа? Прошу извинения, но все нужно для того, чтобы яснее и точнее представить то, что произошло в скором времени.
Вода в речке. Вернее пруду. Нам не понравилась. Она напоминала суп военного и послевоенного времени: плавали в ней бледно – зеленые короткие нити. похожие на неизвестных еще ученому миру тончайших червей не червей, водорослей не водорослей, словом, мы единогласно решили отказаться от заманчивого чая и поужинать всухомятку.
Собирая хворост для костра, наткнулись на крохотный ключик, вытекающий из углубления на склоне и через полшага исчезающий в песке чуть повыше того места, где кончалась полоса сухостоя.
– Ура-а! – закричал обрадовано Зуваир. – Будет чай!
Сумерки ускорила плавно надвигающаяся плотная облачность. Она, двигаясь с запада, вскоре повисла над нами плотным темным одеялом, вместе с ней нас обволокло теплым мягким дыханием воздуха, и все вокруг сделалось нерезким, уютным, ласковым.
– Кажись, не повезло нам, – затосковал я, зная, что осеннее тепло – верный признак затяжного дождя.
– Ерунда-а! – Заваир был настроен оптимистичнее. – Налетит ветер – разгонит, хоть ветром и не пахнет…
– Да-да, не пахнет, – подтвердил я, – надо больше дров заготовить… А еще лучше – нагреть костром песок, застелить его ветками ольховника, кустарников, улечься на них и укрыться полиэтиленовой пленкой… Пусть тогда дождь идет!
В ожидании, пока вскипит чай. Мы выломали в горелой полосе все сухостоины, которые поддались нашим совместным усилиям, вынесли их на облюбованное место, разложили большой костер.
– Мало сухостоя, – засомневался я, – ночь-то длинная.
– А где взять? – пожал плечами Зуваир. – Не в лес лезть.
В лес идти не имело смысла: окончательно стемнело. Да и что можно найти в зеленом лесу? Поэтому решили обойтись, тем что запасли, а спать по очереди, экономно подбрасывая дрова в костер. Авось, хватит до рассвета!
Два костра – один большой – потрескивали, раздвигая на несколько шагов густую тьму. Наломали ольховника, прутьев для метлы. Вскипел чай. Достали из горбовников скромную снедь, не спеша поужинали, покурили и повели неторопливые разговоры в ожидании. Когда прогорит большой костер и можно будет головешки отмести в сторону, а место, где был костер, накрыть ветками ольхи, предварительно очистив метлой от угольков.
Зуваир рассказывал о своей жизни, я слушал и не слушал, занятый упорными думами о темной длинной ночи, о возможном ненастье, о том, что мне почти всегда не везет с погодой. Легкое беспокойство овладевало мной. Оно обычно появляется у меня (не знаю, как у других) в незнакомых местах и особенно тогда, когда я чувствовал себя в какой-то мере ответственным за безопасность других, в данном случае как абориген, все ж местный житель по отношению к приезжему Зуваиру, который курил папиросу. Должно, волновался, переживая вновь волнующий эпизод из своей жизни, а я смотрел на него и обдумывал, как бы потактичнее намекнуть, что курить-то бы надо поменьше, глядя на ночь.
Посмотрел на часы, перевалило за полночь. Наконец костер прогорел. Мы отбросали его в сторону, уложили головни в неплотную кучку, пламя неохотно лизало остатки сухостоин. Принялись за обустройство «постели».
Вот и готово все. Зуваир никак не хотел прерывать свои воспоминания, повествуя их тихим, умиротворенным голосом довольного человека. Спину пригревало, стояла оглушительная тишина. И я тоже разнежился, даже хотел стянуть резиновые сапоги, но в это время с легким хрустом повалилась небольшая сосенка в полосе сухостоя из тех, что мы не могли повалить: не хватило сил.
Стреляй! – яростно зашептал Зуваир, дергая меня за рукав частыми нервными движениями. – Куда? – спросил я тоже шепотом, пытаясь сообразить, какой силой было вызвано это странное падение: на ветер ни малейшего намека, сама по себе сосенка упасть не могла: мы их все буквально перепробовали сваливать и те, что удалось свалить, унесли на костер. Остались те, что под силу разве медведю повалить. Но откуда здесь медведь? Ведь до поселка километров десять. Кроме всего, я не слышал за всю свою жизнь, чтобы в этих местах кто-то когда-то видел медведя или хотя бы его следы. Вдобавок ко всему. Горит костер. А сосенка упала шагах в десяти от него. Разве зверь не боится огня? И никаких шорохов! Ничего подозрительного… Тишина, тишина, тишина! Если это медведь, то что за нужда ему валить сухостоины? Какой смысл? А если человек? Только что здесь делать человеку ночью? И какой он должен быть сильный, чтобы валить деревца, которые мы не могли повалить вдвоем? Если допустить мысль, что это беглый, то откуда и куда? Место здесь беглых совершенно непригодное…
Мы подождали минут пять-десять. Было тихо, ничто не предвещало опасности, но что-то было, деревцо-то кто-то повалил!
Подождали еще минут десять. Стало досадно, что спать, наверное, не придется. Однако усталость брала свое, и я незаметно задремал. Но почувствовал легкий толчок в бок.
– Смотри, смотри, что это?
По гари, со стороны речки, то есть как раз из полосы сухостоя, от его окончания к нам двигалось странное круглое, тепло-желтое светящееся пятно, то исчезая, то появляясь, как будто оно ныряло в неровности рельефа. Первое впечатление – катится вдоль речки мотоцикл, но ни звука выхлопов, ни других звуков не было слышно. Да еще возникало сразу же сомнение: не проехать по этому месту мотоциклисту. Но мотоцикл! Горит фара… А шума нет. Мотоцикл – приведение? И кому это нужно и зачем?
Фокус? Я даже головой встряхнул, недоумевая и не находя никакого объяснения происходящему, тем более что свет фары словно плыл по воздуху, но не рассекал «мечом» тьму, не бросал свет на деревья и кусты. Он был как бы приклеен сам к себе.
Мне было за сорок лет, Зуваиру немного меньше, оба мы находились в том возрасте, когда духовный и физический рассвет личности находится в самом зрелом развитии, когда не верится ни в какие потусторонние силы, тем более, что мы с детства воспитывались в материалистическом понимании мира.
Кто это? – соображал я и не находил ответа, не замечал. Что рассуждаю вслух. – Лиса? Но я хорошо знаю, что глаза лисы святятся холодным, словно отраженным от консервной банки из белой жести светом. Волк? Но помнится из книг, что из волчьих глаз исходит зеленоватый свет, даже изумрудный скорее. К тому же волк в наших краях, бедных дичью и прочей живностью. Не водятся… Остается одно – медведь. Но почему у него один глаз и к тому же такой большой, с мотоциклетную фару?
– Стреляй, стреляй! – яростно теребил меня Зуваир, когда «фара» замерла на бугре справа шагах в пятнадцати-двадцати от нас. – Стреляй, что ты медлишь?
Я понял двустволку. Но не с целью стрелять. А скорее для отпугивания, инстинктивно, и «фара» мгновенно исчезла.
– Стреляй же ты! – И Зуваир «покрыл» меня матом.
Я подумал и выстрелил вверх.
Некоторое время мы выжидали, внимательно вслушиваясь в тишину, глухую и плотную, но ни одна хворостинка, ни один сучок не хрупнул, не треснул. «Медведь? – продолжал гадать я, предполагая, что молоды медвежата могут отличаться чрезвычайной любознательностью и любопытством. – Но почему глаз один?» Он, что, калека одноглазый? Или глаза у медведя светятся в темноте как одно целое? Как фара? И зачем деревья ломать? Нас пугать? Ожидать, что мы в панике броимся бежать от костра в темноту, в его лапы? Возможно, так можно было спугнуть оленя, сохатого, но зачем? Ведь потребуется длительная погоня, и еще неизвестно, кого она больше измотает: медведь – не стайер, как мне кажется.
Я вспомнил, как еще до затопления мы впятером ездили на мотоциклах из Нижнеилимска к Дунькиному мосту или Цыганскому табору за черникой. Разумеется, все пятеро с ружьями, потому что вероятность встречи с медведями в тех глухих темно-таежных местах казалась нам неизбежной. И расстояние-то было небольшим, от силы тридцать километров, но дорога, дороженька! По глине, по гребню меж глубоких канав, оставленных колесами грузовиков, возящих грузы на Гандюху (так называли Рудногорское месторождение железа). Дорога была заброшена. Так как разведка запасов руды была завершена. Мы остановились у Дунькиного моста на ночлег. Место, прямо сказать, не располагало к лирике: узкой полосой дорога раздвигала тайгу, мрачную, непроглядную; у Моста (настил из поперечных бревен через болотинку, когда едешь по настилу – трясутся и плечи, и грудь, и другие части тела, поэтому и название «Цыганский табор») решили заночевать. Разложили костер, вскипятили из ручейка чай, пока ужинали да «грелись» на ночь, стемнело так, хоть газ коли. Мы, веселые от чудесного ужина, от свежего воздуха, от таежной романтики, сыпали анекдотами и прочей словесной трескотней, как вдруг в паузе в кустах, куда уползал дым от костра, раздалось чиханье, да такое мощное, что мы невольно схватились за ружья и притихли. А Венька, ражий и рыжий матрос (разумеется, бывший) с атомной, как он говорил подлодки, вскинул двустволку и шарахнул дуплетом по кустам.
– Что ты делаешь? – возмутился Юра Певчий, инженер с «Ромашки», стройный тридцатипятилетний «холостяк поневоле» (а все из-за нее. Проклятущей сорокаградусной!). Там же может ягодник быть? Палишь в белый свет, а еще подводник!
– Во-первых, – возразил Венька, ягодники так не чихают, а во-вторых, что он, твой ягодник, в кусты-то забился? Медведь это, понял! Ягодник бы крикнул, а не стал чихать…
Кусты были от нас шагах в десяти, но никакой «фары» я тогда не заметил. А утром мы тщательно обшарили все в кустах, но не обнаружили ни единого следа, не единой шерстинки…
Да, тогда нас было пятеро, а сейчас двое, одно ружье и два ножа на поясе (как ж в лесу без ножа!), ну костер еще.
Тишина между тем ничем не нарушалась, костер мы подживили, он горел ровно и ярко, усталость брала свое, и мы оба преступно заснули, позабыв о посменном дежурстве. Мне решительно ничего не снилось: сон в сосновом бору на свежем воздухе после сна в панельных стенах кажется, да это и на самом деле так, всецело поглощающим человеком.
Проснулся я от гортанного крика гусей, пролетающих высоко над головой. Костер давно погас, тьма не поредела, но что-то рассветное в ней ощущалось. Воздух был удивительно теплым, полиэтиленовая пленка призрачно светилась белым пятном в ногах, так и не использованная нами. Все остальное находилось на своих местах, в том числе и продукты, колбаса, например, или сало, котрое так любил Зуваир. Все так и лежало на газете, как оставили после ужина. Двустволка под боком, сладко похрапывал Зуваир. Я выключил фонарик и решил подремать до полного рассвета.
Над головой прошелестели невидимые утки, совершая утренний перелет на кормежку или с кормежки, кто их разберет. Я решил не спать, надеясь пострелять уток влет, как только чуть развиднеет, но с наступлением рассвета прекратился и перелет уток.
Зуваир все еще спал, держась правой рукой за рукоятку ножа в ножнах. Я улыбнулся и пошел на берег, держа двустволку наготове, если на воде окажутся утки. Их не было. Тогда я вдруг заделался Шерлоком Холмсом и стал выискивать следы и признаки присутствия ночного гостя. Однако возле поваленной сосенки на довольно густой и колючей чаще не осталось ни шерстинки, на песке по склону, где ночью «вытворяла фокусы» «фара», тоже не удалось обнаружить ни малейших признаков присутствия зверя.
Сам Шерлок Холмс пришел бы в полнейшее неудоумение, ая, так как в школе не преподавали «дедуктивные методы», находился в том состоянии, когда на все машут рукой, вернулся, разбудил сладко улыбающегося во сне Зуваира и стал разводить костерчик, чтобы вскипятить утренний чай, потому что кофе мы не захватили, а если честно, просто-напросто не были к нему приучены, считая кофе забавой бездельников и господ-иностранцев.
Плотная облачность незаметно не то уплывала на восток, не то растворилась в бесконечности небес, уступая место дневному светилу, ало поднимающемуся над заречным темно-хвойным хребтом, не тронутым ни пожарами, ни безжалостным топором.
Поднялся к родничку, набрал воды, попутно проверил, нет ли у него медвежьих следов на песке (вдруг пить приходил?), но ничего не обнаружил и окончательно махнул на все рукой: надо было думать о ягодах…
Либо сторож нас обманул, либо дал старые сведения, но ягод в таком количестве, в каком ожидали, мы не нашли, с трудом набрали по ведру (илимская мера, на глазок, конечно!) и отправились часов в пять обратно, так и этак гадая о «фаре».
Ребята перевезли нас через водное пространство. Мы прошли в гараж. Там дежурил другой сторож. «Запорожец» преданно поджидал хозяина.
– Нашли кого слушать, – сплюнул сторож. – Это же трикалка, он вам наговорит, только слушайте! Надо было идти к триангуляционной вышке, этот ближе в два раза, и там брусника всегда имелась… Угнал он вас к черту на кулички…
– Кстати, – спросил я, – вы не видели, как светятся глаза медведя ночью?
– Нет, – ответил сторож, – ночью я стараюсь спать.
– Ну, может, слышали от кого?
– И не слышал. А зачем это тебе?