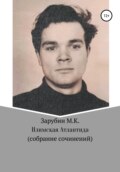Михаил Константинович Зарубин
Мы-Погодаевские
Я поведал ему о нашем ночном видении. Он выслушал и заявил, что это,
– А кто повалил деревцо?
– Да, – почесал затылок сторож, задача с двумя иксами. Мы уехали в Железногорск. Я спрашивал встречных поперечных о странном явлении, но никто ничего вразумительного мне ответить не мог.
Двести шагов
Их, шагов может быть, было и больше… Не в этом дело. Она шла рядом и почти прижималась к его плечу. Он, Анатолий Ильич, ягодник сегодня, а вообще-то пенсионер приятной наружности, среднего роста, покладистый и добродушный, вызывал симпатии окружающих, знающих его, молодых и старых. Каждый чуял в нем душевного человека.
…И вот идет она слева от него, девчушка, юное существо, от которого исходило что-то возвышенное, чистое, не тронутое еще никакими жизненными потрясениями и ни чем другим, что накладывает на человека нежелательные отпечатки. Он не думал о том, что думает она, так легко шагая с ним бок о бок. Ему не хотелось ни о чем думать, охваченному странным, давно не испытываемых чувством противоречивости желаний и решений разума, приземляющих его. Ему хотелось, чтобы эта неспешная ходьба (а что делать, если ноги сами не хотят идти быстрее?) никогда не кончилась, чтобы приподнятость, сменяющаяся опустошенностью, повторялась и повторялась, мучая его смутной похотью, тут же изгоняемый трезвостью рассудительности: все-таки он годится ей в дедушки, а это что-нибудь да значит.
Сосновый бор сиял торжеством солнечного дня конца августа.
Великолепные вековые деревья стояли редко и словно наслаждались ласковым теплом и обильным светом послеобеденного времени. Между деревьев росли ольховые кусты, разнообразя и без того дивный пейзаж. Серо-белый мох с вкраплениями брусничных ростков мягко вминался под ногами, и над головою висело бездонное голубое небо с барашками белых невесомых облачков.
– Как тебя звать? – догадался наконец-то спросить Анатолий.
Ильич, досадуя, что не знает, о чем говорить с девушкой.
– Оксана, – ответила она слабым голосом, в котором еще чувствовался непрошедший окончательно страх и подавленность.
Анатолий Ильич, бывший бухгалтер (как ни удивительно) остро чувствовал красоту не только природы. Находясь с молодых лет за бухгалтерским столом, он имея крестьянскую, по наследству, закваску, в свободное время стремился на реку порыбачить, в поле – заготовить на зиму картошку, овощи; в лес – набрать грибов, ягод, и все время уголком глаза наблюдал за окружающими пейзажами, стараясь вырвать из общего что-то частное, отдельное, как бы это делал художник, выбирающий сюжет для этюда или картины.
Будучи женат на учительнице начальных классов, до сих пор сохраняющей стройную фигуру и почти не постарелую на лицо, он мало обращал внимания на женщин, с которыми приходилось работать, тем более на тех, которых случайно встречал в таких местах, где можно было бы без риска завести «шуры-муры», роман ли, разнообразив таким образом унылое существование преданного мужа, отличного семьянина, отменного работника и т. п.
Детей вырастил. Сын женился и, как стало модным, отделился, жил своей семьей; дочь выучилась, вышла замуж, родила ребеночка и жила в далеком городе…Что его, Анатолия Ильича, могло еще связывать семейными узами, что еще мог он потерять?
А она, эта случайная попутчица, шагая рядом, почти касаясь его плеча, и казалась такой воздушной, доступной, единственной…
Анатолий Ильич понимал, что он старый, но не хотел в это верить, ничуть не чувствуя себя старым. Похоже, что ему по-прежнему лет тридцать-сорок. Он был в мужской силе, до сих пор незнакомый с обидным словом «импотент». С другой стороны, он мужчина и может поступать, как мужчина, испытывающий страстное желание, а с другой стороны, он человек, уважающий в себе этакого кабинетного рыцаря, и должен вести себя по-рыцарски…
Она шла рядом, трепетная, исполненная достоинства, что ли, а скорее всего, природной грации, так свойственной почти всем девушкам ее возраста…
И он идет рядом с юным создание, этой девчушкой, волнующей не красотой не красотой лица, нет, хотя и эти большие серые глаза, и этот мягко очерченный рот с алыми губками, и этот вздернутый кончик носика, и высокий, туго обтянутый кожицей лобик – всё это вызывало трогательную нежность в душе и какое-то умиротворение, что ли… И еще эти легкие завитки русых мягких волос возле розовых ушей, тонко просвечивающих…
Золотистые стволы сосен, бархатная зелень крон, причудливые зигзаги и извилины ветвей, темная зелень ольховых кустов настраивали Анатолия Ильича на лирический лад, на восторженность, а эта девушка, доверчиво-обаятельная на интимность, давно забытую, как реальность, как что-то невозможное. Он с трудом сдерживался, чтобы не объяснить девушке, какие чувства владеют им, приекрасно понимая всю несуразность такого поступка.
А она шла рядом с ним, и он незаметно косил глаза в ее сторону, боясь показать, что она интересует его не как внучка или запоздалая дочка, а как нечто возвышенное, божественное.
«Интересно, – подумал он, – сколько же ей лет, – но спросить прямо постеснялся, сам не зная почему, – на вид пятнадцать-шестнадцать. Самый завидный возраст, когда ее загадка и таинственность, романтика и желание кое-что испытать…»
– Ты в каком классе учишься?
– В десятый перешла, – ответила она поспешно, и как будто ждала этот вопрос, – вообще-то я должна учиться в девятом, только классы передвинули на год вперед…
Девушка шла рядом, почти касаясь его плеча своим плечиком. Это трогало глубоко, вызывало смутное беспокойство и опять-таки желание овладеть ею, но он даже мыслей таких стыдил.
Я и едва ли не краснел, словно мальчик понимал, что девчушка может вдруг догадаться, о чем он думает. И сказать: «– Вот, старый дурак, что у него в голове!»
Анатолий Ильич, погруженный за время долгих лет в бухгалтерские книги, отчеты и прочую скукоту, не очерствел окончательно душой. Иногда он вырывался на курорты Черного моря, где посещал пляжи, на которых не бывал лет до сорока, потому что жил в местах, одолеваемых летней мошкарой. Какое в них загорание! Дай Бог выкупаться да успеть одеться, пока несметный полчища кровососов не впились в обнаженное тело тысячами игл.
На пляже он насмотрелся почти голых женщин во множестве и всяких. И тонких. И толстых. Они не вызывали в нем никаких чувств, кроме жалости, и то скользящей, неглубокой. Видел и удивительно стройных, на которых глаз невольно замирал в почтительном уважении и некоторой зависти, но похотливых чувств почему-то не испытывал, словно смотрел на что-то далекое, недосягаемое для него, обыкновенного, даже не старшего бухгалтера, который за цифрами не видел ничего другого, кроме обыденных забот и сохранения за собой авторитета порядочного человека…
И вот идет рядом с ним девчушка, при виде которой в нем пробуждается что-то давнее, влекущее тайной неизведанного и полузабытыми ощущениями его первой любви. Его поражало ее способность «чувства локтя». Он обходил колодину, и она, как приклеенная к его плечу, предугадывала этот обход, он поворачивал направо или налево, и она поворачивала одновременно, словно читала его мысли.
Это его восхищало, он с удовольствием отмечал, какая она поводливая, то есть послушная, качество далеко не худшее, если глядеть на него глазами ухажера-любовника.
А она шла, и ему казалось, что идет с ним едва ли не божественное создание, что от нее исходит что-то необыкновенное, светлое, как летнее утро перед восходом солнца.
А было как?
Они, Анатолий Ильич, его жена и дородная сватья, приехали за сто шестьдесят километров собирать бруснику в такой далекий, такой милый сосновый бор, в котором бывали не раз в ягодные сезоны, выезжая сюда, как на отдых и праздник души.
Брусника уродилась плохо, встречалась редко, и ягодники, проездив часа два в ее поисках, остановились наконец там, где она, пусть и стрень-брень, все-таки попадалась. Женщины принялись собирать ее по ягодке, но Анатолий Ильич все еще не терял надежды нарваться на более подходящую «плантацию» и в поисках совершал «вояжи» в разные стороны, каждый раз возвращаясь к женщинам, огорченный безуспешными поисками. Два раза сходил попроведать «жигуленка», останвленного без присмотра на опушке лесосеки (метрах в двухстах-трехстах от места сбора ягод) у старой лесовозной дороги, избитой, измятой, с глубокими песчаными колеями, конечно, отогнав машину в сторону метров на пять.
У женщин между тем ведра наполнялись, и ему пришлось-таки приняться за сбор. Однако после обеда он снова отправился в «путешествие» за ближайшую чашу, где еще не был. Ягод не оказалось и там. Пошлялся еще немного вокруг да около, решил вернуться, и этот солнечный день померк в его глазах, сосны уже не казались такими золотистыми, голубое небо не поражало глубиной, а яркие лучи, исполосатившие мох, утомляли резкими перепадами света и тени. Решил вернуться.
Еще издали увидел, нет, почувствовал некоторое изменение в обстановке. Он пока не понял, что случилось, вероятнее всего, кто-то отбился от своих и наткнулся на них, потому что жена стояла, объясняя что-то кому-то. И был недалек от истины, увидев рядом с женой девушку лет пятнадцати-шестнадцати. Он мельком взглянул на ее стройную девичью фигурку, на белую кофточку тонкой шерстяной вязки и невольно задержался взглядом дольше, сем полагалось в его возрасте на небольших упругих грудках, так откровенно и незащищено возвышающихся из-под кофточки, потом нехотя перевел взгляд на узкие джинсовые брюки, на новые белые кеда с полосками и почему-то спросил торопливо:
– Что случилось?
– Вот, заблудилась, – ответила жена, – объясни ей, куда идти.
Ты откуда? – спросил он, невольно отмечая, что девушка ему не просто нравится, что в ней есть что-то такое, что трудно, а может, и невозможно объяснить словами.
– Из Нового…
Поселок Новый недавно, года три-четыре назад, стал возникать в чудесном сосновом бору на ровном месте, и если сейчас забраться на вершину самой высокой сосны, то километрах в шести отсюда можно было увидеть панельные пятиэтажки в окружении сосен, поэтому Анатолий Ильич стал объяснять девушке, как пройти напрямую при помощи солнца к поселку. Увидел по ее глазам, по тому, как она тупо и потерянно смотрела на него, что она ничего понять не в состоянии, должно быть, сильно потрясенная случившимся с ней происшествием. Она словно пыталась сказать: – «Не объясняйте мне ничего! Я заблудилась, я перепугалась, я полна жуткого страха, а лучше проводите меня до поселка».
Конечно, ее следовало проводить до поселка, только как же тогда брусника? И так сколько времени потеряно… А ехать на машине рискованно: можно забуксовать в этих зыбучих песках и тогда попробуй выбраться из песчаного плена…Жди-пожди, когда подвернется помощь в виде какого-нибудь грузовичка…
– Ты зачем в лет одна пошла? – спросил он строго и тут же пожалел, что спросил строго: сам не раз блудил в лесу и знал, как сначала приходит паника, потом страх, потом отчаяние, а тут девчушка! Слабое, робкое создание! Для нее лес не комната…
– Я не одна пошла, а с братом и другом брата… По грибы…
– Как же ты заблудилась?
– Я не заметила, как брат с другом исчезли.
– Что же ты не кричала?
– Я кричала. Даже охрипла… корзину потеряла… Я боялась…Мне мерещились леший, ведьмы, медведи…
– Проводи девушку до машины, – сказала жена, – укажи дорогу. Анатолий Ильич посмотрел на жену внимательно: ему показалось, что она должна ревновать его к этой красоте, к этой свежести, чистоте, но жена уже собирала ягоды, ей, пожалуй, и в голову не приходило: старый конь и это небесное создание, это юное существо! Что может быть нелепее?
Ему даже обидно стало, подумал: «И не боится отпустить меня с этим ангельским созданием!»…
Они пошли. Анатолий Ильич и это скромное, юное, чистое существо, должно быть, все еще не верящее в благополучное возвращение домой, к маме, папе, брату: страшный, бесконечный бор окружал ее, пугал темными чащами, даже ольховыми кустами. Анатолий Ильич понял это и спросил:
– Ты, что, в лесу не бывала?
– Так далеко – нет. Тем более одна. Мы с Украины недавно приехали. Там таких лесов нет…Страшно-о! Брр!
Анатолий Ильич усмехнулся: страшно! Да после «химиков» и лесозаготовителей в этом и без того бедном дичью лесу не осталось даже кузнечиков, не то что медведей… Впрочем, у медведя нет постоянной прописки, может и прийти откуда-нибудь…
Он оглянулся: жена и сватья скрылись за деревьями. Слева и справа высились красавицы-сосны, между ними таинственно зеленели ольховые кусты и расстилался серо-белый мох, притягивающий к себе взгляды Анатолия Ильича. Он понимал, почему мох интересовал его, но не мог понять, как бы он мог поступить, чтобы девушка легла на этот мох, хотя ему показалось, что она, напуганная, беззащитная, отчаявшаяся, могла бы согласиться: жизнь-то дороже! Конечно, чувствовать это она не могла лишь интуитивно, не очень осознавая, что делает, поглощенная одним желанием уцелеть, спастись, вернуться!
А он, Анатолий Ильич, выступал сейчас в роли ее спасителя.
«Ведь она мне во внучки годится, – всплывал некстати предостерегающий фактор, и он опускался «с небес на землю», становился обычным ягодником, стыдясь пошленькой похоти, так невежливо появляющейся и так же исчезающей, когда он вспоминал, кто он.
И тут же ругал себя за врожденную робость, которая мешала ему во многих случаях, так называемых возможностей проявить себя в роли Дон Жуана с бухгалтерской душой. Вспомнил, как в далеком-далеком детстве ездил он за травой в придеревенские луга. С ним напросилась Зинка, ровесница, которая ему нравилась.
Поехали обратно. На свеженакошенной траве лежала Зинка и словно говорила: «Вот я, бери меня, делай со мной, что хочешь».
Конь шагал степенно, устало. Подросток не погонял его, хотя дома ждал ужин.
Но в телеге лежала Зинка. Она смущенно молчала. Он изредка косил глазами в ее сторону, молчал и краснел при мысли, что понимает настроение ровесницы. Только это было запретом, тайным, стыдным, хотя и желанным…
Так и доехали до деревни. Зинка спрыгнула с телеги, облегченно вздохнула и убежала домой. Он тоже почувствовал освобожденность, непонятную грусть и непривычную пустоту…
Вот и сейчас, шагай с этой славной девчушкой, Анатолий Ильич чувствовал такую же скованность, как в далеком детстве, и ему становилось стыдно, что в его возрасте испытывать робость, по меньшей мере, дико и несуразно.
А она прижималась к его плечу. Почти прижималась. А, может, ему это только казалось? Или хотелось, чтобы она прижималась.
Ему захотелось потрогать ее рукой, прикоснуться к ее плечу, нет, плечику! Но не посмел. А почему? Господь знает…Наверное, потому что робок. И это в шестьдесят лет!
А она касалась его плеча.
Он все-таки протянул руку и взял ее за кончики тонких пальцев, гибких и мягких, словно в них не было косточек. Она не отняла их, и Анатолий Ильич почувствовал, как переливается из ее пальцев в его руку что-то теплое, неживое, трепетное. Он тут же очухался и заговорил наставительно, по отечески:
– Сейчас выведу тебя на дорогу, покажу и объясню, как дойти до поселка. может, тебя догонит какая-нибудь машина, но к одиноким водителям не садись: опасно! Садись, если есть пассажиры. Она будто не слышала его или не слушала, все так же размеренно шагая рядом, легкая, воздушная, неземная…
Вот и поваленные деревья с рыжей хвоей, вот и опушка. Вышли в разливанное солнце, словно из комнаты на улицу. Вот и дорога с почти белым песком, и «жигуленок», дремлющий под теплыми лучами.
Анатолий Ильич стал терпеливо объяснять девушке, как пройти к поселку. послышался шум мотоцикла, к ним подкатил молодой, лет тридцати, мотоциклист, оглядел их изучающее. Люлька и сиденье были пусты. «Не садись!» – хотел сказать Анатолий Ильич, но девушка ловко оказалась в коляске, и мотоциклист покатил к поселку, а ягодник долго смотрел им вслед и жалел, что не расспросил мотоциклиста, кто такой да откуда… Что он за человек?
Прощай, Оксана! Прощай, сердынько!
Огненный змей и бабушка
Давно дело было, в 1937 году. Напротив села Нижнеилимска, через реку приютилась наша деревня Погодаева, в которой мы жили – бабушка Аксинья, ее сын Иннокентий, я, восьмилетний ученик начальной школы, и шестилетний братик, лобастый заскребыш, смелый и громкоголосый.
Бабушка, костлявая, высокая, с бельмом на левом глазу, свято верила в Бога, каждое утром молилась в угол, где висела икона, изображающая Георгия Победоносца, поражающего тонким копьем Змея Горыныча: она становилась на колени, сгибалась в пояснице, часто-часто касалась лбом половиц.
Жила она в комнатке, где стояла деревянная кровать, застеленная пестрядиной, имелась лавка, а недалеко спали в своей кровати мы – я и братик, наблюдая с усмешкой за «физзарядкой» старушки. В конце концов нас стало это веселить.
– Бабушка, а ты лоб не расшибешь? – спросил я, пугаясь собственного нахальства. И братик поддержал:
– Бауска, пожалей лоб-то! Ага-а, ага-а…
– Цыть, вы! – сердито заявила бабушка. – Вот Бог-то вас накажет, вот он вас…
– Нету, бабушка, Бога, – не сдавался я, и братик тоже:
– Нету никакого Бога!
– Кто вам сказал, что нету?
– Учительница в школе.
– Ваша учительница – анчихрист! Бог ее накажет…
– Как же он ее накажет, если его нету?
– Есть Бог, есть, настаивала бабушка.
– Нету, нету! – в один голос уверяли мы.
– Вот прилетит Огненный змей – он вам задаст!
– Нету никакого змея: выдумка это…
– Есть, есть Огненный Змей! Я сама выдела его своими глазами…Из-за яра вылетел…гудел страшно, хвост огненный за ним тянулся… Стекла в избе дрожали, собака выла-выла и залезла в конуру, куры в подамбарье спрятались.
И столько в голосе бабушки было убежденности, что мы даже засомневались: вдруг и в самом деле есть огненный змей?
И все-таки не верилось…
А зря! Будучи студентом, вычитал в журнале «Вокруг света» статью о Тунгусском метеорите, который пролетал над нашей местностью в 1908 году, то есть тогда, когда бабушка была относительно молодой. Я запоздало почувствовал угрызения совести: значит, огненный змей был!
…Отец мой, бабушки сын, имел высокий рост, плотное телосложение, кое-какую, по тем временам неплохую грамотешку, поэтому работал то председателем колхоза, то руководителем курсов РАЙЗО, то преподавателем на курсах колхозных счетоводов.
Разумеется, был и членом партии, и активистом видным.
Наступили опасный времена – годы репрессий, когда можно было крепко пострадать за малейший, казалось бы, пустяк. Из предосторожности отец снял со стены икону с Георгием Победоносцем и сжег ее в печке. Мы оказались невольными свидетелями такого на наш взгляд разумного поступка.
– Ето куды жа икона-то подевалась? – спросила утром бабушка, подозрительно поглядывая на нас.
– А ее папка в печке сжег, – сказал братик.
– Ах, он анчихрист, ах, анчихрист! – рассердилась бабушка и предложила: А ну-ка, унучик, ставь на лавку и выучи стишок, а как вечером отец приплавет с работы – ты ему и расскажи стишок-то. Вот, учи…Память-то у тебя ладная:
Ехал Ленин на полене
Через Киренгу-реку.
Ты куды, плешивый, едешь?
В Бочкареву по муку…
И ишшо:
Когда Ленин умирал —
Сталину наказывал:
Людям хлеба не давай,
Мяса не показывай!»
Приплыл с работы отец, братик резко выскочил на лавку и детским восторгом продекламировал «стишки».
Отец удивленно выслушал сына и спросил:
– Это кто же тебя этому научил, – и взял сына за ухо.
– Бауска! – сознался братик.
– Ах ты, старая! – искренне обиделся отец, ты, что же, хочешь, чтобы твой сын в Колыму загремел?
– А ты зачем икону сжег? Помешала она тебе? Анчихрист ты, анчихрист… Ето надо додуматься, чтобы икону спалить! Грех-то какой!
Надо сказать, что в селе, да и деревне тоже еще оставались бывшие политссыльные, которые тайно занимались угодной им пропагандой, нацеленной на существующий режим. Конечно, действовали они не очень осторожно, пользуясь тем, что в селе была разрушена церковь, которая, может быть, не являлась памятником архитектуры, но тем не менее придавал селу вид весомый и благородный. разумеется, старушкам нравились «стишки» против «анчихристов».
Братик не удержался и ребятам на улице не раз и не два «декламировал» их, к сожалению, не догадываясь, что их могут услышать и взрослые. И услышали, и сообщили куда повыше. Отца арестовали, сняли с работы, исключили из партии, увезли в областной центр. Следователь оказался человеком добрым, выслушал отца, нашел «вину» незначительной: отца освободили, он вернулся домой, и его восстановили в партии и на работе, а бабушка так и осталась без иконы, хотя молились еще усерднее, что-то нашептывая и крестясь.