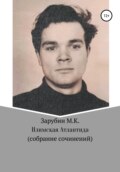Михаил Константинович Зарубин
Мы-Погодаевские
Стакан горячего чая
Лодки на берегу не оказалось.
– И-ых! – выдохнул, окончательно огорчаясь, баянист. – Опе-ера!
– Тр-рагедия, что и говорить, – пророкотал техник – не везет…
Кричать надо, перевоз просить…
На-д-до-о, что-о скажешь…На том берегу никого. Деревня как вымерла: еще бы, кому хочется в такую погоду по улице шляться.
Мрачно нависло небо, пронизывающий ветер подул резче, ожесточеннее, печально раскачивались прибрежные тальники, конопатая рябь ложилась на темную поверхность разволнованной реки.
– Эй-е-ей! – сложив рупором закоченевшие ладони, закричал баянист. – Эй-е-ей! Перевезите-е!
Деревня равнодушно молчала, заманчиво дымя трубами.
– Ого-го-о! – отчаянно завопил техник. – Замерзае-ем!
Молчала деревня. Даже эхо не откликалось. Нигде ни души, ни стука, ни бряка, ни собачьего лая.
– Вот везет, – ухмыльнулся баянист.
– Везет, что скажешь, – откликнулся техник, стуча зубами.
Из ворот на той стороне вышел коренастый мужик, неторопливо спустился на речную террасу к поленнице дров. Набрал охапку.
– Эй-е-ей! Ого-го-го! Перевозу! – наперебой заголосили ягодники, подпрыгивая и размахивая руками.
Мужик повернул в их сторону голову и, ни слова не говоря, двинулся к избе.
– Эй-е-ей! Ау-у! – истошно исходились в крике парни.
– Переве-ези-и, будь другом! Ой-е-ей!
Ушел мужик, глухо стукнули калитка.
– Змей подколодный, – прошипел баянист. – Коряга бесчуственная…
– Пень, что и говорить.
– Замерзай никому дела до тебя нет…
– Никому, что скажешь.
Открылись ворота на той стороне, и из них вышел мужик с веслом в руке…
– Спасибо! Спасибо! – горячо благодарили спасителя напарники, выходя из лодки на другом берегу.
Мужик, не говоря ни слова, ушел в избу.
Горбатясь, ягодники двинулись на край деревни, где во дворе незнакомой старушки стояли их «Юпитеры».
– Бедняжки, – засуетилась старушка, худенькая, озабоченная. – Перемерзли-то как! А я уж думаю-думаю, где они, робята-то, погода, ить, испортилась… Чичас я вам чайку горячего сгоношу… Наскрозь, ить, промокши, посинели аж. Чичас, Чичас…
– Спасибо, бабушка, мы домой спешим. Не надо чая…
– Че ето вы от горячего чаю отказываетесь? – обиделась старушка. – Долго ли? Выпьете для сугреву внутренностей, а там и поезжайте.
Баянист отказался столь решительно, что техник рассердился, сплюнул от досады, мысленно проклиная напарника за странную особенность: ни за что не возьмет из чужих рук даже такую мелочь, как стакан чая. Будет мило улыбаться, благодарить, но не возьмет. Это, может, в обычных условиях имело какой-то смысл, но в таких исключительных обстоятельствах стакан горячего чая просто необходим.
– Поехали, – торопил баянист.
– Поехали, – смирился техник.
– Че ето вы, робята, от горяченького-то отказались? – огорченно причитала старушка. – Не погрелись… Захворате ишшо по такому-то холодишшу ехать. Я бы мигом чайку…
– Спасибо, бабушка, твердил баянист. – До дому близко…Доедем.
Техник представил, как они проедут эти двадцать километров в сырой одежде на леденящем ветру.
– Брр, – поежился баянист, подходя к мокрому мотоциклу.
– Вот тебе и «брр», – рассердился техник. – От стакана чая отказался! Не идиотизм ли твоя щепетильность? Старушка к нам со всей душой, а ты…
– Ничего, не околеем, – баянист заученно вставил ключ зажигания. «Юпитер» гневно взревел, наполняя тесный двор сизыми клубами дыма. – Поехали!
Поехали, что скажешь.
Дорога тянулась вдоль берега, лишь в одном месте пересекая поле. Жидкая грязь хлюпала, чавкала под колесами, с шумом вылетала в стороны из залитой водою колеи. Мотоциклы юзили, но парни упорно катили вперед.
Дождь утих, но не перестал, сыпался мелкой назойливой пыльцой. Справа по яру стояли в оцепенении деревья, темнея влажными стволами. Казалось, и они мерзли.
«Ничего, – думал техник, и ему от таких дум становилось вроде теплее, – вот приеду домой, жена встретит, обогреет, горячим чаем напоит, а может, и чем-нибудь покрепче…»
Женился техник недавно, года еще не прошло. Так уж получилось, что долго ему пришлось холостячить, почти до двадцати семи годов. Все не мог выбрать невесту по душе. Наконец встретил одну. Так по сердцу пришлась! Стройная, красивая, училище закончила. Приехали из города воспитателем в детский сад. подружили с месяц, свадьбу справили. Через полтора месяца – ультиматум: или уйдешь от родителей, или развод. Какой развод! Ушел техник из родительского дома, на казенную квартиру переехали, зажили вдвоем.
«Ужин, наверное, готовит, возится у натопленной печи. Фартучек на ней цветастый – его подарок! – ждет своего несчастного, полуживого от холода муженька. А я – брусника, что и говорить!»
От таких дум силы прибавлялись, и руки начинали лучше гнуться. А то они, как крюки, пальцы свело.
Впервые он везет жене бруснику. Ездил летом на кислицу, по смородину. Уток стрелял, рябчиков, а сегодня брусника. «Чайку бы сейчас, чайку! Подъегорила нас погодка. А как с утра-то тепло было, солнышко, в небе ни облачка…»
Окоченел техник окончательно, челюсти свело в судорогу, слова не вымолвишь.
Из-за поворота вынырнули строения села, серого, угрюмого, безлюдного. Ягодники въехали на взвоз, покатили ровнее (главная улица в райцентре отсыпана гравием) мимо нахохленных домов, отороченный по бокам деревянными тротуарами, блестящий от влаги.
Еще немного, и баяниста встречает у ворот жена, помогает… Техник проскакивает мимо. Баянист машет ему рукой со скрюченными пальцами. Техник пытается ответно попрощаться, но не может оторвать руку от ручки газа. Он виновато улыбается. Ему кажется, что еще минута-другая и он свалится вместе с мотоциклом.
Поворот в проулок, еще поворот – и вот она, его квартира. «Сейчас выйдет, сейчас выскочит… Вот откроется калитка…» Калитка не открывалась. «Сейчас, сейчас!». Не открывалась калитка. «Дома нету… В магазин, наверное, ушла».
Техник притормозил, прислонил заглушенный мотоцикл к воротам, с трудом потащился в дом.
Дверь, к его немалому удивлению, не была заперта, пахнуло родным, желанным теплом. Жена, очаровательная, тоненькая, забравшись с ногами на диван, полулежа читала книгу. Она только коротко взглянула на вошедшего, вскинув аккуратную головку со строгой «воспитательской» прической, и опять углубилась в чтение.
«Поле-сражения», невольно и ревниво отметил техник название книги, не понимая причины столь холодной встречи. Эту книгу он читал. Станислав Китайский. Увлекает, еще бы!
Недоумение сменилось обидой, пока еще слабой, робкой. Техник сбросил двустволку, но горбовик снять не удавалось: негнущиеся пальцы никак не могли зацепить скользкие мокрые заплечные ремни.
Жена не оторвалась от книги, не бросилась помогать, и техник бессильно, выпучив от изумления серые глаза, опустился на табурет у порога.
Сидел несколько минут, приходя в себя, пытаясь осмыслить происходящее, пока постепенно нарастающая злость не подняла его с табурета.
– Помоги горбовик снять! – грубым голосом разражено крикнул он, ощущая, как острой боль вонзает в сознание мысль: «Жена-то, оказывается, черствая, нет у нее душевной чуткости».
– Ты почему на меня кричишь? – недоумевающее уставилась на него жена. – Что я тебе плохого сделала?
«А все-таки как красива, чертовка! На мгновение подавляя раздражение, подумал он. – Что я раскричался?»
В нем, в горбовике-то, больше двух ведер ягод, плечи оттянуло, руки не гнутся, виновато и жалко стал оправдываться он, сбрасывая наконец-то с себя тяжелый горбовик.
Жена победно взглянула на него и опять принялась за чтение, все своим видом подчеркивая, что сейчас ее лучше не беспокоить. Техник мечтательно произнес:
– Мне бы сейчас стакан чайку. Горячего…
– Что я тебе, печь топить буду? Подожди до ужина. – бросила чуть разреженно жена, не прекращая чтения.
– До ужина? – ахнул техник. – Подождать до ужина…
Он обезоружено и беспомощно плюхнулся на табурет, открыл было рот, чтобы сказать что-то, но вместо этого стал стаскивать с себя мокрую одежду, ожесточенно бросая ее на пол.
– Ты чего расшвырялся? – отложила жена книгу. – Я тут убираю, убираю, а он швыряет!
– Я…Я тебе… брусники привез!
– Поду-умаешь! Съездил, прокатился для собственного удовольствия и выкаблучиваешься…
Техник почувствовал, как внезапно жар охватил его лицо: «Для собственного удовольствия?!». Волна сильного гнева охватила, сжала его…
И он пошел растапливать печь.
Чаепитие на утиной охоте
Было это давно, а будто вчера случилось, так зримо и реально в глазах стоит.
Работал я учителем в средней школе в новом городе, возникшем в таежной глуши, где не было ни реки, ни озера, ни болота, поэтому охотиться на уток не удавалось, а страсть к утиной охоте не проходила. Оно и понятно: с малых лет привык таскать дробовичек тридцать второго калибра по полям родной деревеньки, спугивая с лыв талой воды недоступную добычу. Правда, изредка удавалось подстрелить легкомысленного чирка, и тогда радости не было конца, и мать хвалила: «Кормилец растет!».
Годы уходили, страсть оставалась.
…Завуч, женщина чутка и все понимающая, освободила от уроков в пятницу. Получалось три дня. Можно поохотиться!
После недолгих сборов рано утром я «оседлал» своего косоланого горбатенького «Запорожца», который добросовестно доволок меня по гравийной, местами очень скверной дороге в новый совхоз, слепленный из деревень, находящихся в зоне затопления Усть-Илимской ГЭС.
Друг, баянист сельского Дома культуры, встретил меня, как говорится, с распростертыми объятиями, но и огорчил:
– Не могу я сегодня на охоту плыть, не могу: репетиция концерта. Ты же не сообщил по приезде.
– Отмени, – умолял я, – перенеси. Я восемьдесят шесть километров отматал… В шесть утра встал…
– Что же придумать? – почесал друг в пышной шевелюре волос с густой сединой, ранней для его сорока.
С ним мы познакомились еще в бывшем райцентре, тоже приготовленном для затопления. Были связчиками по охоте, вместе работали в районном Доме культуры.
– Есть, кажется, выход, – приподнял он указательный палец на уровень серых глаз, – схожу в одному корешу. Ты подожди.
Он ушел в сторону индивидуальных домиков, таких уютных и милых в сравнении с этими панельными четырехквартирынми коробками в двухэтажном исполнении. Я с надеждой посмотрел вслед ему, коренастому, невысокому, лениво-стесненному.
Вернулся он домой. Сказал:
– Моторку я даю. Поплывешь с кочегаром котельной, а утром завтра он за мной приплывет. Поохотимся!
…Моторка врезалась в мякоть мутной после недавнего ледохода воды. отражались в ней берега, заросшие густой величавой тайгой, вбегающей бодро на крутые хребты. Километров через двадцать показался небольшой мыс, такой желанный в этой глухомани. Виднелись на нем столбы от небольшой деревеньки и ямы, заросшие будыльем. Кое-где оставались оклады изб.
Напарник проехал еще немного, и лодка мягко ткнулась в обрывистый, серый от прошлогодней травы берег.
Вынесли ружья и рюкзаки на поскотину с редкими черемховыми кустами, осмотрелись. Вдоль берега – поскотина, за ней – пашня, которая сходила на нет, и поскотина подходила к чудесному сосновому бору, сияющему от щедрот майского солнца. Дел легкий упругий ветерок, мечущийся в разные стороны. Он колыхал высохшую прошлогоднюю траву.
– Куда пойдешь? – спросил напарник, заряжая «тулку».
Справа лежало небольшое поле, на котором должны быть лывы, чуть левее темный ельник клином входил в сосновый бор, взметнувшийся на невысокий длинный хребет.
– Пройдусь по лывам, – ответил я, вставляя в бескуровку «ижвевку» патроны, с детства люблю такую охоту.
– Тогда я двинусь на болото в ельник. В случае чего – и ты туда жми. Понял?
Напарник опоясался патронташем и зашагал, как журавль, по пахоте к ельнику. Серые одежды подчеркивали сходство с длинноногой птицей. Я тоже опоясался патронташем и отправился ревизировать лывы, которых оказалось немного. Уток на них не было, и я направился в пугающим мраком ельник. Шел и думал об умершей деревне. Тоскливое настроение охватило меня: кому она помешала, кому встала поперек горла? Триста пятьдесят лет стояла, жили в ней люди, сеяли хлеб, любили, рожали детей, надеялись на лучшее – и вдруг коллективизация! Она ополовинила деревню, а укрупнение колхозов добило ее до конца. Погибла она задолго до затопления.
В ельнике гулко ударил дунлет. Я вздрогнул и зашагал быстрее, утопая в толстом слое густого зеленого мха, напоминающего роскошный ковер. Вот посветлело, показалось «окно». Я внимательно присмотрелся. Нет, уток не было видно. Только шагнул – всплеск крыльев, и в воздух взмыли два краснолапых селезня. Вскинул двустволку, выстрелил раз-другой, отчетливо осознавая, что опоздал, что не взял нужного упреждения.
– Вот это стрелок! – раздался за спиной насмешливый голос напарника. – Не торопись, паря. Понял?
В руке напарник держал великолепный трофей – селезня.
– Пора обедать.
– Пойдем, согласился я.
Пришли к месту стоянки. Я разрядил безкуровку, бережно положил ее на рюкзак с теплыми вещами и продуктами, достал котелок и стал собирать хворост для коста.
– Ты чай кипяти, – сказал напарник, – а я сетушку в кусты поставлю, авось, ельчишки понабьются в нее. Понял?
Я «сочинил» таганок, разжег под ним костерок, а сам спустился вслед за напарником к реке, чтобы набрать воды. Когда поднялся – ахнул! Языки и язычки пламени бойко бежали, как застоявшиеся в конюшне лошади, по поскотине. Они обгоняли друг друга, останавливались, бросались в стороны и явно имели намерение вырваться на оперативный простор, дабы разгуляться там, где есть пища посолиднее – вековые сосны с их золотыми стволами и бархатными кронами.
Я торопливо срубил ветку черемухи и бросился сбивать пламя. Куда там! вместо одного потушенного язычка пламени возникали десятки других, оставляя после себя дымящуюся землю, черную и словно обиженную. «Врешь, не возьмешь!» – подбадривал я себя и в то же время чувствовал, что мне с пожаром не справиться, пусть паду я здесь «смертью храбрых». Бил и бил веткой по очагам пламени, может полчаса, а может, час. Пот лил с меня крупными каплями, спина взмокла, я был в изнеможении и отчаянии, понимая безвыходность и безысходность. Закричал:
– По-омо-огите-е!
Напарик высунулся из-под обрыва, ахнул, выскочил на поскотину, сломал ветку и бросился на помощь.
Тщетно, все тщетно! Языки и язычки пламени метались в стороны, как выпущенные из класса ученики, не обращающие внимание на призывы к благоразумию. Напарник, долговязый и сутулый, смахнул пот с дубленого лица, махнул рукой:
– Брось ты эту канитель. Понял?
– Да ты в своем уме? Лес ведь рядом…Бор!
– Мало в Сибири лесов? Пусть горит. Понял?
Я продолжал бессмысленную борьбу, все еще надеясь на что-то, но все чаще и чаще осознавал, что надо искать другой выход. А какой? Какой?!
Беспомощно оглядываясь, махал веткой, сбивал пламя. Вдруг заметил, что поскотина шагах в двадцати отсюда резко сужается между пахотой и береговым обрывом. Вот успеть бы проскрести перешеек до подхода огня, лишить его пищи!
Бросился туда, прокричал напарнику, чтобы помогал. Тот понял меня, прибежал. Лихорадочно проскребали перешеек до земли и все время поглядывали на скачущее пламя, приближающееся к нам. Но мы понял, что успеем, и только расширяли полосу.
Пламя взметнулось перед перешейком, ослабло, пригорюнилось. Ветер сумел перекинуть еще две-три искорки, но мы тут уже затоптали робкие пока язычки пламени и вздохнули облегченно: победили стихию! Закурили с устатку. Я ощущал чувство вины и удовлетворения. Пожар допустил я, бывалый охотник (не без помощи, конечно) и не допустил огонь в лес.
Ласковое солнце улыбалось в зените, свежий ветерок обдувал разгоряченные потные лица и кружил дымки дохлых очагов.
Вдруг раздался выстрел. Двустволка напарника посунулась назад и уперлась стволами в землю. Прозвучал глухо второй выстрел, и конец ствола раздулся, повредив другой.
– Моя «тулка»! – бросился к ней напарник. – Черт побери!
Я взглянул на свою «ижевку». И чуть не свалился с ног: рюкзак горел ровным светлым пламенем (мои теплые вещи!), у двустволки перегорела шейка приклада…
– Поохотились! – мрачно изрек напарник, и рот его перекосился от досады. – И чаю попили… Понял? Черт меня дернул связаться с тобой! «Тулка» на сто шагов била, где такую найдешь? Сибиряк, огня не сумел развести… Понял?
И он сплюнул с такой силой презрения, что я внутренне содрогнулся от тяжести своей вины, от сознания непоправимости случившегося, оттого, что подвел человека.
– Я тоже пострадал, – сказал я, оправдываясь.
– Приклад сделать можно. Понял?
– Зато бор спасли…
– Гори он синим огнем, твой бор, – разразился матом напарник, век бы его не видать – ничего бы не потерял.
Напарник еще долго ругался. А я думал, что из-за таких равнодушных, пришлых людей и горят наши леса, хотя в данном случае сам чуть не стал поджигателем.
– Поплыли домой, – приказал напарник, – нечего нам здесь больше делать. понял?
Моторка словно обрадовалась возвращению и бежала вниз по течению споро и деловито, а над головой, словно чуя нашу беспомощность, пролетали иногда стайки уток. Напарник грозил им свободной от румпеля левой рукой и сплевывал в набегающую волну, зеленую от таежных отражений.
Я смотрел на щетинистые от густой тайги хребты справа и слева, и радостное чувство спасителя всех этих зеленых богатств поднимало меня над мелочами жизни…
Как будто вчера все было, а ведь прошло больше пятнадцати лет с тех пор, как я совершил единственную ошибку по отношению к моей природе.
Белый свет
Давно, в студенческие годы наш пятый курс Иркутского художественного училища (а это двадцать парней и одна девушка в качестве повара) отправили копать картошку в отдаленный совхоз области. Разве это не сила?
Да Тулуна ехали поездом весело, с задором и шутками. От Тулуна – в кузове грузовой машины, и тоже весело, только пыльно и тряско.
Ко времени обеда остановилась наша машина в деревеньке, странно для сибирских деревень: в густом березняке в вырубленном месте расположились одна против другой две недлинные улицы из однообразных, как бы наскоро слепленных избушек. Посредине широкой площади стремился в небо колодезный журавель, возле которого мы решили подкрепиться.
– Как называется деревенька? – спросил я у проходившей мимо бедно одетой женщины, хмурой, чуть сгорбленной.
«Белый свет», – сказала она и прошла мимо, не оборачиваясь и не сбавляя шага. «Странно, – подумал я. – «Белый свет», «Белый свет»… Разве может быть такое название? Что это? Насмешка? Над кем? Над жителями деревеньки? Или надо мной? Посмотрел внимательно на сокурсников: как они отреагировали на это, но не заметил на их лицах ни малейшего интереса к происходящему, они были увлечены едой, захваченной из дома.
Запивали водой из колодца, чуть солоноватой, но ни реки, ни озерца поблизости не было: березы, березы и березы! И деревенька в окружении их.
После обеда поехали дальше и вскоре оказались в крупном селе, где нас разместили в бывшей весовой – помещении просторном и пустом.
Утром явился мужчина, одетый в поношенный пиджак, неглаженные штаны, заправленные в кирзовые сапоги. Ему было под пятьдесят.
– Я, – заявил он, представляясь, – управляющий отделением совхоза. А это (он указал на скромно одетую женщину лет тридцати пяти) – агроном. Она покажет вам, где взять вилы, лопаты, мешки и место работы. Условия такие: будете жить на хозрасчете, что заработаете – все ваше. Сотка выкопанной картошки – одни рубль сорок копеек. Ясно?
– Ясно, – ответил наш староста Виктор Тюрюханов, высокий, стройный парень из староверов. Управляющий и агрономша вышли. Я догнал их и спросил: «А почему та деревенька называется «Белый свет»? Это всерьез?» управляющий посмотрел на меня несколько удивительно и ответил: «Всерьез, конечно. Разные там люди живут – и чуваши, и мордва, и татары, и русские. Попробуй, разберись, что у них в головах? Может, это насмешка, что их поселили в таком месте, может, даже самоиздевательство». Я вернулся к сокурсника. Мне хотелось затеять с ними полемику по поводу названия «Белый свет», но не осмелился – слишком необычно прозвучало бы мое предложение.
Копали мы картошку без энтузиазма – поле длинное, ни конца, ни края. И земля, словно глина. Тяжелая, плотная. В первый же день, переломав несколько вил и лопат, мы поняли, что хозрасчет для нас – голодная смерть.
– Что это за расценки? – возмущался Вовка Дулов. – Один рубль сорок копеек сотка! Это пачка папирос «Север»! А ведь еще пожрать надо, я уже не говорю, что и попить.
Управляющий наши протесты решительно отверг: «Ничего не могу сделать – такие расценки». – Но ведь это не земля – асфальт, это бетон, – не сдавался Вовка.
– Пишите жалобу…
Писать жалобу не стали, а нашли выход: двух самых талантливых начинающих «художников» определили «на заработки». Они стали рисовать для местных жителей пейзажи, портреты, настенные «ковры». Рисовали в этой же «весовой». заказчиков находил Виктор, один вид которого вызывал у жителей доверие, и они, не торгуясь, платили. Мы стали лучше питаться. В субботу после бани устраивали даже выпивки. Агрономша ругалась, что на работу выходят не все, мы отбалтывались: у них нет обуви.
Меня же изматывала мысль, почему деревенька называлась «Белый свет». В Нижнеилимском районе, где я родился, все названия были понятны. Вот деревенька Погодаева, ее основатель Погодаев Гришка, сын Юрьев. Возникла в 1645 году и за триста лет разрослась до сорока семи усадеб. А какие там дома! Высокие, трехстенные с резьбой под крышами, на окнах и ставнях. Даже ворота делались в елочку!
Вот это да! А что это за деревенька в глухом березняке? Надо же было согласиться с землеустроителями, чтобы поселиться в таком странном месте! Впрочем, поселенцев могли привлечь черноземы – основы хороших урожаев, а следовательно, и зажиточной жизни. Все так! Но почему все же «Белый свет»? застряла загадка, как заноза под ногтем: не очень больно, но и покою нет: ноет и ноет…
Сколько времени могло это продолжаться? Годы шли. Вернулся в родную деревню. В свободное время – охота, грибы, ягоды, рыбалка. И совершенно неожиданно, благодаря рыбалке, я смог найти ответ на мучивший меня вопрос.
Река, рыбалка имеет для сибиряка большое значение. И в этой связи мне совершенно непонятно, почему некоторые деревни строятся вдали от рек, как, к примеру, «Белый свет». Рыбачить те, кто живет по берегам рек, начинают, чуть ли не с пеленок. Едва встал на ноги, а уже тянется к удилищу, уже бежит к реке с тайным желанием выловить хотя бы презренного пескаря, а ельцы, сороги – это уже добыча тех, кто взрослее.
Построили Братскую ГЭС – и хариус, который нерестился по Ангаре, был вынужден искать места для нереста по притокам Илима. Напротив устья Тушамы нефтеразведчики поставили вышку и в свободное от вахты время занимались рыбалкой в речке, которая после весеннего ледохода имела высокую воду, что вызывало тайные усмешки местных жителей: что за чудаки ловят рыбу в мутной воде удочками.
Однажды я зашел к соседу-шоферу с нефтеразведки – и увидел в кухне на столе крупную рыбину.
– Что за рыба? – спросил я, недоумевая.
– Это хариус.
– Как хариус? – не поверил я. – Разве хариусы такими бывают?
– Выходит, бывают, – улыбнулся сосед.
– Нет, скажи правду, откуда рыба? Из магазина?
– Говорю, с Тушамы. Нефетразведчики в речке добывают.
– Сетями?
– Удочками.
– Да не ври ты! Как же можно в такой воде рыбу удочками добывать? Ведь рыбы и червяка не увидят.
Я внимательно разглядел хариуса, лежащего на столе. Крупный, граммов на восемьсот, темный, с крапинками по бокам. Заволновался, решил сбегать к лучшему другу, позвать его на такую рыбалку.
Друг согласился. Накопали червей, приготовили лески, удилища, а туром раным-рано, еще до восхода солнца отправились к нефтеразведке. Переплыли в лодочке через реку и понеслись вверх по Тушаме, полагая, что чем дальше заберемся, тем богаче будет добыча. Но, усталые, раздосадованные, с позором возвращались мы обратно. Солнце перевалило за четыре часа дня. Хариусы оказались хитрее нас: они ни разу не клюнули.
До устья речки оставалось не больше полукилометра, и мы увидели на небольшой полянке пятерых нефтеразведчиков, стоявших плечом к плечу и забрасывающих в пенящуюся струю воды поплавки. Уселись мы на пригорочке, стали варить чай, попутно наблюдая за чудаками-рыбаками.
Вот один из них сделал подсечку, и на крючке затрепетал крупный темный хариус, который извивался, трепыхался, пытаясь сорваться.
– Молодец! Молодец! – хвалил его рыбак.
Мы не стали пить чай, а заняли места неподалеку от этой группы. Нам повезло. С этой поры я забыл про любую рыбалку, кроме добычи хариусов, тем более что они малосольные, отличались таким вкусом, что пальчики оближешь.
И вот однажды, когда хариус в Тушаме не клевал, решил я перейти по неширокому водоразделу на реку Рассоха, вода которой отдавала болотом, поэтому не могла интересовать хариусов. Вошел в сплошной молодой березняк и остановился в недоумении: мне показалось, что от берез исходит ясное сияние – сильное, всепроникающее, всеобъемлющее, словно где-то среди бесчисленных стволов находились сотни невидимых электроламп. Это было похоже на волшебство, на диво дивное, на чудо чудное.
Торжественное сияние заставило меня удивиться, восхититься, задуматься над странными причудами природы.
И внезапно вспомнил поезду в совхоз на копку картошки, вспомнил о деревеньке «Белый свет». Вот она – разгадка, так долго мучившая меня. Вот оно – открытие светящегося березняка, столь редкое в природе. Вот почему деревня называлась «Белым светом»! Среди первых ее жителей нашелся человек с поэтическим видением, который и обнаружил однажды в березняке сказочное сияние, белый свет, белое торжество расцветающей природы и не мог пройти мимо такого явления, предложил назвать деревню «Белым свет», с чем, вероятно, все согласились. Еще бы, и точно, и метко, и ни на что не похоже. И пусть это белое сияние исчезало, как только березы покрывались весной пушкой листвы, но впечатление, произведенное в эти майские дни, было незабываемым, неизгладимым и человеческой памяти. А ведь здесь пришлось жить, трудиться, растить детей, которые, подрастая, тоже могут спросить, почему деревня называется «Белым светом».
Вот так, через много-много лет, благодаря рыбалке на хариусов, я разгадал тайну столь необычного названия деревни. Да, загадка долго мучила меня, не всегда настойчиво, но всплывала время от времени не столько от нужды, столько от веления души и сердца, например, в песне: на тебе сошелся клином белый свет.
И, словно в награду за открытие, удалось, когда немного улеглось волнение, увидеть под ногами диковинный, редкий-редкий (особенно в глухомани) цветок. Он, высокий, чуть ли не по колено, одиноко, но уверенно тянулся вверх. Меня поразил его размер – чуть ли не в согнутую ладонь, и цвет, который меня чрезвычайно поразил как художника. Это был не желтый, не охристый, не оранжевый, а такой, какой и на палитре не подберешь, чтобы передать его очарование и неповторимость. И был он усеян мелкими черными точками. Такой цвет, необычный, неповторимый, поражал меня в детстве на грудке снегирей, только он был скорее розовым, хотя и не очень, а словно каким-то неземным, космическим, что ли. Или, в конце концов, индийским – у них есть такие красители. Я огляделся. Цветок был один. Откуда? Из каких времен и эпох оказался он здесь, в этом молодом светящемся, сияющем березняке? Пожалел художников с их бедной палитрой и еще раз убедился в том, как талантлив народ, увидевший свет берез и назвавший свою деревню таким поэтическим именем.