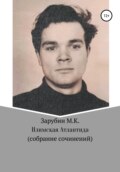Михаил Константинович Зарубин
Мы-Погодаевские
Встречи с Валентином Распутиным
Для начала хотелось бы «пофилосовствовать» на тему: везет не везет! В Иркутской писательской организации яркими явлениями в послевоенное время оказались автор «Даурии» К. Седых, потом – Г. Марков, автор «Строговых», после блеснул Машкин своим «Синим морем, белым пароходом». Станислав Китайский «выдал» роман «После сражения»… И вдруг!!! Смелое, дерзкое по тем временам произведение – «Прощание с Матерой». Это поставило автора в число тех, чье имя хотелось произносить вполголоса, шепотом, настолько необычно ставил автор проблемы отношения к природе, явно протестуя против затопления плодородных земель и против лишения жителей их малой родины.
Сам Валентин Распутин родился и вырос на берегах Ангары, в местах, которые вскоре попали под затопление, но в «Прощании с Матерой» звучит не личная обида автора, а через автора возмущение жителей, которым тяжело расставаться с прошлым, с традициями.
Вторым, достаточно смелым произведением автора, явилась не менее смелая повесть «Живи и помни», в которой освещалась не тронутая еще тема дерезртирства с фронта. Все это сделало имя автора почти легендарным. Его читали, устраивали конференции по его книгам, писали в школах сочинения…
Я старше Валентина Григорьевича Распутина почти на девять лет. Всегда интересовался литературой, особенно такой, от которой «несло» смелостью, необычностью, что в наше время, и довоенное, и после военное вплоть до «горбачевщины», было небезопасно, хотя, честно говоря, ее, такой литературы, и не встречалось. А тут – Распутин! Как мне захотелось увидеть его… Жил он в Иркутске, а я в Железногорске – Илимском, тоже вынесенном из зоны затопления. Расстояние между ними тысяча километров, если поездом, и четыреста – если самолетом (в те благодатные времена, не теперь). Работал я в школе, вел черчение и рисование, и вот – повезло! Отправили меня на курсы усовершенствования учителей в Иркутск. И случилось это в году эдак в 1962–65-м (точно не помню). Удача? Удача!
Стал я с настойчивостью фаната и идиота ходить в свободное время по тем улицам, где предположительно мог появиться Распутин: очень мне хотелось увидеть человека, слава о котором так широко расшагалась по белу свету…
Надо заметить, что в Доме литераторов, куда я принес на «пробу» свои стихи, удалось встретиться со знаменитым, хотя бы в Иркутске, поэтом Петром Реутским. Он детально «разобрал» мои «творения», кое-что похвалил, кое-что поругал за торопливость, за недостаточную требовательность к себе и пригласил к себе на квартиру. Посидели за рюмкой, жена, кстати, очень красивая и стройная, не пыталась упрекать мужа, любителя выпить.
Зашел разговор о Распутине. Естественно, что Реутский, как член Союза писателей и как житель Иркутска, часто встречался с Распутиным. Реутский под глубоким секретом дал мне адрес Валентина, засекреченный от любителей знаменитостей.
С этого дня я стал пропадать на лестничной площадке пятиэтажного громадного дома, бывшего обкомовского. Но неудачно.
Встреча, неожиданная и поэтому взбламошная, произошла в 1979 году на семинаре творческих личностей. Я сидел и сочинял дружеский шарж на Станислава Китайского, который, подтянутый, стройный, грозил подвергнуть всех жесточайшей критике, потому что он – Китайский (в те времена отношения с Китаем были натянутыми до предела). Шарж удавался:
Он – выправки к гаврдейской,
Характер – самурайский,
И с прямотой еврейской
Твердит, что он – Китайский…
В Доме литераторов шел ремонт. Вышли покурить. Я решил «проверить» шарж на «любителях». В это время из-за шкафа вышел крепкого телосложения человек, выше среднего роста. Сердце мое екнуло: Валентин Распутин!
Да, это был он. Я бросился к нему с рукопожатием (смелость или наглость?) и стал благодарить его от имени илимчан за повесть «Прощание с Матерой». Он почему-то раздраженно бросил:
– Ваши илимчане ничего не читают!
Это меня слегка покоробило, но уверять, что все земляки мои прочитали повесть, я не мог, хотя Илим постигла та же участь, что и Ангару, да еще в большей степени.
Вторая встреча, печальная для меня, произошла через день, когда в перерыве между заседаниями секций зашел в курилку Распутин, выпил стаканчик воды и стал у стены. Я осмелел и начал рассказывать, как на Илим (в райцентр) приплывали жители Нижней Ангары, сдавали хлеб в «Заготзерно», ставили лошадей в лодки – илимки и самоплавом (вниз по течению) отправлялись обратно, а на радостях пели песни, да так славно, что илимчане вываливали на берег послушать слаженное пение и выражали вострог:
– Ну Ангара дает!
Что-то Распутину показалось обидным в этих словах, и он, как бы защищая Ангару, заявил презрительно:
– А у нас говорили: вон илимские турсуки и Иркутск поперли!
У нас говорили не турсуки, а трусуки, попытался сказать я вслед, но не уверен, услышал ли он эти слова. Мне стало понятно, с какой сверхлюбовью воспринимает Распутин все, что относится к Ангаре. С какой обидой, если видит отсутствие почтения к ней.
В этот день я совершил еще одну трагическую ошибку, решив дать на рецензию свою рукопись «Приискатель» Распутину. В повести я передал свое детское восхищение некоторым довоенным успехам колхозной жизни в родной деревеньке.
Надо сказать, что перед этим я имел блестящие отзывы о моей повестушке «Ехин фарт» и «Хочу лису», данные писателем Владимиром Жемчужниковым, поэтому был уверен, что и Распутин похвалит меня. Но…
«Приискателя» Валентин Распутин взял, но сказал, что сможет прочитать его только дня через два. Эти два дня показались мне пыткой: я боялся, что Распутин припомнит мне «Ангару», слова которые я произнес все-таки с некоторой долей презрения, смешанного опять-таки с восхищением, но надеялся на великодушие «асса».
И вот настал день моей «казни». Распутину повесть не понравилась, он заявил, что получилось подобие правды, что колхозы так жить не могли, что я сильно приукрасил жизнь.
Я растерялся, спросить не решился, хотя на моей стороне были «козырные карты»: это разница в возрасте! Да! Девять лет. Распутин знал деревню послевоенную, периода страшной разрухи и нищеты, а я знал ее, деревню, еще довоенную, когда тем, кто остался в ней после раскулачивания и репрессий, терять было нечего, им оставалось «быть или не быть», «жить или не жить»!
Они выбрали «жить», взяли кредиты и стали заниматься строительством фирменных коровников, свинарников, конюшен, закупать жатки, сенокосилки, купили «дизель», трактор ХТЗ. И получили в 1940 году небывалый урожай, хлеб возили по амбарам возами, накупили велосипедов, патефонов, костюмов и т. п. Казалось, живи и радуйся, но нашему народу никогда не везло: Финская кампания, Отечественная война отбросили деревню в нищету.
Возможно, Распутин, услышал такие доводы, мог бы согласиться, что получилась все-таки правда, а не ее подобие. Только после драки кулаками не машут. удивительно другое – меня успокаивали: кто тебя раскритиковал? Сам Распутин! И странное дело: я не огорчился ни на грош, будучи уверенный в своей правоте.
Потом во время заседания секции прозы пытался делать в альбоме для рисования наброски с писателей, в том числе и Распутина, которые бережно храню с 1979 года.
Будучи на курорте «Усолье», позвонил Распутину на квартиру с просьбой почитать моего «Дедушку Тирдачку» и дать отзыв.
К великому моего удивлению, Распутин согласился, и вскоре я получил положительный отзыв, правда с пожеланиями еще поработать над некоторыми местами. Вот что значит отзыв маститого писателя, и я увидел «Дедушку Тирдачку» в солидном сборнике иркутских писателей «Повести». Это еще тогда, когда платили гонорары.
Все мои попытки вступить в члены Союза писателей натыкались на невидимое сопротивление некоторых членов. Например, повесть «Поселенец» получила восторженный отзыв Станислава Китайского, который заявил, что «Поселенец» мог бы стать явлением не только в иркутской литературе, но в то же время она попала в руки братчанина Геннадия Михасенко, которые ее беспощадно «зарезал», я уверен, не читая: лезут, мол, в литературу всякие, а мы на что жить должны? «Поселенца» я издал на деньги спонсоров, и повесть пользуется неизменным успехом среди читателей, требующих издания ее в более солидном виде, а не в районной типографии.
Мне говорили: чтобы стать членом Союза писателей, надо иметь две отдельно изданные книги, хотя в сборниках у меня напечатанного было на три и четыре, и пять книг.
Словом, не везло! Я вообще невезучий!..
Бывали ли еще встречи с Валентином Распутиным? Бывали, но эпизодические, кратковременные, случайные. На илимской земле он больше не появлялся с тех пор, как приезжал еще до затопления долины Илима водами Усть-Илимкой ГЭС. Что-то ему требовалось уточнить, проверить, прочувствовать.
Не лежит туда дорога, отвечал он, когда его спрашивали илимчане…
В этом году ряд газет очень широко и подробно отметил 70-летие знаменитого писателя, который в последнее время стал более публицистом, пишущим такие объемные статьи, что не всякий из читателей возьмется за их чтение.
Стал он замкнутым, но простым, «воевал» с любителями гробить природу, бился за нравственность человека и человечества.
Егоркина страсть
Рассказ
Года за два или за три до войны это было. Придя из школы, Егорка набегался, накатался на лыжах, а когда свечерело, вбежал в избу, разделся и в ожидании ужина присел на поленья у топящейся железной печки, на которой мать, невысокая, ловкая, разогревала ужин и кипятила чай.
Грузно вошел в дверь отец, каждый раз поражая Егорчику высоким ростом и сумрачным лицом. Он присел на диван, надел очки и развернул сегодняшнюю газету «Восточно-Сибирская правда».
Мать бросала на мужа недовольные взгляды, словно хотел и не могла обидеться: вот всегда так, себе читает, а до нее и дела нет. Но она побаивалась мужа. Егорка отца тоже побаивался.
Пришел с работы старший брат Михаил, помыл руки, достал из кармана тужурки журнал «Красноармеец» и стал перелистывать поблескивающие тонкие страницы с иллюстрациями.
Егорка учился в третьем классе, являлся членом редколлегии стенгазеты «Пионер» и всегда чувствовал трепет газетами и журналами. Он завидовал отцу, завидовал брату, которые трудился наборщиком в районной типографии и готовился к службе в Красной Армии. Они читали свои газеты, свой журнал, а у него не было ни того, ни другого, и он не мог, набегавшись, сесть за стол и почитать свою газету.
Егорка подскочил к брату:
– Дай посмотреть!
– Молоко на губах не обсохло, – с усмешкой сказал брат и щелкнул Егорку по носу, – рано тебе…
– Рано, рано, – заворчал паренек, – всегда так. А я хочу!
И стал заглядывать в журнал через плечо. Увидел на картинке: два всадника на красивых лошадях сражаются саблями. Внизу надпись: «Кисть руки офицера вместе с клинком отлетела».
Брат сказал строго:
– Не мешай, схлопочешь!
Егорка обиженно поджал губы и отошел в сторонку. Вдруг ему явилась славная мысль: надо выписать себе газету, свою!
Егорка преодолевая робость, приблизился к отцу:
– Тять, а тять!
Отец буркнул, не отрываясь от газеты:
– Чего тебе?
– Дай денег.
– На что?
– Газету выпишу.
– Хорошее дело. Но где я тебе денег возьму? Заработай и выпиши.
– Я еще маленький…
– Ничего себе маленький. Я в твои годы пахал и боронил, двух сестер кормил.
(Отцов отец умер, когда сыну шел двенадцатый год.)
– Как я их заработаю?
– У тебя на плечах кочан капусты или голова? Вот и думай…
Чернобородый коренастый дедушка Филипп состоял в деревне почтальоном, разносил по избам газеты, журналы, письма. Охотно вступал в разговоры.
– Дедушка, а дедушка, – обратился к нему на следующий день Егорка, как на газету подписаться?
– Проще простого: давай мне деньги, а я тебе квитанцию выпишу… Тебе какую? «Пионерскую правду» или «За здоровую смену»?
– Мне был «Илимский партизан». – Местную, значит. Баско!
– Но у меня нет денег.
– Дак о чем разговор…
Пошел дедушка дальше, а Егорка голову повесил и не заметил, как к нему синеглазый друг Колька приблизился.
– О чем задумался? Пойдем на санках с угорка кататься.
– Не, – сморщился Егорка, – мне был денег заработать где.
– Ого-о! – удивился Колька. – А зачем тебе деньги?
– Хочу на газету подписаться.
– А я был складешок перочинный в раймаге купил, – мечтательно протянул Колька, – если бы деньги были.
– Вот я и думаю о них.
– А знаешь, – поднял Колька палец вверх, – я, кажись, придумал!
На следующий день в лесу за деревней, в старой гари, где стояли без коры погибшие сосны, стучал топор и вжикала пила. Ребята валили посильные деревья и пилили их на дрова.
– Вот и будут у нас деньги! – заявил Колька. Завтра выпрошу у бригадира Чалку и продадим дрова Марье Денисовой. У нее муж недавно умер, детей обогреть надо, еду сготовить…
– Будут, будут! – радостно подхватил Егорка и запечалился.
– Ты чего?
– А вдруг у нее тоже нет денег?
Марья, конечно, дрова купила, еще и спасибо сказала. За стол ребят усаживать чай пить, но они отказались: им не терпелось выскочить на двор, отогнать коня с санями на конный двор и поровну поделить честно заработанные деньги.
…Дедушка Филипп выписал квитанцию, пожал маленькую Егоркину ручонку и сказал:
– Дак читай, набирайся ума – с Нового года пойдет тебе газета.
Егорка торопил дни этих двух оставшихся до нового года месяцев, нетерпеливо срывал утром листок настенного календаря, поглядывал на проходящего дедушку Филиппа, который усмехался в бороду:
– Ждешь?
– Жду.
– Молодец!
Взяли в армию брата, застучали морозы, снег стал глубоким.
И вот наступил Новый год. Пришла Егорке газета. Свежая, пахнущая типографской краской. Егорка бросился к окну, торопливо заскользил глазами по заголовкам, потом уселся на диван и степенно, как отец, углубился в чтение. Его грудь распирала гордость. Он был сейчас счастливейшим человеком в мире, хотелось побежать к ребятам, поделиться радостью. Еще бы! Не каждый из ребят имеет свою газету.
Воспитатель дед Филипп
В деревне легкий зной и власть послеобеденного покоя. Даже воробьи и куры притихали. Люди спят в темных сенцах, кладовках, амбарах. Часа через два им снова идти в поля полоть посевы, возить на пары назем, достраивать длинные колхозные конюшни, крыть их тесом – роскошь, невиданная раньше при единоличной жизни.
Егорка и Юрка, семилетние карапузики, пользуясь полной свободой, облазили все гумна и овины, как бы ничейные после коллективизации, перепачкались сажей, пылью, паутиной и стояли у колхозного амбара, соображая, чем бы еще заняться. Амбар был двухэтажный, если выражаться по-современному, под свесом крыши боками с прозеленью. От увесистого, кованного из железа языка свешивалась вниз веревка, привязанная за перила второго этажа, куда вела лестница из плах. С заплота слетел воробей, помахал короткими крылышками и сел возле колокола.
Ребята проследили за полетом воробья, и вдруг их внимание привлекло грозное, не раз виденного чудовище, незыблемо и тяжело висящее на толстой перекладине.
«Вот если брякнуть – звон бы пошел!» – пришла в голову Егорке увлекательная мысль, и карие глазенки его озорно скосились на флегматичного Юрку, лопоухого и белобрысого товарища на сегодня. Юрка тоже смотрел на колокол, но, казалось, был далек от мысли звонить.
– Давай звякнем! – заговорщицки шепнул Егорка и поглядел туда и сюда вдоль полусонно улицы. Никого, ни души…
– Не! – боязливо возразил Юрка, искривляя губы. – Тятька ремнем выпорет…
– Не узнает, – убежал Егорка, подтягивая короткие, до колен, штанишки, мы разок ударим – и сразу вниз по лестнице.
– Не! – упрямо повторил Юрка. – Боюсь ремня тятькиного.
– Трус ты, сдрейфил, – презрительно выпятил нижнюю губу Егорка и еще раз поглядел вдоль деревни. – Кто увидит?
Ну и пускай трус, – беззлобно согласился Юрка, – лезь сам, если надо, а я не полезу…
Егорке стало обидно, что Юрка, трусливо-осторожный и раздражающе упрямый, не понимает, не представляет, как это интересно брякнуть в колокол и слушать потом необыкновенно густой, как у быка, бас с металлическим дребезжащими нотками, плывущий на деревней и рекой, над недальним бором и, пожалуй, над синими далекими хребтами.
– И полезу! – с вызовом заявил Егорка, направляясь к лестнице. – А ты трус, трусишка, наклал в штанишки…
– Это ты наклал в штанишки…
Егорка добрался до веревки, отвязал ее, зажал в кулачок и, зажмурясь, горбясь, как будто тяжелый звук колокола должен упасть на его спину, изо всей силы дернул веревку.
Колокол отозвался немедленными сдержанным гулом, который, казалось, сковал Егорку оцепенелым страхом, но мальчик тут же опомнился и пришел в неописуемый восторг, с бесшабашной удалью крича вниз, Юрке:
– Еще?!
Но Юрка повернулся и, глядя с ужасом за угол амбара, бросился бежать по улице, часто-часто мелькая пятками.
«Чего он испугался?» – подумал Егорка, почувствовав безотчетную тревогу, и на всякий случай стремительно скатился вниз.
У лестницы его ждал с пучком крапивы в мозолистой ладони с грубой коричневой кожей дед Филипп, чужой дед, не родной, один из добровольных и вечных воспитателей деревенской детворы. Черная аккуратная борода, серая, подпоясанная ремнем, косоворотка, смазанные дегтем ичиги… Сам серьезность и гроза!
– Сымай штанишки, – произнес он голосом с той убедительной силой, когда становится совершенно ясно, что на пощаду рассчитывать нет надежды. Дед взял Егорку за воротник рубашонки.
– Я больше не буду-у! – заныл Егорка.
– Ты не будешь – и я не буду. А пока – сымай штанишки!
– Пусти, не буду-у! – Егорка резко рванулся, пытаясь вырваться. Бесполезно, Цепкие руки у деда.
– Сымай без разговоров. Не сымешь – помогу.
– Пусти-и… не буду-у…
– Не будешь? А ты знаешь, для чего в деревне колокол? Знаешь? Нет? Пожар ли где, тонет ли кто, знак ли подать в поле, штоб на обед шли али с обеда на работу…
Дед снял с Егорки штанишки и стал пороть его крапивой, приговаривая:
– А ето для закрепления, для понятия, для уважения… Будешь ишшо безобразничать? Будешь? Будешь проказничать?
Потом отпустил Егорку и, когда тот бросился убегать, крикнул вслед, что вечерои еще отцу скажет.
За ужином Егорка сидел на скамье, стараясь остаться незамеченным. поужинав, отец опросил, чуть улыбаясь:
– Хватит или добавить?
– Хватит, хватит, – заелозил на скамейке Егорка.
…Обида на деда Филиппа прошла быстро, но урок, заданный им, остался в памяти на долгие – долгие годы, и Егор Ильич, сам став учителем, сильно жалел, что со смертью деда Филиппа из нашей жизни ушло что-то очень важное.
Задание выполнено!
Сосулька свисала с шиферной крыши четырехэтажного дома.
Да, тоскливо подумала управдомша, уныло поглядев на сосульку – глыбу льда в четверть тонны весом, такая, если упадет, прохожего насквозь прошьет… Надо сказать дворнику, чтобы сбил ее.
Не могу, развел руками дворник, потому как высоко, а ежели с крыши сбивать, то сверзиться вниз можно… По технике безопасности не полагается.
Что же делать – запечалилась управдомша.
Только ракетой сбить можно, пошутил дворник.
Управомше было не о шуток. Мысль о ракете показалась спасительной, и она (бывают же чудеса!) «уготовила» ракетную установку.
Будет сделано! – козырнул ракетчик. – Собьем с первого залпа.
И сбил. Не стало зловещей сосульки.
На вместе с ней не стало и крыши. Слетела вместе с вредной сосулькой.
Что же это вы наделали? – ухватилась за голову управдомша.
А что? Сосульку сбил, задание выполнил…
Не случалось ли, читатель, у вас таких ситуаций?
Риск
Их было пятеро. Пятеро девушек-студентов. Сдружились они за пять университетских лет: вместе ходили в кино, в театры, вместе встречали праздники…
Случилось это в новогоднюю ночь.
Я после службы в армии учился на втором курсе сельхозинститута, жил на квартире у тетки, родной сестры моего отца. Дядя не возражал: живи, если хочется. Была у них единственная дочь. Люба, моя кузина. Симпатичная толстушка, немного избалованная. Так вот, держала она в своих руках эту пятерку. Описывать всех девушек не стану: для рассказа это не имеет большого значения, а вот о квартире расскажу. Небольшой одноэтажный домишко из старого дерева стоял на боковой улице неподалеку от главной. В нем-то, в этом домике, и происходили встречи праздников. А незадолго до описываемого случая Люба пригласила из общежития Калерию, одну из пятерки, жить у нее.
В Калерию я давно влюбился: так она была хороша и стройна! Серые глаза, опущенные длинными ресницами, выражали уверенность в своей неотразимой обаятельности; в походке, в движениях царственная величавость, в словах – значительность. По настроению могла удачно пошутить, внося в это элементы озорства.
Иногда на праздники пятерку удостаивали посещением два однокурсника, и тогда пятерка становилась семеркой. Я не в счет: подумаешь, сельхозник, коровам хвосты вертеть!
Валерик, милый, обаятельный, был женат, но приходил без жены. Пашка (так его звали девчата) холостяк, отличался военной выправкой: как-никак, бывший офицер, уволенный из кадров по болезни. Бледное лицо, тонкие бесцветные губы вызывали у меня, деревенского здоровяка, жалость и сострадание. Отличался он некоторой надменностью и чуточку высокомерием, впрочем, относящимся, пожалую, только ко мне.
Оба сокурсника довольно успешно изощрялись в остроумии, в розыгрышах и во всем таком, что могло поднимать их весомость.
Комплекс неполноценности преследовал меня с детства. Еще бы: жил в далеком северном краю, учился в сельской школе, и не было передо мной человека, у которого бы я мог поучиться, поднахвататься «манер высшего общества». Был тюхой!
Калерия! Калерочка!! Как я любил ее! Но не смел сказать ей об этом. Однажды, улучив момент, когда Люба благодушествовала, я поведал ей о своей любви к обаятельной Калерочке. Люба, естественно, предала мои слова Калерии, и я стал замечать в ее серых глазах ледяное презрение: не суй суконное рыло в калащный ряд! Так мне и надо…
Калерии нравился Пашка. Она при малейшей возможности заговаривала с ним заискивающе ласково; едва ли не просительно. Однажды, в ноябрьский празник, услышал я нечаянно:
– Слушай, Пашка, а ты некрасивый…
– Почему некрасивый? Я красивый…
– Если красивый, почему не женишься?
– Давай я тебе стихи почитаю.
– Я вся внимание!
Длинноногие девушки.
Совершенством маня,
Резво мчат мимо дедушки,
Значит, мимо меня.
Нежногрудые бестии,
Ваша прелесть пьянит,
В рай хочу с вами вместе и
В сексуальный зенит.
С молодыми задорными
Молодел бы я сам,
Но лишь каплями черными
Грусть течет по усам…
Да, на улице слякотно,
Нудный дождь моросит.
Мне обидно и какатно,
Старый я паразит!
– Нахал! – возмутилась Калерия. – Какой же ты старик?
– Старик, Калерочка, старик.
Калерия стояла на своем, тянула шутливо-капризно:
– Пятый год мы вместе, а ты так и не замечаешь меня или я не замечательная?
– Я не замечаю тебя потому, что ты замечательная. Но, увы! Ты слышыла что-нибудь про атомные испытания?
– Кое-что слышала. А что? Про радиацию? Положили нас лицом к эпицентру взрыва, велели накрыться белыми простынями…
Валерик, чтобы увести разговор от нежелательного направления, громко заявил, глядя в окно:
– А не пойти ли нам за Ушаковку в березовую рощу?
– Так ведь «нудный дождь моросит»! – усмехнулась Калерия.
– Меня цитируют, – произнес Пашка, задирая нос.
– Девчата, – воскликнул Валерик, – наш преподаватель современной русской литературы имел любимые выражения типа: «так сказать», «прочие прочие вещи», «межу прочим», «если угодно». Вот что я услышал на днях:
Недавно, товарищи смог я узнать
Из лекции, страстной и вещей,
Что жил Маяковский, он жил, так сказать,
И прочие-прочие вещи.
Что он, между прочим, писал и стихи.
Писал их легко и свободно,
Стихи эти были весьма неплохи,
Талантливы, если угодно…
Так лектор вещал, закосивши глаза,
Слова изрытая все хлеще,
Я слушал. Меня прошибала слеза
И прочие-прочие вещи…
Все дружно зааплодировали. Люба восторженно спросила:
– Ты сочинил?
– К сожалении., не я…
…Подошло время встречать Новый год. Девчата накрыли стол в зале. В углу сияла огнями елка, из комнаты Любы звучал бархатный баритон Александровича. Пашка и Валерик изощрялись в остроумии, сыпали анекдотами. В полночь пробка из бутылки шампанского устремилась к потолку, зазвучали тосты.
– Пашка, – мило улыбнулась Калерия, – какое у тебя самое заветное желание? Точнее, желанное хотение?
– У меня, – значительным тоном заявил Пашка, – самое хотенное желание – прийти в класс, где много много детей, и учить их разумному, доброму, вечному.
– Какой ты тоскливый, – приунывала Калерия. – ты останешься вечным холостяком.
– Это не помешает мне быть хорошим учителем, а вот ты, Калерочка-холерочка, разборчивая невеста, рискуешь остаться одна. Тебе двадцать два – возраст критический. Все твои подруги повыходили замуж… Или тоже собираешься стать хорошим учителем?
– Что же я могу поделать? Посоветуй.
– Думай.
Как я был благодарен Пашке за такие речи!
Калерия повесила свою красивую головку, закручинилась, но вдруг решительно встала, подняла рюмку с вином и, тожественно огладывая всех, заявила без улыбки:
– Рискну! Пойдем все на угол к Главной улице, и первый, кто выйдет из-за угла, будет моим мужем!
Раздались аплодисменты в сесть интересного розыгрыша. Калерия настояла на своем, заставила всех одеться, и мы дружно вывалили на улицу, пошли с шутками-прибаутками туда, где темнела громада четырехэтажного кирпичного дома.
Новогодняя ночь сняла блестками снежинок в свете уличных фонарей. Редкие парочки проходили мимо. Вот и угол. Я, как и все, не воспринимал Калерино заявление всерьез, но все же боялся невероятного: вдруг выйдет молодой, симпатичный юноша и прости-прощай, Калерочка! Мне очень хотелось, чтобы вышел дряхлый старик, инвалид на одной ноге, женатик, хулиган, ворюга, бич-бродяга…
Из-за угла вышел солдат, сразу видно, демобилизованный.
От дружного «ура!» свалился снег с тополя. Солдата окружили, ухватили за рукава, за хлястик шинели, за ремень. Он недоумевающее озирался, пытаясь сопротивляться, но шутки и улыбки успокоили его.
– Кто вы? За что? Что вы от меня хотите?
– Тебе нравится эта особа? – спросил Пашка.
– Ничего, – улыбнулся довольно солдат, – и что?
– А вот что: пойдем-ка с нами, выпьем, поговорим и в донышко поколотим. Все будет хорошо, не бойся.
– Я не боюсь, только все как-то неожиданно…
– Сердце мое укатилось в пятки: прощай, Калерочка, прощай, неспетая песня моя! Стало грустно, новогодний вечер померк, огни черными пятнами легли на глупый снег…