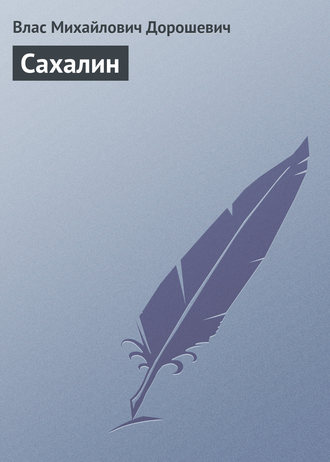
Влас Дорошевич
Сахалин
Как видите, здесь смешано все, как бывает смешано в выгребной яме.
И человек, только не снявший шапки, гниет в обществе убийц по профессии.
Окончив срок испытуемости, долгосрочный каторжанин из кандальной переходит в вольную тюрьму…
Так в просторечье зовется отделение для исправляющихся.
Сюда же попадают прямо по прибытии на Сахалин и «краткосрочные» каторжники, то есть приговоренные не более чем на 15 лет каторги.
Исправляющимся дается более льгот. Десять месяцев у них считается за год. Праздничных дней полагается в год 22. Им не бреют голов, их не заковывают. На работу они выходят не под конвоем солдат, а под присмотром надзирателя. Часто даже и вовсе без всякого присмотра. И вот тут-то происходит чрезвычайно курьезное явление. Самые тяжкие, истинно каторжные работы, например вытаска бревен из тайги, заготовка и таска дров, достаются на долю исправляющихся – менее тяжких преступников, в то время как тягчайшие преступники из отделения испытуемых исполняют наиболее легкие работы. Человек, приговоренный на 4, 5 лет за какое-нибудь нечаянное убийство во время драки, с утра до ночи мучится в непроходимой тайге, в то время как человек, с заранее обдуманным намерением перерезавший целую семью, катает себе вагонетки по рельсам.
– Помилуйте! Разве мы можем посылать испытуемых в тайгу? Конвоя не хватит, солдат мало.
Судите сами, может ли такой «порядок» внушить каторге какое-нибудь понятие о «справедливости» наказания, – единственное сознание, которое еще может как-нибудь помирить преступника с тяжестью переносимого наказания.
– Какая уж тут правда! – говорят исправляющиеся. – Что кандальник головорез, так он поэтому и живи себе барином: вагончики по рельцам катай. А что я смирный да покорный и меня без конвоя послать можно, так я и мучься в тайге. Нешто мое-то супротив его-то преступленье?
Тюрьма для исправляющихся – это менее всего тюрьма. Прежде всего это ночлежный дом, грязный, отвратительный, ужасный.
Когда я вошел первый раз под вечер в «номер», где содержатся бревнотаски, дровотаски и вообще занимающиеся более тяжкими работами, у меня закружилась голова и начало мутить. Такой там дух!
Арестанты только что вернулись из тайги, где они работали по колено в талом снегу. Онучи, коты, бушлаты, – все было на них мокрое. И они лежали в поту, во всем мокром, на нарах. Я велел одному раздеться и должен был отступить: такой запах шел от этого человека.
– Да ведь ты преешь весь?
– Что же делать-то! Прею. На ноги вон и то уж больно ступить.
– Чего ж ты не разденешься? Не развесишь платье посушить?
– Развесь! Развесил вон Кузька халат да онучи, задремал, – и свистнули.
– Это у нас недолго! – подтверждали, улыбаясь, каторжане.
Можете себе представить, что делается с этими людьми, по неделям не раздевающимися. Если бы кто-нибудь и пожелал вести себя почище, благодаря общим нарам это невозможно. У них и паразиты общие. Помню, разговариваю в Онорской тюрьме с одним белобрысым арестантом, а каторжане меня предупреждают:
– Барин, велите-ка ему от вас поотодвинуться: с него падают.
И с этаким-то субъектом лежать рядом на нарах! Заботься тут о чистоте!
Этим объясняется и «непонятная», как говорят господа смотрители тюрем, страсть каторжан спать под нарами.
– Не лежится ему на нарах, под нары, в слякоть лезет!
Лучше уж лежать в слякоти, чем рядом с таким субъектом!
Мне говорили многие из каторжан, что они сначала даже есть не могли.
– Тошнило. Везде ползают… Да и теперь, припрячешь хлеба кусок: приду, мол, с работы – пожую, возьмешь, а по нем ползут… Тьфу!
Каждый раз, когда мне случалось провести несколько часов в тюрьме, мое платье и белье было полно паразитов. Чтобы дать вам понятие об этой ужасающей грязи, я скажу только, что должен был выбросить все платье, в котором я ходил по тюрьмам, и остригся под гребенку. Других средств борьбы не было! И в такой обстановке живут люди, которым нужны силы для работы.
Второе назначение вольной тюрьмы – быть игорным домом. Игра идет с утра до ночи и с ночи до утра. В каждую данную минуту заложат банк в несколько десятков рублей. Игра идет на деньги и на вещи, на пайки хлеба за несколько месяцев вперед, на предстоящую дачку казенного платья. Все это сейчас же можно реализовать у тюремных ростовщиков, вертящихся тут же. Играют каторжане между собой. Сюда же являются играть и поселенцы. Играют старики и… дети. При мне в Дербинской тюремной богадельне поселенец, явившийся продавать в казну картофель, проиграл вырученные деньги, телегу и лошадь. В Рыковской тюрьме к смотрителю при мне явилась с воем баба-поселенка.
– Послала мальчонку в тюрьму хлеба купить. А они, изверги, заманули его в номер и обыграли.
– Не верьте ей, ваше высокоблагородие, – оправдывалась каторга, – она сама посылает мальчонку играть. Кажный день он к нам ходит. Выиграет – небось, ничего, а проиграл – «заманули». Заманешь его, как же!
На поверку это все оказалось правдой…
Исправляющиеся выходят из тюрьмы в течение дня свободно. Они обязаны только исполнить заданный урок и явиться вечером к поверке. Все остальное время они шатаются где им угодно. Точно так же свободно входят и выходят из тюрьмы посторонние лица; это облегчает сбыт краденого. Около тюрьмы исправляющихся всегда толпится несколько десятков поселенцев, по большей части татар. Это все ростовщики, покупатели краденого.
Третья роль, которую играет вольная тюрьма, это быть притоном и бездомовных, и даже беглых.
Тюрьма, надо ей отдать справедливость, с большой жалостью относится к участи поселенцев. Ведь поселенец – это будущее каторжника. Зайдя во время обеда в вольную тюрьму, вы всегда застанете там кормящихся поселенцев. Хлеба каторжане им не дают.
– Потому самим не хватает.
А похлебки, баланды, которую каторга продает по пять копеек ведро на корм свиньям, отпускают сколько угодно. Таким образом, в годы безработицы и голодовки, в вольной тюрьме, говоря по-сахалински, «кормится в одну ручку» подчас до 200 поселенцев. В вольную же тюрьму ходят ночевать и бездомовные поселенцы, пришедшие «с голоду» в пост из дальнейших поселений и не имеющие где приклонить голову.
Они приходят перед вечером, забираются под нары и там спят до утра.
Право, есть что-то глубоко трогательное в этом милосердии, которое оказывают нищие нищим. И сколько раз воспоминание об этом поддерживало меня в те трудные минуты, когда мой ум мутился и каторга, благодаря творящимся в ней ужасам, казалась мне только скопищем злодеев. Нет, даже в тюрьме, в этой злой, гнойной яме, живет «человек»!
Вольная тюрьма служит часто притоном для беглых каторжников, бежавших из других округов. Так, например, страх и ужас Сахалина Широколобов, отковавшийся от тачки и бежавший из Александровской кандальной тюрьмы, Широколобов, за поимку которого обещано 100 рублей, неуловимый Широколобов, для поимки которого посылают целые отряды и переодетых сыщиков-надзирателей, – этот самый Широколобов тихо и мирно скрывался целую зиму в Рыковской тюрьме.
– И получал казенный паек! Какова бестия! – восклицали начальники округа и смотритель тюрьмы.
– Да как же это могло случиться?
– А очень просто. В лицо мы его не знаем. Почем знать: кто он такой? А каторга уж, разумеется, не выдаст. Так и прожил всю зиму. А потеплело, ушел – и дела творит. Что с ним поделаешь?
Вообще вольности вольных тюрем неисчислимы. Надо было мне отыскать арестанта П., известного преступника. Справляюсь у смотрителя.
– На мельнице работает. Иду на мельницу.
– Нет.
В другой раз «нету». В третий «нету». Ходил в шесть часов утра – все «нету». За это время каторга успела уж со мной познакомиться, я уже стал пользоваться ее доверием. Мне и говорят на мельнице:
– Да он здесь, барин, никогда и не бывает. Он за себя другого поставил. За полтора целковых в месяц нанял. А сам в тюрьме постоянно. У него там дело: он и майданщик (содержатель буфета и тюремного стола), он и барахольщик (старьевщик), он и отец (ростовщик).
Посмотрел из любопытства на сухарника (человек, который нанимается за другого нести каторгу). Жалкий мужичонка, приговоренный на 4 года за убийство в драке, в пьяном виде, в престольный праздник. До часу дня он работает на мельнице за другого, а с часу до вечера исполняет свой урок. В чем только душа держится, а несет две каторги.
И такие случаи на Сахалине не только не редки – они ординарны, заурядны, обыкновенны. Человек, в пьяном виде попавший в беду, отбывает двойную каторгу, а преступник по профессии, один из знаменитейших убийц, гуляет, обирает каторгу, наживается на этих несчастных.
Полтора рубля на Сахалине – это побольше, чем у нас пятнадцать.
Таковы нравы тюрьмы для исправляющихся.
За хорошее поведение арестанта по истечении некоторого времени могут освободить совсем от тюрьмы. Он переходит тогда в вольную каторжную команду, живет не в тюрьме, а на частной квартире и исполняет только заданный на день урок.
И если бы вы знали, как все, что есть мало-мальски порядочного в тюрьме, стремится к этому! Как они мечтают вырваться из этой физической и нравственной грязи тюрьмы и поселиться на вольной, на «своей» квартирке. Но, к сожалению, это не всем удается, не всем желающим дается. Сам смотритель не может знать каждого из сотен своих арестантов. Аттестация о хорошем поведении зависит от надзирателей, часто самих бывших каторжников. Представление о переводе в вольную команду составляется писарями, назначаемыми исключительно из каторжных. Они все держат в своих руках. И часто из-за неимения двух-трех рублей бедняге каторжанину приходится отказаться от мечты о своем угле, от всякой надежды на облегчение участи…
Вырвавшиеся всеми правдами и неправдами в вольную команду или снимают где-нибудь койку за полтинник в месяц, или живут по двое в хибарках. В каждом посту есть такая каторжная слободка.
Заходишь – бедность страшная, имущества никакого. А у людей все-таки в глазах светится довольство.
– Слава Те, Господи, вырвались из ее, проклятой.
Сами себе господа! Хибарка – повернуться негде. И Боже, что за людей сводит судьба вместе! Зайдем в одну мазанку. На пространстве в пять шагов длины и ширины живут двое.
Один – поляк. Ему 40 лет от роду, а на вид – 60. Он похож на огромный, сгорбившийся скелет. Лицо желтое, обтянутое. Глаза горят мрачным огнем. Он вечно угрюм, необщителен, ни с кем не говорит. Присужден на 20 лет за то, что нанял убийц убить жену. Он замучен был ревностью, но боялся убить сам. Много, вероятно, бурь пережил этот преждевременно поседевший, сгорбившийся, высохший человек.
Его «половинщик» – паренек из Воронежской губернии. Попал за насилие над девушкой.
– Пьян был, ваше высокородие. Гурьбой шли. А она навстречу. Может, я, а может, и не я. Ничего не помню!
И живут эти два полюса вместе.
Вот другая пара.
«Сурьезный», старый мужик, сибиряк. Атлет по сложению. Лицо всегда строгое. Глаза светятся холодным, спокойным блеском. В них чуется заледенелая душа. Так же холодно и спокойно, вероятно, смотрели эти глаза и в то время, когда он, хозяин постоялого двора, убивал топором четырех спавших постояльцев: трех захмелевших купцов и ямщика. Натура сильная, могучая. Его «бес попутал». Когда такого человека «бес попутает», он пойдет на все, не остановится ни перед чем. Жалость, сострадание чужды его душе. Он слишком могуч для таких «слабостей». От него веет настоящей трагической фигурой.
Вместе с ним живет рыжий мужичонка, добродушнейшее в мире существо, который даже о своем преступлении вспоминает так, что нельзя не улыбнуться.
– На сходе было… Мужика не в число, знать, ударили, а мужик-от осерчал, да и помер, дай Бог ему царствия небесного, вечный покой!
– И ничего? Уживаетесь? – спрашиваю.
– Парень не озорник! – отзывается старик о своем «половинщике».
– Живем! Чаво ж нам?! – улыбается мужичонка.
Повторяю, в общем, по большей части, стремящиеся жить на вольной квартире – это лучшее, что есть на каторге. Игроки, моты, пьяницы, ростовщики – тем не в пример «способнее» жить в тюрьме. И когда подумаешь, что в их обществе должен гнить хороший человек только потому, что у него нет двух-трех рублей для надзирателей и писарей за аттестацию и представление!
Кандальная, вольная тюрьма и вольная команда – перед нами прошла вся тюремная карьера каторжника. Обычный порядок.
Но весь этот порядок опрокидывается вверх ногами, если за прибывшим на Сахалин самым тяжким преступником следует семья, и особенно, если к тому же он хорошо знает какое-нибудь мастерство.
Если он, например, хороший слесарь, токарь или резчик по дереву, – он уже не обыкновенный арестант, а persona grata, даже persona gratissima. Уж не он ищет, а в нем ищут. В Александровске, например, есть резчик Кейзер. И вы сразу видите в обращении с ним даже общую почтительность. Еще бы! Это единственный резчик во всем посту. Нужно кому-нибудь из служащих хорошенькую вещицу – бегут к нему. Он тонко и искусно выполняет те вещи, которые посылают в Хабаровск, чтобы показать, как процветают и на какой высокой ступени развития стоят сахалинские мастерские.
– Ему лафа! – помню, с иронической улыбкой говорил мне про него один кандальник. – А только, я вам скажу, он не то что хороший резчик по дереву, а недурно режет и по горлу.
Не хуже нас, многогрешных. А живет барином.
Если за каторжником приходит семья, он выпускается из тюрьмы, на два года совсем освобождается от каких бы то ни было работ, а затем работает поурочно, причем ему урок должны назначать такой, чтобы это не мешало правильному ведению хозяйства.
Случается так, что за одно и то же преступление, на один и тот же срок, приходят двое преступников. За одним следует семья, – и он живет на воле, два года ничего не делает. А другой – холостой и потому сидит в кандальной тюрьме, на лето ему бреют голову, его заковывают.
Убийца-зверь, убийца по профессии, гуляет на свободе и работает на себя, потому что он семейный. А человек, осужденный на 17 1/2 лет за то, что, разговаривая с фельдфебелем, он наговорил дерзостей и сорвал с себя погоны, томится в кандальной тюрьме.
– Знал бы, наперед женился, – смеются каторжане.
Все это мало внушает каторге мысль о справедливости наказания, которое они несут.
Один из кандальных, в беседе глаз на глаз, убеждал меня, что ему необходимо бежать. И как я его ни отговаривал, стоял на своем:
– Невмоготу мне!
– Ну, послушай. Будем говорить прямо. Тяжко наказание, это верно. Но ведь ты же его заслужил. Ведь ты же в полчаса пять человек топором убил. Ведь должна же быть на свете справедливость!
– Так! А тут есть, которые не по пяти, а по восьми человек резали, и живут на воле, а не в кандальной, потому что за ними жены пришли. И выходит, стало быть, что я не потому в кандалах сижу, что пять душ загубил, а потому, что я холостой. Вон хоть тот же Кейзер взять, барином живет. А другой, супротив его, половины не сделал, – в кандальной сидит. Потому только, что мастерства не знает. Где же здесь справедливость?
Что тут станешь говорить?
Проследим, однако, дальнейшую карьеру каторжника.
Отсидев свою «испытуемость» в кандальной, докончив свой срок в вольной тюрьме или в вольной команде, каторжанин выходит в поселенцы.
Строит где-нибудь в глухой тайге «дом», в котором и жить-то нельзя, дом «для правов», потому что каждый поселенец, как я уже упоминал, должен заняться «домоустройством», иначе не получит крестьянства. Промаявшись впроголодь пять лет, поселенец перечисляется в «крестьяне из ссыльных» и получает право выезда на материк. Мечта сбылась! Он едет с проклятого острова в Сибирь, которая кажется ему раем.
Там он должен пробыть 12 лет и по истечении их имеет право вернуться на родину.
Таким образом, даже «вечный каторжник», со скидкою по манифестам, со скидками за тяжкие работы, может надеяться, что хоть через 35–37 лет, но он вернется на родину.
К сожалению, таких счастливцев очень немного.
Пожизненной каторги у нас нет.
Пожизненная каторга существует, и вы это ясно прочтете при входе в любую кандальную тюрьму, в списке содержащихся каторжников:
«Такой-то. Срок: 15 лет + 10 лет + 20 лет + 15 лет».
Что за страшные плюсы!
Есть каторжники, которым, в общей сложности, надо отбыть семьдесят, даже более лет.
Этими страшными плюсами для всякого, имеющего глаза, написано на дверях кандальной тюрьмы:
Lasciate ogni speranza voi che intrate…
Откуда же получаются эти «плюсы»? Это все – результаты бегов.
Страшны не те сроки, на которые присылают каторжан, ужас вселяют те сроки, которые они «наживают» себе здесь.
Часто человек, присланный на 6 лет, «наживает» себе 40.
Бежит – ловят, набавляют. Надежды еще меньше; снова бежит – снова ловят, снова надбавка. Надежды уже никакой. Человек бежит, бежит, – «копит» срок. Плюсы растут, растут.
Бывали случаи, что бежали даже из лазарета чуть не умирающие. Сквозь густо сросшиеся ветви кустарника, через непроходимую тайгу, карабкаясь в валежнике, бежал человек – не человек, а полутруп с ужасом в гаснущем взоре.
Из этого краткого очерка, что такое каторга, вы поняли, быть может, отчасти, что заставляет этих людей, бежать, набавлять себе срок, отягчать участь.
Бегут от ужаса…
Кто правит каторгой
Представьте себе такую картину. Кто-нибудь заболел, и нужно прибегнуть к трудной операции.
Созывается консилиум. Иногда выписываются даже знаменитости. Ученые доктора долго совещаются, толкуют, какую сделать операцию, как ее сделать, какие могут быть последствия. И когда все обсудят и решат, берут и уходят, а самую операцию поручают сделать сторожу.
– Но это невозможно!
– Но это на Сахалине так и делается.
Человек совершил преступление. Два ученых юриста, прокурор и защитник, взвешивают каждую мелочь свидетельских показаний, как он совершил преступление, почему, что это за человек. Иногда вызываются даже эксперты-психиатры, которые исследуют не только здоровье подсудимого, но и осведомляются о здоровье всех его родственников по восходящей линии. Если подсудимый признается виновным, – три ученых юриста совещаются, обдумывают: какое к нему применить наказание, в какой мере.
А самое наказание, долженствующее – девиз Сахалина! – «возродить» преступника, самое это «возрождение» поручается целиком надзирателю из отставных солдат или из ссыльнокаторжных.
Это именно так. От надзирателей зависит не только судьба ссыльнокаторжных, но и применение к ним манифестов. Манифесты, сокращающие сроки наказаний, применяются к тем, кто заслуживает это своим добрым поведением. О поведении ссыльнокаторжных судят по штрафным журналам. А в штрафные журналы вписываются наказания, которые налагаются надзирателями и никогда не отменяются смотрителями тюрем.
– Это подорвет престиж надзирателя в глазах каторги. Как же он потом будет с ней управляться?
На Сахалине больше, чем где-либо, помешаны на «престиже» и понимают его к тому же в высшей степени своеобразно.
Обладают ли эти надзиратели, добрая половина которых состоит из бывших каторжников, достаточными нравственными качествами, чтобы им можно было всецело вверять судьбу людей?
При мне, на моих глазах, никто из надзирателей не брал с арестантов взятки. То есть я никогда не видал, чтобы арестант передавал надзирателю из рук в руки деньги. Но, посещая надзирателей, я часто спрашивал:
– Откуда у вас вот это? Откуда вот то-то?
И часто получал ответ:
– В тюрьме подарили… Арестант у нас есть такой, он сработал.
Несколько раз, в то время, как я в тюрьме присутствовал при арестантской игре в карты, входили надзиратели.
– Ну, чего собрались? Разойдитесь! – говорил надзиратель, проходя между нарами и решительно не замечая разбросанных в изобилии карт.
– Пошел на свое место! – говорил он банкомету, тюремному шулеру, и не видел, что тот тасует в это время перед его носом колоду карт. Вероятно, не видел, потому что не делал даже замечания.
Когда мне нужно было узнать, кто в такой-то тюрьме майданщик, т. е. торгует водкой и дает для игры карты, я всегда обращался с вопросами к надзирателям, и они указывали мне всегда безошибочно.
Иногда арестанты потихоньку жаловались мне, что такой-то тюремный главарь, арестант из породы иванов, обижает их, вымогает от них последние деньги. И когда я указывал на это надзирателям, я слышал всегда один и тот же ответ:
– Да что же, ваше высокоблагородие, нам с ним делать?
Человек отчаянный, чуть что – сейчас нож в бок. Нешто он остановится? Ну и молчим.
В силу отчасти чувства самосохранения, отчасти по другим побуждениям, эти низко стоящие на нравственном уровне и безграмотные надзиратели являются потатчиками именно для худших элементов каторги: иванов, майданщиков, шулеров – игроков, отцов, – и смело можно сказать, что только благодаря надзирателям эти «господа» каторги имеют возможность держать в такой кабале бедную, загнанную шпанку.
Горный инженер о. Сахалина господин М. постоянно жаловался мне, что у него на Владимирском руднике вечные бунты.
– Хотелось бы хоть один рудник устроить как следует! А вот пойдите же, не дают! Вечные истории.
– Но ведь у вас два рудника, в которых работают каторжане: Владимирский и Александровский. В Александровском бунтов не бывает?
– В Александровском – нет. Бог знает, словно какой-то особенный сорт каторжников. Какая-то прямо тайна.
Тайна, впрочем, обнаружилась очень просто. За несколько дней до моего отъезда с Сахалина господин М. объявил мне при встрече:
– На Владимирском руднике бунт. На этот раз уж совсем настоящий бунт. Не хотят грузить пароход! Я буду требовать для усмирения солдат! Пусть этих негодяев перепорют.
Дело, к счастью, как-то уладилось без порок и усмирения: японский пароход «Яеяма-Мару» был нагружен углем, и я благополучно отплыл на нем с Сахалина. Дорогой сопровождающий груз угля похвастался мне:
– Как скоро нагрузили! А? Пароход зафрахтован у японцев посуточно. Какую я экономию сделал, нагрузив его так скоро!
Похвастаться действительно было чем: пароход был нагружен изумительно быстро.
– Но как же вы это сделали?
– Там человечек один есть, надзиратель, – удивительно ловкий и дельный малый. Я ему дал красненькую, он и заставил каторжан приналечь. И в рабочие и не в рабочие часы грузили. Ведь от него все зависит. Тут на Сахалине все от надзирателей зависит.
Вот где была причина владимирских бунтов.
На том же Владимирском руднике интересен другой надзиратель, Кононбеков, из бывших каторжников. Он кавказец, сослан за убийство в запальчивости, во время ссоры.
– Пустая ссора была! – улыбаясь, говорит красавец Кононбеков. – Да я шибко горачий кровь имею.
На Сахалине он герой: он убил беглого каторжника Пащенко. За Пащенко числилось 32 убийства. Его побег из кандальной тюрьмы, с откованием от тачки, поверг в ужас весь Сахалин. Кононбеков его застрелил, и надо видеть, с каким наслаждением рассказывал Кононбеков, как он убивал. Как горят при этом его глаза.
– Шел вот тут, по горке. Ружье имел. Ходил, нет ли беглых?
Я горкой иду, а внизу шу-шу-шу в кустах. Я приложился – трах!
Только вскрикнуло. Из кустов человек побег. Я думал, промах давал. Бросился в кусты, а там человек корчится. Как попал!
Голову насквозь! А из него кровь, кровь, кровь…
Бежавший из кустов был товарищ Пащенко, Широколобов.
– Как же ты – так и стрелял, без предупреждения? Ни слова не говоря?
– Зачем говорить? Прямо стрелял!
– И ты часто ходишь так?
– Каждый день хожу: нет ли беглых? Беглый – стрелять.
Словно на охоту.
Интересен уголок, в котором живет Кононбеков. Идеальной чистоты кровать. Над кроватью лубочные картины: охота на тигра, лев, раздирающий антилопу, сражение японцев с китайцами. Издали – одни красные пятна. Кровь на картинах так и льет ручьем.
– Покупал?
– Покупал. Самые мои любимые картины.
– О чем там толкует Кононбеков с арестантами? – спросил я как-то надзирателя, берущего по 10 рублей за «скорую нагрузку».
– О чем ему больше разговаривать! Рассказывает небось, как он у себя на Кавказе убил или как Пащенко застрелил. Больше он ни о чем не говорит. Пустой человек! – махнул рукой практичный надзиратель.
У этого Кононбекова какая-то мания к убийству, к крови.
И под руководством таких-то людей должно совершаться нравственное «возрождение» ссыльных!
В их руках судьба каторги.
– Но чего же смотрят господа сахалинские служащие?
Нужно прежде всего знать, из кого на девять десятых состоит контингент этих служащих.
Самое слово «закон» приводит таких господ в исступление прямо невероятное.
– Закон… – упоминает каторжник.
– А?! Ты бунтовать! – топает ногами служащий. Нет ничего удивительного, что на Сахалине нет слова более ругательного, чем слово «гуманный».
Мы беседовали как-то с одним сахалинским землемером об одном из докторов.
– Гуманный человек! – отозвался землемер.
– Вот, вот! – обрадовался я, что нашел единомышленника. – Не правда ли, именно гуманный человек!
– Верно! Гуманный. Гуманничает только. А нешто с каторгой так можно? Вообще не человек, а дрянь!
Мы говорили на разных языках.
Гуманничает! – это слово звучит полупрезрением, полуобвинением в том, что человек «распускает каторгу», и для сахалинского служащего нет обвинения страшнее, как то, что он «гуманничает».
– Откуда они взяли, будто я какой-то гуманный! – оправдываются эти добрые люди.
Бестужев, о котором я рассказывал в «Свободных людях Сахалина», был первым служащим, с которым я столкнулся на Сахалине. Последним из служащих, с которым мне пришлось столкнуться при отъезде с Сахалина, был господин П. Ко мне явилась его жена.
– Похлопочите, чтоб и нас взяли во Владивосток на японском пароходе.
– А вы разве уезжаете?
– Мужа выгнали со службы.
– За что?
– Глупость сделал.
– А именно?
– Над девочкой сделал насилие. Теперь подозревается. О высоте нравственных понятий этих господ можете судить хотя бы по следующему случаю. Одно официальное лицо, посетившее Сахалин, осматривало карцеры Александровской тюрьмы.
– Ты за что наказан? – обратился он к одному из сидевших по темным карцерам.
– За отказ быть палачом.
– Верно? – спросило «лицо» у сопровождавшего его помощника начальника тюрьмы.
– Так точно-с. Верно. Я приказал ему исполнять обязанности палача, а он ослушался, не захотел.
«Лицо», известное и в науке своими просвещенными и гуманными взглядами, конечно, не могло прийти в себя от изумления.
– Как? Вы наказываете человека за то, что он проявил хорошие наклонности? Не захотел быть палачом? Да понимаете ли вы, что вы делаете?!
Понимают ли они, что они делают!
Продрогший, иззябший, я однажды поздно вечером вернулся к себе домой в посту Корсаковском.
– Рюмку водки бы! Погреться.
– Водки нет! – отвечала моя квартирная хозяйка, ссыль-нокаторжная. – Но можно купить.
– Где же теперь достанешь? Фонд заперт.
– А можно достать у… Она назвала фамилию одного из служащих.
– Да неужто он торгует водкой?
– Не он, а его лакей Маметка, из каторжан. Да это все равно: Маметка от него торгует.
На Сахалине ни одному слову не следует верить. Во всем нужно убедиться своими глазами. Я надел арестантский халат и шапку и вместе с поселенцем, работником моих хозяев, отправился за водкой.
Мы подошли к дому служащего. Поселенец постучал в окно условным образом. Дверь отворилась, и показался татарин Маметка.
– Чего нужно?
– Водочки бы.
– А это кто? – спросил Маметка, разглядев мою фигуру.
– Товарищ мой.
Маметка, рассмотрев в темноте длинный арестантский халат и шапку блином, успокоился.
– Сейчас!
Он вынес бутылку водки.
– Два целковых.
Водка оказалась отвратительной, разбавленным водой спиртом.
На следующий день я сделал визит этому служащему, очень много расспрашивал его о житье-бытье, попросил показать квартиру и в спальне увидел целую батарею таких же точно бутылок, как я купил накануне!
– Однако, вы живете с запасцем! – улыбнулся я.
– Да, знаете! Приятели иногда заходят. Держу на всякий случай.
Через год этот служащий был уволен со службы, и именно за продажу водки поселенцам и каторге: при проверке книг фонда – а, кроме лавки казенного колонизационного фонда, спирта на Сахалине купить негде – оказалось, что этот служащий забирает спирту столько, что на этом спирту можно бы вскипятить целую реку!
– Конечно, сахалинские мастерские – это одна «затея»! Но знаете, при желании и они недурно работать могут. Видели коляску у Х.? Обратите внимание на обстановку у У. Все – работа сахалинских мастерских! – говорили мне еще во Владивостоке.
– Да-с! Было времечко, да сплыло! – со вздохом мне говорил по этому случаю смотритель одной из тюрем. – Работали у нас в мастерских, и иногда хорошо работали: среди них всякий народ попадается. А теперь фактический контроль устроили. Контролеров понаслали – все учитывают: сколько рабочих часов ушло, сколько материалу. Только на казну мастерские и работают. Ну, конечно, себе благоприятелям тоже в мастерских все велишь делать; но чтоб на продажу изготовлять – нет, уж шабаш! Трудно.
– Ну, хорошо. Казна их обувала, одевала, кормила мастеров, которые на вас работали. А сами-то они от вас что-нибудь получали?
– Они-то? За что? Разве ему не все равно, на кого свои работы отбывать: на казну или на меня?
Ко всему этому следует прибавить еще одно. На Сахалине очень распространен обычай брать женскую прислугу.
Из 260 ссыльнокаторжных женщин в Александровском округе в 1894 году ровно половина числилась одинокими, в услужении у господ служащих.
Принимая во внимание все это, вы поймете, что господа служащие не могут пользоваться в глазах каторги именно тем «престижем», о котором господа служащие так хлопочут.
– Ужасные черти! – жаловался мне на каторгу помощник смотрителя Рыковской тюрьмы. – Никакого уважения! Можете себе представить, иначе как на «ты» со мной и не разговаривают! Да вы сами слышали!
Первое посещение всякой тюрьмы, которое я делал, из любезности, со смотрителем, всегда оставляет ужасное впечатление.
Каторжане тут же, при нем, в глаза, начинают докладывать вам обо всех его штуках и проделках. Вы напрасно протестуете:
– Да я не начальство! Это меня не касается!
– Нет, вы, ваше высокоблагородие, послушайте!
И они отделывают человека, от которого зависит вся их жизнь, вся их судьба, не стесняясь в выражениях, ругательски его ругая.
Смотритель, бедняга, только переминается с ноги на ногу, словно стоит на горячих угольях.
– Пойдемте-с!
После он, может быть, с этими обличителями и разочтется, но теперь «принять меры для поддержания престижа» при постороннем человеке стесняется. А возразить?
Что он возразит, когда все, что говорит каторжанин, я только что слышал в доме одного из его сослуживцев и услышу во всяком доме, куда пойду!
Если эта служащая сахалинская мелкота презирает и ненавидит каторгу, то и каторга ее презирает и ненавидит.







