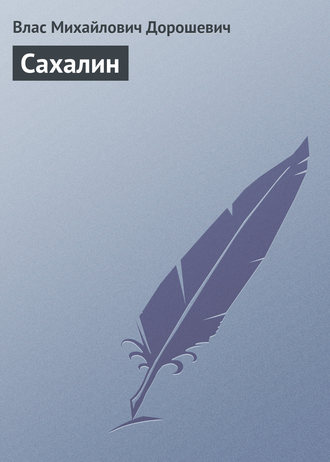
Влас Дорошевич
Сахалин
Баронесса говорит, что она:
– Отдыхала душой в этих беседах! Вдруг встретить здесь, на Сахалине, молодого человека, воспитанного, милого, – вы только подумайте!
А он говорил:
– Знаете, когда я говорю с вами, мне кажется, что ни каторги, ни бродяжничества нет, что мы с вами сидим где-нибудь в Петербурге…
Как вдруг однажды Туманов явился страшно расстроенный, вне себя. Ни за что ни про что, злой после вчерашнего проигрыша в карты, чиновник Г. выругал его «подлецом и мерзавцем».
– Я этого так оставить не могу! – говорил, страшно волнуясь, Туманов. – Меня могут выдрать, потому что я бродяга!
Но мерзавцем и подлецом меня называть не смеют! Я никогда подлецом и мерзавцем не был! Я потому и в каторге, что я не подлец и не мерзавец! Этого я оставить не могу!
– Таким я его никогда не видала! – говорит баронесса.
Молодой человек, вспыльчивый, горячий, решивший «так не оставить» начальнику оскорбление… на Сахалине… У баронессы «душа замерла»:
– Я уж и так из-за одного поплатилась. Довольно с меня!
Она сказала Туманову:
– Вы что-то задумали, оставьте меня. Уходите от меня, сейчас же уходите. Я не хочу ничего знать, не хочу погибать…
– Так и вы меня гоните? И вы?
– Уходите от меня, если вы честный, порядочный человек…
– Хорошо же…
Туманов ушел, а вечером все Рыковское было поднято на ноги: бродяга Туманов покушался на жизнь чиновника Г.
В то время участь Туманова еще была не решена, все господа служащие единогласно требовали «примерного наказания» Туманова, т. е. повешения, – для «острастки распущенной каторги», – и баронесса Геймбрук просила, молила, нельзя ли что-нибудь сделать для Туманова.
– Я себя виню, себя. Может быть, это мои слова на него так подействовали. Действительно, в такую минуту почувствовать себя совсем одним! Но посудите, что ж я могла сделать. Человек собирается Бог знает что сделать, как могла я с ним говорить? Ведь и я погибну! Да что я! Если бы я одна была, я бы о себе, может быть, и не подумала. Но мой ребенок, с ним что будет? Им разве я могу рисковать?
Этот ребенок от нелюбимого, отвратительного, презираемого человека – все, что есть в жизни у баронессы.
Она с дрожью отвращения вспоминает о беременности от фельдшера и безумно любит ребенка.
Пятилетнего, слабого, болезненного, золотушного мальчика, ради которого она работает день-деньской не покладая рук, месит тесто, жарится у печки, сажая хлебы, сидит согнувшись, шьет за гроши платья женам чиновников, дает уроки французского языка детям священника.
Любит, и без слез видеть не может своего ребенка.
– Они и его «бароном» прозвали. Издеваются. От чиновничьих детей его гонят, он должен играть со шпанкой…
Любит полной ужаса любовью:
– Ведь это будущий убийца растет! – с ужасом говорит она. – Вы только подумайте: наследственность-то какая. Себя я преступной натурой, конечно, не считаю. Какая я преступница! Но вы посмотрите на отца. Убийца, полусумасшедший, развратник. Ведь, вы знаете, он тут со своим развратом в такую недавно историю влез, мне же пришлось его откупить: двадцать рублей последних дала, чтобы в тюрьму не сажали. Дала, потому что ребенок его все-таки папой при встречах зовет, так чтобы ребенка не дразнили: «тятька в тюрьме»… И потом, что может выйти из него здесь, на Сахалине! Что перед глазами? Ежедневные убийства, поголовный разврат, плети, каторга. Вот вы на игры их посмотрите, играют в «палачи», в «повешенье», палач у них – герой, бессрочный каторжник – герой. Вы спросите у десятилетнего мальчика, что такое тюрьма? «Место, где кормят!» Где лучше, в тюрьме или на воле? «Знамо в тюрьме, на поселении с голода подохнешь». Ведь все это мальчик с детства в себя впитывает. Тюрьма для него что-то обыденное, неизбежное, заурядное, карьера. Что из него выйдет? То же, что и из других! Убийца. Ведь я его на каторгу ращу, на каторгу! Убийцу будущего!.. Но пока, пока он маленький, в нем еще ни чего этого нету, он ребенок, такой же, как и все…
И она при мне, в каком-то истерическом припадке, со слезами целовала своего мальчика, который явился домой плачущий, его только что отогнали от детей начальника округа и обругали «бароном».
– Мама, не вели им ругаться «бароном»!
«Не вели»!
Уезжая из Рыковского, в свое последнее свидание с баронессой, когда она провожала меня до дверей, я решился спросить у нее:
– Ну, а тот… с которым вы судились… об нем вы не имеете известий?
– Он в Сибири, кончил, как и я, свой срок поселенцем. Очень бедствовал, писал, я послала ему денег, так, гроши, какие были. Очень круто бедняге пришлась каторга. Недавно еще получила письмо. Болен, жалуется, просит послать немножко денег…
– И вы?
– Пошлю.
Я поцеловал ее руку и пошел.
– А? Откуда? От приятельницы, от баронессы? – встретил меня по дороге смотритель тюрьмы. – До мужчин уж больно охотница, подлая баба! С фельдшером путалась; Туманов, я знаю, к ней лясы точить шлялся. Я ведь все знаю, хе-хе! Она тут за фельдшера двадцать целковых, последних, чай, заплатила, в беду мил-дружок попался. Она и Туманову в тюрьму потихоньку белый хлеб посылала. Да вы что думаете? Она и к прежнему своему приятелю все время деньги посылала. Я с почты знаю! Все они у нее на иждивении. Любительница мужчин, подлая! Трое у нее было! Распутная! Через то и в каторгу пошла, что распутная, через любовника!..
Ландсберг
I
25 лет тому назад в Петербурге произошла трагедия, имевшая огромное значение для острова Сахалина. Блестящий гвардейский офицер-сапер Ландсберг, накануне женитьбы на богатой и знатной невесте, накануне большой и блестящей карьеры, зарезал с целью грабежа ростовщика Власова и его служанку.
Это событие произвело неописуемую сенсацию, и имя Ландсберга прогремело на всю Россию. Еще больший ужас этому убийству придавало одно трагическое gui pro quo.
Ландсберг был карьеристом. Он был человеком очень небогатым, тянулся изо всех сил и служил в гвардии, чтобы быть на виду и сделать карьеру. Старый чиновник, занимавшийся ростовщичеством, Власов, относился с большой симпатией к небогатому офицеру, старавшемуся «выйти на дорогу», и ссужал его деньгами. У Власова было много векселей Ландсберга. Когда карьера была почти уж сделана и Ландсберг был объявлен женихом богатой и знатной невесты, Власов начал грозить ему:
– Вот я тебе к свадьбе сюрприз устрою. Такой сюрприз, какого и не ожидаешь.
Ландсберг испугался, что Власов предъявит ко взысканию его векселя, выставит его запутавшимся бедняком, желающим жениться для поправки обстоятельств, сорвет всю карьеру, и решил достать векселя у Власова. Он явился к Власову, услав старушку-служанку за квасом, зарезал бритвой старого ростовщика, затем, когда служанка вернулась, покончил и с ней и похитил свои векселя, лежавшие отдельной, приготовленной уж пачечкой.
После среди бумаг покойного нашли заготовленное им письмо к Ландсбергу. В этом письме Власов желал всякого счастья своему протеже и в виде подарка на свадьбу посылал «прилагаемые при сем» все векселя.
Это и был «сюрприз», которым с улыбкой «грозил» старичок. Кроме того, в духовном завещании, составленном на всякий случай, Власов завещал все свое состояние… Ландсбергу.
Весь этот ужас произошел потому, что Ландсберг не понял Власова, по старческой привычке любившего выражаться несколько иносказательно:
– Хе-хе!.. Сюрпризец.
Из блестящего офицера с огромной карьерой впереди Ландсберг превратился в каторжника с бритой головой и долгими годами тюрьмы в перспективе.
Когда Ландсберга арестовали, его предупреждали:
– В комнате, где вы сейчас останетесь один, на столе лежит револьвер. Он заряжен… Того… Будьте поосторожнее.
Ландсберг холодно ответил:
– Не беспокойтесь. Я не застрелюсь.
И пошел в каторгу.
Тогда сахалинская колония еще только начиналась. Кучка забайкальцев, невежественных, беспомощных, ютилась в посту Дуэ, единственном тогда поселении на Сахалине, в маленьком ущелье, в трещине между скалами, быть может, самой скверной дыре, какая только существует на земном шаре, и с ужасом смотрели на непроходимую тайгу, которую им поручено было превратить в «цветущую колонию». Эта кучка забайкальцев стояла перед Сахалином, как ребенок перед ощетинившимся медведем. Как подступиться? Для колонии прежде всего нужны дороги, а эти люди, родившиеся и выросшие в Забайкалье, никогда в глаза не видали даже шоссейных дорог и решительно не знали, как «все это делается».
Каждый их шаг терпел немедленно же крушение. Они «своим умом» строили пристань, пристань сносил первый же маленький шторм. Они «своим умом» начали рыть тоннель сквозь гору Жонкьер, без всяких приспособлений, без всяких знаний, кроме одного, – что тоннель роется обыкновенно одновременно с обеих сторон, – и когда две роющие партии встретятся в горе, тоннель, значит, прорыт. Люди слепли, раздувая фитили, людей калечило при неумелых взрывах, но «обе роющие партии» в горе все не встречались… Они… разошлись в разные стороны! Ступив шаг в тайгу, господа забайкальцы сейчас же завязали и с ужасом должны были отступать назад. Они не знали даже, что дороги нужно окапывать канавами. Не окопанные канавами, таежные «дороги» заплывали, превращались в болото.
В эту-то критическую минуту каторжный пароход и привез на Сахалин сапера.
Все, что сделано на Сахалине дельного и путного в смысле дорог, устройства поселений, сделано Ландсбергом. И Бог весть, какая бы судьба постигла сахалинскую колонию, если бы в Петербурге не разыгралось трагического qui pro quo с «угрозой» ростовщика.
Если сейчас смотритель тюрьмы, взобравшись на гору, хвастливо вынимает из кармана маленький барометр и с видом ученого начинает «по давлению воздуха определять высоту горы», это сведение занес на Сахалин Ландсберг. Кругом все его ученики. Все сведения, которые необходимы были для борьбы с непроходимой тайгой, занес сюда он. Ученики иногда не слушались своего «учителя из ссыльнокаторжных», делали «по-своему» и немедленно же завязали. Памятниками этого «поступанья по-своему» остались покинутые, утонувшие в болоте поселья, просеки, брошенные за ненадобностью, дороги, по которым надо восемь верст ехать три с половиной часа.
Все, что делалось «по-своему», приходилось бросать и возвращаться к планам Ландсберга. Те работы, которые предпринимал на Сахалине Ландсберг, показывают в нем ум недюжинный, знания большие и человека талантливого.
Ландсберг на Сахалине с первого же момента обратил на себя особое внимание. Даже туда проникла весть о «знаменитом процессе», и забайкальцы не могли не заинтересоваться «вчерашним блестящим петербургским офицером, вращавшимся в высшем обществе».
Светский, образованный, на редкость умный, еще более ловкий карьерист по натуре, Ландсберг сразу головой выделился среди всего окружающего.
– Знаете, – рассказывают моряки, в те времена плававшие на Сахалин, – подходишь, бывало, к Дуэ. На пристани, натурально, стоят все тамошние служащие. И сразу, с первого взгляда, самый порядочный изо всех – Ландсберг. Видна птица по полету.
Но самое главное – это, конечно, то, что он был сапер. Он построил им пристань, которая не рушилась, кое-как, но все-таки поправил злосчастный тоннель, и они имели возможность отправить в Петербург телеграмму об открытии кривого тоннеля, по которому никто не ездит, в котором только беглым удобно сидеть, который никому не нужен.
– Тоннель прорыт.
Дорога нужна – Ландсберг показывал, как это сделать. Ландсберг сразу стал на Сахалине «барином» и получил от каторги эту кличку. Он распоряжался работами, командовал партиями рабочих, фактически был начальником, жил не в тюрьме, и ему говорили «вы» – почесть на Сахалине редкая.
Но это положение, которое Ландсберг сразу занял, было и трудным положением. Безграмотные всегда ненавидели грамотных. И сахалинских служащих глубоко возмущало «привилегированное положение ссыльнокаторжного».
– Словно ровня.
Не знаю, какие наказания приходилось переносить Ландсбергу, об этом с ним разговор поднимать было, конечно, неловко, но ему приходилось переживать трудные минуты. Вот один из случаев. Сахалинский служащий К. особенно возмущался «привилегированностью» Ландсберга.
– Я ему покажу «привилегированность»! – это превратилось в пункт помешательства К.
Однажды он застал Ландсберга в кабинете одного из служащих. Сидели и разговаривали. Этого только К. и нужно было:
– Что? Как? Сидеть в присутствии начальства? Каторжнику? Заковать в кандалы! Посадить на неделю в карцер!
И Ландсберг в кандалах высидел неделю на хлебе и на воде, в темном карцере, а К. гордился:
– Каково я самому Ландсбергу задал!
С другой стороны, и каторгу возмущала «несправедливость».
– За то же сослан, что и мы. Может, еще хуже!
Каторга ненавидела «барина», «белоручку», «подлипалу», самозваное начальство, и Ландсбергу надо было держаться очень и очень настороже. При малейшем подозрении, что он «держит руку начальства», каторга его бы убила.
Тут уж ему помогла, быть может, светская ловкость. Он умел поддерживать отношения и с нашими, и с вашими. И начальство было довольно, и для каторги он оставался «товарищем», подчиняющимся ее законам. Ловкость, хитрость и изворотливость все время были в ходу и пускались в дело все долгое время каторги. На Сахалине известен, например, случай, когда Ландсберг спас жизнь одному из служащих. Каторга ненавидела этого служащего, решила его убить на дорожных работах, и Ландсбергу было приказано привести его в засаду.
Привести – рисковать головой. Ослушаться каторги – тоже рисковать головой.
Ландсберг придумал хитрую механику. Он повез служащего в засаду, но по дороге, еще далеко от засады, экипаж «вдруг» сломался, и Ландсберг убедил начальство:
– Пешком все равно на работы опоздаем. Вернемся лучше обратно в пост.
И служащий был спасен, и приказание каторги не нарушено: вез человека, да не довез, не по своей воле. А на следующий день Ландсберг раскассировал зачинщиков по разным работам – разъединил, и о засаде не могло быть и речи.
Кончив каторгу и выйдя на поселение, Ландсберг завел лавочку, в которой продается все: дуги и гармоники, ситцы и деготь, кнутовища и конфеты.
Это какое-то уменье найтись всегда и во всех положениях. Превратившись в мелкого лавочника, блестящий гвардейский офицер сразу оказался великолепным мелким лавочником. Он повел дело отлично. Его лавочка росла и росла. Он заводил связи с торговыми фирмами.
И когда я поехал к Карлу Христофоровичу Ландсбергу, на мачте около его хорошенького, чистенького домика развевался флаг пароходного общества: он представитель крупного страхового общества, у него контора транспортного общества, он агент пароходной компании.
Лавочка у него осталась – целый магазин! Но в ней торгуют приказчики, а он только наблюдает хозяйским оком.
За сигарой он беседовал со мной о компании каменноугольных копей и о компании для эксплуатации рыбных промыслов – двух крупных компаниях, которые он затевает.
Ландсберг кончил поселенчество и крестьянство. Теперь он мещанин города Владивостока, ездит от времени до времени за границу, в Японию, – мог бы, если бы захотел, вернуться в Россию, но живет на Сахалине, в комфортабельном домике, из окон которого открывается вид на пали кандальной тюрьмы…
Ландсберг женат на очень милой женщине, акушерке, приехавшей служить на Сахалин.
И трудно отыскать более нежную пару. Бог весть, нашел бы он в России такое же семейное счастье, какое отыскал на Сахалине.
Так странно смотреть на этих двух людей.
Словно крепко охватившие друг друга, спасшиеся после кораблекрушения.
II
В кают-компании парохода «Ярославль» было шумно и накурено. Пароход пришел в ночь, и теперь, ранним утром, кают-компания была полна служащими, явившимися принимать привезенных арестантов. Целая коллекция гоголевских типов! Капитан по очереди знакомил меня со всеми. И когда очередь дошла до сидевшего за столом, что-то очень весело и оживленно рассказывавшего человека, сказал:
– Карл Христофорович Ландсберг.
В поданной мне руке я почувствовал согнутый мизинец. И это прикосновение подействовало на меня, как электрический ток.
Этот мизинец был одной из улик против Ландсберга. Он порезал его, когда резал Власова.
– Я очень рад с вами познакомиться. Губернатор говорил мне, что вы прислали ему телеграмму.
Он говорил очень приятным голосом, в котором звучала любезность.
Высокий, красивый и представительный господин, в усах, с сединой в волосах, но моложавый. Ландсбергу теперь, вероятно, под пятьдесят, но на вид гораздо меньше. Он сохранил моложавое лицо и почти юношески стройную фигуру. Он – сама предупредительность. Быть может, он даже слишком предупредителен, – в нем есть что-то заискивающее; он никогда не говорит иначе, как с любезнейшей улыбкой.
Но когда, пожимая друг другу руки, мы встретились глазами, мне показалось, что я словно нечаянно дотронулся до холодной стали.
Смеется он или рассказывает что-нибудь для него тяжелое, оживлено у него лицо или нет, – у него играет только одно лицо. Серые, светлые глаза остаются одними и теми же, холодными, спокойными, стальными. И вы никак не отделаетесь от мысли, что у Ландсберга такими же холодными и спокойными глаза оставались всегда.
– Тяжелые глаза! – замечали и служащие всякий раз, как разговор заходил о Ландсберге.
– Вы на глаза-то посмотрите! – со злобой говорили не любящие Ландсберга каторжане и поселенцы. – Смотрит на тебя, и словно ты для него не человек.
Пароход привез Ландсбергу для лавочки конфеты и печенье, и Ландсберг, обмениваясь любезными шуточками с господами служащими, очень ловко на пристани укладывал этот воздушный товар, словно подарки вез на именины. Такое странное впечатление производил этот торговец с красивыми, элегантными движениями.
Попрощавшись со всеми, он сел в собственный экипаж и приказал кучеру:
– Пошел!
– Куда прикажете, барин? – спросил кучер из поселенцев.
– Домой!
Ландсберг еще раз с любезнейшей улыбкой раскланялся со всеми, крикнул начальнику округа:
– Так я вас жду сегодня вечерком. Новые ноты с пароходом пришли. Жена нам на пианино сыграет.
И экипаж поскакал.
– А кучер-то у него, как и он, за убийство с целью грабежа прислан! – сказал мне начальник округа. – У нас, батенька, тут много удивительных вещей увидите!
Ландсберг сохранил свой великолепный французский язык и давится, как все сахалинцы, на слове «каторга».
– Когда я был еще… рабочим! – говорит он, слегка краснеет и опускает глаза.
Мы с ним никогда не называли Сахалина по имени, а говорили:
– Этот остров.
Ландсберг через 25 лет тюрьмы и каторги пронес невредимыми свои изящные «гостиные» манеры, но есть нечто поселенческое в той торопливости, с которой он сдергивает с головы шляпу, если неожиданно слышит:
– Здравствуйте!
Это особая манера снимать шляпу, приобретаемая только в каторге.
И по этой манере вы видите, что нелегко досталась Ландсбергу каторга. Бывали-таки, значит, столкновения.
Этому человеку, из окон которого «открывается вид» на пали каторжной тюрьмы, тяжело всякое воспоминание о своем «рабочем» времени.
Когда он касается этого времени, он волнуется, тяжело дышит и на лице его написана злость.
А когда он говорит о каторжанах, вы чувствуете в его тоне такое презрение, такую ненависть. Он говорит о них, словно о скоте.
– С этими негодяями не так следует обращаться. Их распустили теперь. Гуманничают.
И каторга, в свою очередь, презирает и ненавидит Ландсберга и выдумывает на его счет всякие страшные и гнусные легенды.
Служащие водят с ним знакомство, он один из интереснейших, богатейших, а благодаря добрым знакомствам – влиятельнейших людей на Сахалине; но в разговорах о Ландсберге они возмущаются:
– Пусть так! Пусть Ландсберг действительно единственный человек, которого Сахалин возродил к честной трудовой жизни.
Но ведь нельзя же все-таки так! Такое уж спокойствие. Чувствует себя великолепно – словно не он, а другой кто-то сделал!
Так ли это? Один раз мне показалось, что зазвучало «нечто» в словах этого «человека, не помнящего прошлого».
Все стены уютной и комфортабельной гостиной Ландсберга увешаны портретами его детей, умерших от дифтерита. Об них и шла речь.
– И ведь никогда здесь, на этом острове, дифтерита не было… Вольноследующие занесли. Дети заболели и все умерли. Все. Словно наказание.
И, сказав это слово, Ландсберг остановился, лицо его стало багряным, он наклонил голову, и несколько минут длилось молчание.
Это были самые тяжелые минуты, которые мне приходилось провести в жизни.
– Что же это я забыл? Идем чай пить! – овладел собой и «весело» сказал Ландсберг, и мы пошли в столовую, где лакей из поселенцев, во фраке и перчатках, подавал нам чай.
Это был один-единственный раз, когда «нечто» словно поднялось со дна души. А часто Ландсберг ставит собеседника прямо в неловкое положение. Это когда он говорит о «распущенности»… рабочих.
– Здесь, на этом острове, Бог знает что делается. Убийства с целью грабежа каждый день. Убийства с целью грабежа! И с такими господами еще церемонничают.
Иногда Ландсберг приводит действительно в недоумение.
– Не собираетесь в Россию? – спросил я Ландсберга.
– Хочется съездить, матушка-старушка у меня есть. Хочет меня перед смертью еще раз повидать. А совсем переезжать – нет. Тут займусь еще. Должен же я с этого острова что-нибудь взять. Недаром же я здесь столько лет пробыл.
Действительно, словно человек по делам сюда приехал. А «сделал» не он, а кто-то другой.
– Вот на что следует обратить внимание! – говорил мне в другой раз Ландсберг, и таким взволнованным я его никогда не видал. – Вот на что. На пожизненность наказания. Наказывайте человека как хотите, но когда-нибудь конец этому должен же быть. Оттерпел человек все, что ему приходится, и покончите с этим, верните все, что он имел. Не лишайте человека на всю жизнь всех прав. Неужели взрослый, пожилой мужчина должен терпеть за то, что сделал когда-то мальчишка?
И в его тоне слышалось такое презрение к «сделавшему» когда-то «мальчишке».
Я смотрел на страшно взволнованного Ландсберга и думал: вот, значит, кто этот «другой», который «сделал».
Таков этот «знаменитый» человек.
Не случись 25 лет тому назад трагического qui pro quo, – кто знает, чем был бы теперь Карл Христофорович Ландсберг.
Если человек даже на Сахалине – и то сумел «выйти в люди».







