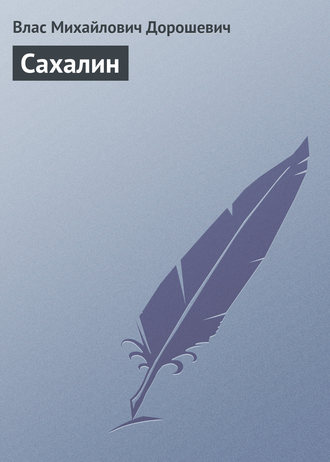
Влас Дорошевич
Сахалин
Уроженцы острова Сахалин
Одно лицо, посетив пост Корсаковский, на юге Сахалина, захотело непременно увидеть уроженца острова Сахалина.
Ему привели двадцатилетнего парня, и «лицо» торжественно, всенародно расцеловало этого «уроженца».
Я не знаю, что именно привело его в такой восторг.
Он целовал, я полагаю, не этого несчастного парня, – он целовал еще более несчастную идею о «сахалинской колонии».
Перед ним было живое олицетворение этой идеи – свободный житель Сахалина, не привезенный сюда, а здесь родившийся, здесь выросший.
Я видел много этих «живых воплощений идеи колонизации».
Я видел уроженцев острова Сахалин на свободе, видел их в подследственных карцерах, видел в тюрьмах, отбывающими наказание за совершенные преступления, – и не скажу, чтобы они приводили меня в особый восторг.
Я рассказывал уже, как отыскивал палача Комлева, закончившего уже свою деятельность, числящегося в богадельщиках и пришедшего в пост Александровский «на заработок», предвидевши казнь.
– А вон, ваше высокоблагородие, – сказали мне, – изволите видеть на конце улицы махонькую избушку. Туда и отправляйтесь. Он там у польки нанялся детей нянчить. Вешать да за детьми ходить – больше ни на какую работу он, старый пес, и не способен!
В маленькой избушке возилась около печки рослая, здоровая баба! По углам пищали трое ребятишек.
– Посидите тут. Комлев с самым махоньким в фонд (казенная лавка) пошел. Сейчас будет.
Полька, крестьянка Гродненской губернии, отбывает еще каторгу.
Она пришла сюда – бабы особенно не любят сознаваться в преступлении – по подозрению в убийстве мужа.
– Потому и подозрение упало, что меня за него силком замуж выдали, а за мной другой прихлестывал. Ну, на нас и подумали, что мы пришили.
В каторге она выучилась говорить – не на русском, а на каторжном языке.
– Меня сюда послали, а с которым я была слюбившись, слышно, в Сибири. Вот и живу.
– А дети чьи? Из России привезла?
– Зачем из России? Дети здешние. Эти двое, старшенькие, от первого сожителя. Поселенец он был, потом крестьянство получил, на материк ушел. А меньшенький, которого Комлев нянчит, – теперешнего сожителя. Кондитер он. Через месяц ему срок поселенчества кончается, крестьянство получит, тоже на материк уйдет.
– Ну, а вот этот от кого?
– Этот? А кто же его знает!
– Ну, а когда кондитер твой на материк уйдет, тогда ты что же с детьми-то делать будешь?
– А другого сожителя дадут.
Так «отбывает каторгу» эта женщина, когда-то не вынесшая жизни с нелюбимым мужем и теперь переходящая от сожителя к сожителю с тупым, апатичным видом.
В это время в избушку вошел Комлев.
На руках, которые привыкли драть и вешать, он бережно нес годовалого ребенка.
Я отложил беседу с ним до другого раза.
Палач с ребенком на руках…
– Зайди ко мне завтра… Только без ребенка!
Что будет потом с этими детьми, которые родятся от сожителей, по окончании поселенчества уезжающих на материк, которые родятся «кто его знает от кого» и растут здесь на руках палача?
Знаменитость поста Корсаковского и его «прелестница» – молодая Жакоминиха.
Отец и мать Жакоминихи были ссыльнокаторжные. Она родилась на Сахалине.
Она ничего другого не видала, кроме Сахалина. Говорит на том же языке, на котором говорят в кандальных тюрьмах. И когда ей говорят, что есть другие страны, вовсе не похожие на Сахалин, она только с недоумением отвечает:
– Да ведь и там людей пришивают из-за денег!
Ее очень интересует вопрос:
– Правда, что в России не нужно снимать шапок перед чиновниками?
И это кажется ей очень странным.
Она знает только два сорта людей: чиновников и шпанку.
У нее двое детей, которых она очень любит и на которых тратит все, что добывает.
Детей она одевает как «чиновничьих детей», – для себя ждет каторги как чего-то самого обыденного.
Ведь в каторгу приговорят!
– Что ж! Отдадут в сожительницы. Меня любой поселенец и с детьми возьмет: я – баба прибыльная.
Она говорит это спокойно, деловым тоном.
Жакоминиха была выдана замуж тоже за сына ссыльнокаторжных родителей.
Семья Жакомини давно была прислана на Сахалин из Николаева, отбыла каторгу, поселенчество, разжилась, имеет большую торговлю. Молодой Жакомини жил с женой в селении Владимировке, держал лавку, охотился на соболей. Жили, по-сахалински, очень зажиточно. Но молодой бабе приглянулся поселенец. «Парень-ухват», отчаянный, из иванов, как зовутся удальцы каторги. Он кончил срок поселенчества, собрался на материк и об отъезде сказал Жакоминихе только накануне.
– А меня возьмешь с собой?
– Взял бы, если бы у тебя были деньжата.
В тот же день Жакоминиха подсыпала мужу стрихнина. Стрихнином травят соболей, и он есть в доме каждого охотника.
Преступление было совершено изумительно откровенно. Жакоминиха поднесла мужу отраву в то время, как в соседней комнате работники дожидались их к обеду.
Когда Жакомини грохнулся на пол, вбежали рабочие и тут же около него подняли «поличное» – рюмку с остатками порошка.
– Сам отравился! – сразу объявила Жакоминиха.
И первое, что сделала, сейчас же начала вынимать из сундука деньги.
Она была страшно изумлена, когда ее притянули к следствию, и объясняет это только интригой со стороны стариков Жакомини.
– Как же к следствию? По какому полному праву на материк не пускают? Нешто есть свидетели, что я ему отраву подносила?
Это, как я уже говорил, глубочайшая уверенность каторги, что, если только нет свидетелей-очевидцев, стоит «судиться не в сознании», и никто вас обвинить не имеет права. А если и обвинят, то неправильно, не по закону.
– Должны оставить в подозрении, а не осуждать!
Состоя под следствием, Жакоминиха совершила новое преступление – опять «без свидетелей».
Однажды могила Жакомини была найдена разрытой. В крышке гроба было прорублено отверстие.
Собравшиеся «сахалинцы» моментально узнали, чьих рук дело:
– Жакоминиха! Это уж всегда так делается! Дело первое!
Жакоминихе начал часто сниться ее покойный муж. А если начинает мерещится убитый, надо разрыть могилу и посмотреть, не перевернулся ли он в гробу. Если перевернулся, надо положить опять как следует, и убитый перестанет являться и мучить.
– Да почему же непременно это сделала Жакоминиха?
– Помилуйте, да она с малолетства это средство знает. С детства между убийцев! – совершенно резонно отвечают служащие на Сахалине.
– Ну и баба! – говорю как-то поселенцу.
– Да ведь оно, ваше высокоблагородие, может, по-вашему, как иначе выходит. А по-нашему, по-корсаковскому, завсегда случиться может. Потому здесь в каждом доме корешок борца имеется…
Борец – ядовитое растение, растущее на Южном Сахалине.
– Каждый держит!
– Зачем же?
– Случаем – для себя, коли невтерпеж будет. Случаем – для кого другого. Только что она не борцом, а трихнином отравила. Только и всего. А то бывает. Потому Сакалин.
Виктор Негель, молодой человек двадцати лет, подследственный арестант, содержавшийся в карцере Александровской кандальной тюрьмы, пожелал меня видеть по какому-то делу.
– Вы с Негелем остерегайтесь оставаться наедине! – предостерегал меня начальник тюрьмы.
Для моих бесед с арестантами предоставлялась тюремная канцелярия в те часы, когда в ней не было занятий. Арестант входил один, без конвойных. Конвойные оставались ждать на дворе.
– Цапнет он вас чем-нибудь, выпрыгнет в окно на улицу и даст стрекача: там всегда толпятся поселенцы, дадут возможность бежать. А ему больше ничего и не остается, как бежать.
Это, батюшка мой, человек, который в своей жизни еще дел натворит!
Негель действительно не внушал симпатии. В канцелярию вошел юноша небольшого роста, плотный, коренастый. Злые раскосые глаза. Он был очень раздражен долгим сидением в карцере. Необыкновенно ясно выраженная асимметрия лица, узенький низкий лоб, короткие густые мелко вьющиеся волосы, жесткие, как щетина.
Наша беседа с ним длилась часа три, и, когда беспокоившийся начальник тюрьмы зашел в канцелярию посмотреть, не случилось ли чего, он остолбенел от изумления. Картина была престранная!
Негель ревел как дитя. Я утешал его, отпаивал водой и, совершенно растерявшись, гладил по голове, как маленького ребенка.
– Что вы сделали Негелю?! – только и нашелся спросить начальник тюрьмы.
Передавая свою просьбу, Негель рассказал всю свою жизнь. А она действительно так же ужасна, как отвратительно его преступление.
У него убили мать. Через десять месяцев после этого он сам совершил убийство.
Убил жену ссыльного М. Он был вхож как свой в эту семью. Негель зашел к ним, когда самого М. не было дома, а жена хлопотала по хозяйству.
– Где Иван Иваныч? – спросил Негель.
– А тебе какое дело! – будто бы ответила ему резко М.
Негель схватил железную кочергу и начал ею бить несчастную женщину по голове. Это было действительно зверское убийство. Негель продолжал ее бить и мертвую. Бил с остервенением: лица не было, зубы были забиты ей в горло.
Покончив с убийством, он убежал, вымылся, переоделся и, когда убийство было открыто, прибежал на место одним из первых.
Пока составляли протокол, Негель нянчился и играл с маленькими детьми только что убитой им женщины, – их не было при убийстве: они были в гостях у соседей.
Негель больше всех высказывал сожаления, ужасался, негодовал на «злодея» и даже указал на одного поселенца как на убийцу.
– Зачем? Зол ты на него был?
– Нет! А только это всегда так делается. Всегда другого засыпать, чтоб с себя подозрение снять. Это уж так водится.
За что он убил так зверски несчастную женщину?
Говорят, что Негель, выследив, когда М. ушел из дома, явился с гнусными намерениями.
Негель говорит, что покойная кокетничала с ним и перебрала у него в разное время 50 рублей.
Когда она дерзко ответила ему, Негель сказал ей:
– Ты чего же на меня как собака лаешь? Деньги ни за что берешь, а лаешься? Только крутишь!
– А чего ж и нет? Ты еще малолеток, тебя можно и окрутить.
– Я каторжника сын, – отвечал ей Негель, – меня не окрутишь!
М. будто бы расхохоталась, и Негель, не помня себя, начал ее бить. Он пришел в исступление, не помнит, долго ли бил, и потом, придя к трупу, с удивлением смотрел:
– Эк, я ее как!
– Вот я ее за что убил, – вовсе не так, за здорово-живешь, а за пятьдесят рублей!
– Да разве за пятьдесят рублей убивать людей можно?
Лицо Негеля стало еще мрачнее.
– А ни за что ни про что людей убивать разрешается? У меня мать убили. За что? Вон, он говорит, что убил ее, с ней жимши. А я вам прямо скажу, что врет. Никакой коммерции он с ней не имел! Три копейки ему и цена-то вся! Вы посмотрите на него!
Его мать, 50-летнюю женщину, зарезал его же учитель, поселенец Вайнштейн.
Вайнштейна приговорили на 4 года каторги. Это приводит Негеля в бешенство:
– За мою мать на четыре года?! А вон безногого за то, что женщину убил, на двадцать лет! Что ж это! После этого суд – это просто вторые карты!
Негель – уроженец Сахалина. Его отец и его мать, оба сосланные в каторгу за убийства, встретились в Усть-Каре и вместе попали на Сахалин.
Он не помнит отца, но воспоминания о матери заставили его разрыдаться.
И так странно вздрагивает и сжимается сердце, когда этот злобный, безжалостный убийца, рыдая, говорит:
– Мама! Моя мама!
– Когда убили мать, я озлился, я другой человек стал. Ага значит, людей ни за что ни про что убивать можно! Хорошо же, так и будем знать!.. Он, Вайнштейн, и меня погубил. Мама из меня человека сделать хотела. Если бы он ее не убил, я бы никогда не был каторжником. Я при маме совсем другой был. А теперь что я? Каторжник. Приговорят лет на десять. А потом, Бог даст, заслужу и бессрочную.
Его просьба ко мне заключалась в том, чтобы я попросил губернатора:
– Пусть меня переведут из Александровской тюрьмы в другую. Здесь Вайнштейн сидит, и должен я его зарезать.
– Почему же «должен»?
– Должен. Меня в одиночке держат, а как в общую пустят, я его сейчас пришью. А мне еще в бессрочную идти не хочется. Пусть меня с ним в одну тюрьму не сажают! Мне его не жаль, мне себя жаль!
– Ну, хорошо! А той, которую ты убил, тебе не жаль?
– Часом. Мне ее так бывает жаль, что плачу у себя в одиночке. Ее и детей. А как вспомню, как мать у меня убили, всякая жалость к людям отпадает.
И его раскосые глаза, когда он говорит последние слова, смотрят с такой непримиримой злобой!..
В той же Александровской тюрьме я встретился с Габидуллином-Латыней, молодым татарином, тоже сыном ссыльнокаторжных.
Он родился, вырос, совершил преступление и отбывает наказание на Сахалине.
– В тюрьме-то еще лучше! В тюрьме жрать дают, а на воле с голода опухнешь! – посмеивается он.
Его преступление действительно ужасно.
С двумя поселенцами они втроем убили с целью грабежа жену одного арестанта, ее 14-летнюю дочь и 6-летнего сына.
Совершив убийство, Габидуллин и его соучастник убили своего третьего товарища:
– Чтобы при дележке больше осталось!
Несчастную женщину, бывшую в интересном положении, нашли с разрезанным животом.
– Это для чего?
– А это так! Посмотреть, как ребенок лежит!
И Габидуллин конфузливо улыбается, упоминая о своем любопытстве.
И на настойчивые требования каторги этот огромный, с идиотским лицом татарин, начинает уродливо сгибаться в три погибели, показывая, «как лежал ребенок».
Каторга грохочет.
– Ну, других тебе не жаль, хоть бы себя пожалел! Ведь вот в тюрьму за это попал, в каторгу!
– Так что же? Здесь, на Сакалине, все в тюрьме были.
И этот «уроженец» Сахалина смотрит на тюрьму как на нечто неизбежное для всех и каждого.
Нет сахалинской тюрьмы, где бы ни сидело «уроженца».
Тридцать лет с лишком на Сахалине родятся дети, растут среди каторги, в атмосфере крови и грязи, и с самой колыбели обречены на каторгу.
Я думаю, что это большой грех против этих несчастных.
Часть вторая
Преступники
Золотая Ручка
Воскресенье. Вечер. Около маленького, чистенького домика, рядом с Дербинской богадельней, шум и смех. Скрипят убранные ельником карусели. Визжит оркестр из трех скрипок и фальшивого кларнета. Поселенцы пляшут трепака. На подмостках «не помнящий родства» маг и волшебник ест горящую паклю и выматывает из носа разноцветные ленты. Хлопают пробки квасных бутылок. Из квасной лавочки раздаются подвыпившие голоса. Из окон доносится:
– Бардадым. Помирил, рубль мазу. Шеперка, по кушу очко. На пе. На перепе. Барыня. Два сбоку.
Хозяйка этой квасной, игорного дома, карусели, танцкласса, корчмы и сахалинского кафе-шантана – крестьянка из ссыльных Софья Блювштейн.
Всероссийски, почти европейски знаменитая Золотая Ручка.
Во время ее процесса стол вещественных доказательств горел огнем от груды колец, браслетов, колье. Трофеев-улик.
– Свидетельница, – обратился председатель к одной из потерпевших, – укажите, какие здесь вещи ваши?
Дама с изменившимся лицом подошла к этой «Голконде».
Глаза горели, руки дрожали. Она перебирала, трогала каждую вещь.
Тогда с высоты скамьи подсудимых раздался насмешливый голос:
– Сударыня, будьте спокойнее. Не волнуйтесь так: эти бриллианты поддельные.
Этот эпизод вспомнился мне, когда я, в шесть часов утра, шел в первый раз в гости к Золотой Ручке.
Я ждал встречи с этим Мефистофелем, «Рокамболем в юбке».
С могучей преступной натурой, которой не сломили ни каторга, ни одиночная тюрьма, ни кандалы, ни свист пуль, ни свист розги. С женщиной, которая, сидя в одиночном заключении, измышляла и создавала планы, от которых пахло кровью.
И… я невольно отступил, когда навстречу мне вышла маленькая старушка с нарумяненным, сморщенным, как печеное яблоко, лицом, в ажурных чулках, в стареньком капоте, с претензиями на кокетство, с завитыми крашеными волосами.
– Неужели эта?
Она была так жалка со своей «убогой роскошью наряда и поддельною краской ланит». Седые волосы и желтые обтянутые щеки не произвели бы такого впечатления.
Зачем все это?
Рядом с ней стоял высокий, здоровый, плотный, красивый – как бывает красиво сильное животное – ее сожитель, ссыльнопоселенец Богданов.
Становилось все ясно…
И эти пунцовые румяна, которые должны играть, как свежий румянец молодости.
Мы познакомились.
Блювштейн попросила меня сесть. Нам подали чай и бисквиты.
Сколько ей теперь лет, я не берусь определить. Мне никогда не приходилось видеть женщин, у которых над головой свистели пули, женщин, которых секли. Трудно судить по лицу, сколько лет человеку, пережившему такие минуты!
Она говорит, что ей тридцать пять лет, но какая же она была бы пятидесятилетняя женщина, если бы не говорила, что ей тридцать пять.
На Сахалине про нее ходит масса легенд. Упорно держится мнение, что это вовсе не Золотая Ручка. Что это сменщица, подставное лицо, которое отбывает наказание, в то время как настоящая Золотая Ручка продолжает свою неуловимую деятельность в России.
Даже чиновники, узнав, что я видел и помню портреты Золотой Ручки, снятые с нее еще до суда, расспрашивали меня после свидания с Блювштейн:
– Ну что? Она? Та?
– Да, это остатки той.
Ее все же можно узнать. Узнать, несмотря на страшную перемену.
Только глаза остались все те же. Эти чудные, бесконечно симпатичные, мягкие, бархатные, выразительные глаза. Глаза, которые «говорили» так, что могли даже отлично лгать.
Один из англичан, путешествовавших по Сахалину, с необыкновенным восторгом отзывается об огромном образовании и светскости Золотой Ручки, о ее знании иностранных языков. Как еврейка, она говорит по-немецки.
Но я не думаю, чтобы произношение «беньэтаж», вместо слова «бельэтаж», говорило особенно о знании французского языка, образовании или светскости Софьи Блювштейн. По манере говорить это простая мещаночка, мелкая лавочница.
И, право, для меня загадка, как ее жертвы могли принимать Золотую Ручку то за знаменитую артистку, то за вдовушку-аристократку.
Вероятно, разгадка этого кроется в ее хорошеньких глазках, которые остались такими же красивыми, несмотря на все, что перенесла Софья Блювштейн.
А перенесла она так же много, как и совершила.
Ее преступная натура не сдавалась, упорно боролась и доказала бесполезность суровых мер в деле исправления преступных натур.
Два года и восемь месяцев эта женщина была закована в ручные кандалы.
Ее бессильные, сохнувшие руки, тонкие, как плети, дряблые, лишенные мускулатуры, говорят вам, что это за наказание.
Она еще кое-как владеет правой рукой, но, чтоб поднять левую, должна взять ее правой под локоть.
Ноющая боль в плече сохнувшей руки не дает ей покоя ни днем, ни ночью. Она не может сама повернуться с боку на бок, не может подняться с постели.
И, право, каким ужасным каламбуром звучала эта жалоба Золотой Ручки на сохнувшую руку.
Ее секли, и – как выражаются обыкновенно господа рецензенты, – «воспоминание об этом спектакле долго не изгладится из памяти исполнителей и зрителей». Все – и приводившие в исполнение наказание, и зрители-арестанты – до сих пор не могут без улыбки вспомнить о том, как «драли Золоторучку».
Улыбается при этом воспоминании даже никогда не улыбающийся Комлев, ужас и отвращение всей каторги, страшнейший из сахалинских палачей.
– Как же, помню. Двадцать я ей дал.
– Она говорит – больше.
– Это ей так показалось, – улыбается Комлев, – я хорошо помню – сколько. Это я ей двадцать так дал, что могло с две сотни показаться.
Ее наказывали в 9-м «номере» Александровской тюрьмы для исправляющихся.
Присутствовали все, без исключений. И те, кому в силу печальной необходимости приходится присутствовать при этих ужасных и отвратительных зрелищах, и те, в чьем присутствии не было никакой необходимости. Из любопытства.
В «номере», где помещается человек сто, было на этот раз человек триста. Исправляющиеся арестанты влезали на нары, чтобы «лучше было видно». И наказание приводилось в исполнение среди циничных шуток и острот каторжан. Каждый крик несчастной вызывал взрыв гомерического хохота.
– Комлев, наддай! Не мажь.
Они кричали то же, что кричали палачам, когда наказывали их.
Но Комлеву не надо было этих поощрительных возгласов.
Артист, виртуоз и любитель своего дела, он «клал розга в розгу», так что кровь брызгала из-под прута.
Посредине наказания с Софьей Блювштейн сделался обморок. Фельдшер привел ее в чувство, дал понюхать спирта, и наказание продолжалось.
Блювштейн едва встала с «кобылы» и дошла до своей одиночной камеры.[55]
Она не знала покоя в одиночном заключении.
– Только, бывало, успокоишься, – требуют: Соньку Золотую Ручку. – Думаешь: опять что. Нет. Фотографию снимать.
Это делалось ради местного фотографа, который нажил себе деньгу на продаже карточек Золотой Ручки.
Блювштейн выводили на тюремный двор. Устанавливали кругом «декорацию».
Ее ставили около наковальни, тут же расставляли кузнецов с молотами, надзирателей, – и местный фотограф снимал якобы сцену заковывания Золотой Ручки.
Эти фотографии продавались десятками на все пароходы, приходившие на Сахалин.
– Даже на иностранных пароходах покупали. Везде ею интересовались, – как пояснил мне фотограф, принеся мне целый десяток фотографий, изображавших «заковку».
– Да зачем же вы мне-то столько их принесли?
– А для подарков знакомым. Все путешественники всегда десятки их брали.
Эти фотографии – замечательные фотографии. И их главная «замечательность» состоит в том, что Софья Блювштейн на них не похожа на себя. Сколько бессильного бешенства написано на лице. Какой злобой, каким страданием искажены черты. Она закусила губы, словно изо всей силы сдерживая готовое сорваться с языка ругательство. Какая это картина человеческого унижения!
– Мучили меня этими фотографиями, – говорит Софья Блювштейн.
Специалистка по части побегов, она бежала и здесь со своим теперешним сожителем Богдановым.
– Но уже силы были не те, – с горькой улыбкой говорит Блювштейн, – больная была. Не могу пробираться по лесу.
Говорю Богданову: «Возьми меня на руки, отдохну». Понес он меня на руках. Сам измучился. Сил нет. «Присядем, – говорит, – отдохнем». Присели под деревцем. А по лесу-то стон стоит, валежник трещит, погоня… Обходят.
Бегство Золотой Ручки было обнаружено сразу. Немедленно кинулись в погоню. Повели облаву.
Один отряд гнал беглецов по лесу. Смотритель с тридцатью солдатами стоял на опушке.
Как вдруг из леса показалась фигура в солдатском платье.
– Пли!
Раздался залп тридцати ружей, но в эту минуту фигура упала на землю. Тридцать пуль просвистали над головой.
– Не стреляйте! Не стреляйте! Сдаюсь, – раздался отчаянный женский голос.
«Солдат» бросился к смотрителю и упал перед ним на колени.
– Не убивайте!
Это была переодетая Золотая Ручка. Чем занимается она на Сахалине? В Александровском, Оноре или Корсаковском, – во всех этих на сотни верст отстоящих друг от друга, местечках, – везде знают Соньку-золоторучку.
Каторга ею как будто гордится. Не любит, но относится все-таки с почтением.
– Баба – голова.
Ее изумительный талант организовывать преступные планы и здесь не пропадал даром.
Вся каторга называет ее главной виновницей убийства богатого лавочника Никитина и кражи пятидесяти шести тысяч у Юрковского. Следствие по обоим этим делам дало массу подозрений против Блювштейн и – ни одной улики.
Но это было раньше.
– Теперича Софья Ивановна больны и никакими делами не занимаются, – как пояснил ее сожитель Богданов.
Официально она числится содержательницей квасной лавочки.
Варит великолепный квас, построила карусель, набрала среди поселенцев оркестр из четырех человек, отыскала среди бродяг фокусника, устраивает представления, танцы, гулянья.
Неофициально…
– Шут ее знает, как она это делает, – говорил мне смотритель поселений, – ведь весь Сахалин знает, что она торгует водкой. А сделаешь обыск – ничего, кроме бутылок с квасом.
Точно так же все знают, что она продает и покупает краденые вещи, но ни дневные ни ночные обыски не приводят ни к чему.
Так она борется за жизнь, за этот несчастный остаток преступной жизни.
Бьется как рыба об лед, занимается мелкими преступлениями и гадостями, чтобы достать на жизнь себе и на игру своему сожителю.
Ее заветная мечта – вернуться в Россию.
Она закидывала меня вопросами об Одессе.
– Я думаю, не узнаешь ее теперь.
И когда я ей рассказывал, у нее вырвался тяжкий вздох:
– Словно о другом свете рассказываете вы мне… Хоть бы глазком взглянуть…
– Софье Ивановне теперича незачем возвращаться в Россию, – обрывал ее обыкновенно Богданов, – им теперь там делать нечего.
Этот «муж знаменитости» ни на секунду не выходил во время моих посещений, следил за каждым словом своей сожительницы, словно боясь, чтобы она не сказала чего лишнего.
Это чувствовалось: его присутствие связывало Блювштейн, свинцовым гнетом давило, – она говорила и чего-то не договаривала.
– Мне надо сказать вам что-то, – шепнула мне в одно из моих посещений Блювштейн, улучив минутку, когда Богданов вышел в другую комнату.
И в тот же день ко мне явился ее «конфидент», бессрочный богадельщик-каторжник К.
– Софья Ивановна назначает вам рандеву, – рассмеялся он. – Я вас проведу и постою на стреме (покараулю), чтоб Богданов ее не поймал.
Мы встретились с ней за околицей:
– Благодарю вас, что пришли, Бога ради, простите, что побеспокоила. Мне хотелось вам сказать, но при нем нельзя. Вы видели, что это за человек. С такими ли людьми мне приходилось быть знакомой, и вот теперь… Грубый, необразованный человек, – все, что заработаю, проигрывает, прогуливает! Бьет, тиранит… Э, да что и говорить!
У нее на глазах показались слезы.
– Да вы бы бросили его!
– Не могу. Вы знаете, чем я занимаюсь. Пить, есть нужно. А разве в моих делах можно обойтись без мужчины? Вы знаете, какой народ здесь. А его боятся: он кого угодно за двугривенный убьет. Вы говорите – разойтись… Если бы вы знали…
Я не расспрашивал: я знал, что Богданов был одним из обвиняемых и в убийстве Никитина и в краже у Юрковского.
Я глядел на эту несчастную женщину, плакавшую при воспоминаниях о перенесенных обидах. Чего здесь больше: привязанности к человеку или прикованности к сообщнику?
– Вы что-то хотели сказать мне?
Она отвечала мне сразу.
– Постойте… Постойте… Дайте собраться с духом… Я так давно не говорила об этом… Я думала только, всегда думала, а говорить не смею. Он не велит… Помните, я вам говорила, что хотелось бы в Россию. Вы, может быть, подумали, что опять за теми же делами… Я уже стара, я больше не в силах… Мне только хотелось бы повидать детей.
И при этом слове слезы хлынули градом у Золотой Ручки.
– У меня ведь остались две дочери. Я даже не знаю, живы ли они или нет. Я никаких известий не имею от них. Стыдятся, может быть, такой матери, забыли, а может быть, померли… Что ж с ними? Я знаю только, что они в актрисах. В оперетке, в пажах. О Господи! Конечно, будь я там, мои дочери никогда бы не были актрисами.
Но подождите улыбаться над этой преступницей, которая плачет, что ее дочери актрисы.
Посмотрите, сколько муки в ее глазах:
– Я знаю, что случается с этими пажами. Но мне хоть бы знать только, живы ли они или нет. Отыщите их, узнайте, где они. Не забудьте меня здесь, на Сахалине. Уведомьте меня. Дайте телеграмму. Хоть только – живы или нет мои дети… Мне немного осталось жить, хоть умереть-то, зная, что с моими детьми, живы ли они… Господи, мучиться здесь, в каторге, не зная… Может быть, померли… И никогда не узнаю, не у кого спросить, некому сказать…
«Рокамболя в юбке» больше не было.
Передо мной рыдала старушка-мать о своих несчастных детях.
Слезы, смешиваясь с румянами, грязными ручьями текли по ее сморщенным щекам.







