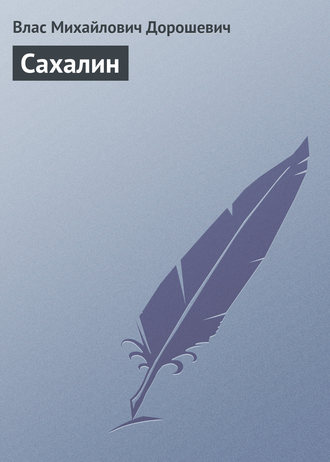
Влас Дорошевич
Сахалин
Смотрители тюрем
Смотритель тюрьмы – это, по большей части человек, выслужившийся из надзирателей, из фельдшеров. Полное ничтожество, которое получает вдруг огромную власть и ею «объедается».
По уставу он имеет право в каждую данную минуту своею властью дать арестанту до 30 розог или до 10 плетей.
По закону – каждое наказание должно быть вписано в штрафной журнал.
На деле эти наказания почти никогда не вписываются.
Отодрал – и кончено.
Сами каторжане просят:
– Не записывайте только в штрафной журнал.
Перевод из отдела испытуемых в отдел исправляющихся, из кандальной тюрьмы в так называемую вольную тюрьму, сокращение сроков – все это зависит от записей в штрафном журнале.
Выдрать и записать в журнал – это уже не одно наказание, а два.
Таким образом, смотритель тюрьмы по части телесных наказаний является совершенно бесконтрольным.
Отсутствие записи в журнале лишает каторжника возможности жаловаться, и смотритель тюрьмы является совершенно безнаказанным.
Изредка всплывают на свет Божий такие дела, как всплыло дело смотрителя тюрьмы Бестужева, который выпорол освобожденного от телесных наказаний больного падучей болезнью арестанта Сокольского.
Но там за Сокольского вступились врачи.
Телесные наказания развращают не только тех, кого наказывают, убивая в арестантах последнюю даже каторжную совесть, но и тех, кто наказывает.
Вид разложенного на позорной скамье человека заключает в себе что-то развращающее, разнуздывающее зверя, сидящего в человеке.
– Я тебе царь и Бог! – орет ничтожество, вышедшее из надзирателей или фельдшеров.
Это, как я уже говорил, любимая поговорка смотрителей тюрем.
Наказания доходят до удивительного издевательства.
– Это что теперь за наказания! – машут рукой смотрители тюрем. – Прежде, бывало, выпорют арестанта, и он должен идти смотрителя благодарить.
– За что благодарить?
– За науку. Такой порядок был. Встанет и в ноги кланяться должен: «Благодарю вас, ваше высокоблагородие, за то, что поучили меня, дурака!» А теперь уж этого нет. Распущена каторга! Все гуманности пошли.
Были и есть смотрители, не признающие непоротых арестантов.
– Система уж у меня такая.
Один из них, по каторжному прозвищу Железный Нос, оставил по себе в этом отношении анекдотическую память.
Приходя утром на раскомандировку, он высматривал, нет ли непоротого арестанта.
– Что это, братец, ты стоишь не по форме? Ногу отставил? А? Поди-ка, ляжь!
Если непоротый вел себя «в аккурате», стоял, что называется, «не дыша», и Железный Нос никак к нему придраться не мог, он отворачивался и говорил:
– Эй, ты там, тихоня! Поди-ка, ляжь, братец. Палач, дай-ка ему горяченьких!
– За что, ваше высокоблагородие?
– А, ты еще разговаривать? Разложить!
Он охотился за арестантами.
Едет по берегу в Корсаковском округе, видит, арестант на отмели копается, – к нему.
Арестант, завидев Железный Нос, дальше по отмели, смотритель за ним. Наконец дальше идти некуда: вода по пояс.
Арестант останавливается.
– Ты что тут, братец, делаешь?
– Рачков ловлю, ваше высокоблагородие, вам на кухню.
– Рачков ловишь? Это хорошо. А чего ж ты от начальства бегаешь? А? Должно быть, нехорошее что на уме? Хорошо. Рачков отнеси ко мне на кухню, а утром на раскомандировке выйди, тебя посекут!
Единственным непоротым каторжником был его собственный повар.
Очень искусный повар, находившийся за это под покровительством смотрительши.
– Ты мне его не тронь! – раз навсегда объявила смотрительша своему супругу.
Однажды она уехала куда-то на целый день к знакомым; возвращается – муж встречает ее сконфуженный.
– Выпорол?! – всплеснула руками смотрительша.
– Выпорол! – виновато отвечает Железный Нос. – Не сердись, душенька!
Меня интересовала личность смотрителя Л., оставившего по себе на Сахалине поистине страшную память.
Порки при Л. носили какой-то невероятный характер. Пороли каждое утро по тридцать, по сорок человек. Я расспрашивал арестантов, как это происходило.
– Выйдет он, бывало, ничего. Да потом себя растравлять начнет. Воззрится, заметит у кого какую неисправность: «У тебя что это, брат, бушлат (куртка) как будто рваный? А? Нарочно разорвал? Нарочно?» – «Помилуйте, ваше высокоблагородие, зачем нарочно? На работе разорвался!» – «На работе? А ты что ж не починил? А? Так-то ты о казенном имуществе печешься? Так-то?» – «Зачинить нечем!» К этому времени он уж совсем озвереет. «Жилы из себя, мерзавец, вытяни да зашей! Жилы! Из кожи куски вырезай да заплатки клади! Я тело твое так изорву, как ты казенный бушлат. Палач! Клади! Бей!» И пойдет. И чем дальше, тем пуще звереет. Стон стоит, а он ногами топочет. «Притворяются, подлецы. Бей их крепче!» В конце, бывало, до того в сердце войдет, что напоследок и палача разложить прикажет, арестантам драть велит: «Дерите его, чтоб спуску вам, подлецам, не давал!»
– Неглупый человек был! – пояснял мне бывший его помощник, теперь сам смотритель. – Знал, как каторгу держать. Каторгу на палача, да и палача на каторгу озлоблял. Стачки быть не может! Уж палач после этого-то мазать не будет.
Смотритель М., при мне заведывавший Корсаковской тюрьмой, считался одним из наиболее жестоких смотрителей на Сахалине.
– Доктора – вот мое бельмо на глазу! – кричал он по вечерам, напиваясь по принятому им обычаю. – Гуманность разводят! А нам это не к лицу. Я разгильдеевец! – хвастался он. – Разгильдеевские времена на Каре помню! Я прирожденный тюремщик. Мой отец смотрителем тюрьмы был. Я сам под нарами вырос! Мы не баре, чтоб гуманности разводить! Мы вот в чем ходим!
И он с гордостью показывал свою порыжелую, выгоревшую на солнце шинель, которой было лет, может быть, двадцать.
В трезвом виде не было человека более мягкого, льстивого, медоточивого, чем этот старый лукавый сибиряк.
Арестантов он называл «братанами», «братиками», «родненькими», «милыми людьми», «голубчиками», и без «Божьего слова» – никуда.
– Без Божьего слова разве можно?!
Провинившегося арестанта он подманивал к себе пальчиком.
– Пойди-ка, миленький, сюда. Ляжь-ка, голубушка, тебя взбрызнут!
Арестант валился в ноги:
– Ваше высокоблагородие, за что же? Простите.
– И что ты, миленький! И что ты, голубчик! Разве я на тебя сержусь? Я на тебя не сержусь. Ложись, ложись, голубчик! А за то, что разговариваешь, пяточек прибавим.
– Ваше высокоблагородие…
– И-и, голубчик, как нехорошо. Тебе начальник говорит: ложись! А ты не слушаешься. Еще пять. Ложись, братан.
Видя, что наказание все растет, арестант ложится.
– Вот так-то, родной, лучше! С Богом, милый. Взбрызни-ка его, Медведев. Пороть пореже, не торопись, милый! Пореже, покрепче! Вот так, вот так! Реже-то лучше. Нам торопиться некуда.
И если арестант вопил не своим голосом, М. говорил ему:
– Ничего, ничего, потерпи, родненький! Христос терпел и нам велел.
Опытные арестанты, разумеется, ложились без всяких разговоров, зная, что за всякую просьбу бывает только прибавка, – и смотритель говорил, глядя на них:
– Душа радуется! Братики меня с одного слова понимают! Живем душа в душу с миленькими!
– А не случалось так, чтобы фордыбачили? – спросил я М., слушая, как он с «Божьим словом отечески наказует свое стадо».
Он захихикал.
– И что вы-с? Какое выдумали! Это у новых, у гуманных каторга распущена. А у меня нет-с. Душонка у него, у родненького, трясется, как ложится. Он меня знает.
И, только напиваясь по вечерам, он кричал:
– В ужасе надо каторгу держать! В ужасе! Вы у меня спросите! А эти гуманные-то только унижают нас! Унижают, подлецы! Ехали бы гуманничать куда хотят, а в каторгу соваться нечего. Каторга – наше дело. И в Писании сказано: страх спасителен.
Бывший фельдшер К., смотритель Рыковской тюрьмы, человек другого склада.
Он любит порисоваться и пофигурировать.
Даже о своем фельдшерстве рассказывает небылицы в лицах. Как какая-то графиня, отправляя на войну своего мужа, поручала ему:
– Вам его поручаю! Берегите его!
– Ваше сиятельство, будьте покойны.
На Сахалине он основывает по болотам поселения и называет их в честь себя своим именем. Перестраивает тюрьмы «по собственным проектам» и невероятно этим хвастается.
Произойдя из ничтожества, он упивается властью.
– У меня арестант волосок каждый на бровях моих знает, как лежит.
Особенно он любит вспоминать, как временно заведывал Воеводской тюрьмой, страшнейшей на Сахалине, теперь упраздненной.
– Выхожу, бывало, на раскомандировку: «Здорово, мерзавцы! Здорово, варнаки!» Дружный ответ: «Здравия желаем, ваше высокоблагородие!» – и хохот. Понимают, что я веселый. А уж если молчу – могила кругом. Вышел, мерзавцами не назвал, понимают: жди! Не в духе я, значит. Ни одного генерала на смотру так не трепещут! Драть велю – от страха едва дышат. «Рррозги, лопаты, яму рыть!»
– Это-то зачем же?
– А могилу. Будто насмерть запарывать буду. «Фельдшера!» – кричу. Помощники около, будто меня успокаивают. Арестанты в ноги валятся. Палачу страшно. И начну наказание. «Мазать пришел? – кричу. – Мазать? Самого разложу!»
Он враг телесных наказаний.
– Это ни к чему не приводит! Арестанты привыкают. Это на них не действует. Он три тысячи розог в свою жизнь получил, что ему? Хоть каждый день дери. Нет, арестант должен начальника понимать. Если я скажу: «драть!» – у арестанта загодя шкура сходит. Вы у арестантов обо мне спросите.
У арестантов и спрашивать было нечего: я знал о той славе, которою пользуется К.
– Я с вами на наказание не пойду, – сказал мне как-то К. – Если я присутствую на наказанье, арестанта должны в лазарет замертво унести. Не иначе. Так меня уж тюрьма знает. Я деру обыкновенно в конторе, – рассказывает он. – Посередине ставят «кобылу». Я закуриваю папиросу и начинаю ходить из угла в угол. Поравняюсь с «кобылой»: раз! Я тридцать розог по два, по три часа даю. Он у меня измотается весь, пока выпорю. И кричит, и стонет, и Богу молится, и ругаться начинает, и вроде как сумасшедший делается. В контору-то как на виселицу идет. Никогда не забудет.
И действительно не забывает. Я видел людей, считавших полученные им розги тысячами, но 30 ударов «в конторе» они ни с чем сравнить не могли.
– Каждый удар прочувствуешь. Ждет, пока саднеть перестанет, да опять. Что тело – душа от ожиданья измучается. Смерти просишь, только бы не такое мучительство.
– Но и это, – говорит К., – мало к чему приводит. Я и к этому редко прибегаю. По-моему, нет лучше темного карцера. Вот это средство. Страшнее всякой порки. Как посадят недели на две… Пойдемте посмотрим.
Это нечто действительно ужасное.
Мы вошли в узенький коридорчик, по обеим сторонам которого были расположены маленькие клетушки с крошечными оконцами в двери.
От воздуха в коридоре кружилась голова. Запах словно на псарне или около клеток с волками.
И едва мы вошли в коридор, из всех каморок послышалась адская ругань по адресу К.
Люди вопили в бешенстве, ломились в двери. Это напоминало буйное отделение сумасшедшего дома.
– Отвори-ка Гусева! – приказал К.
Надзиратель взялся за замок. Но из камеры голос, полный ужаса:
– Не входите! Не входите ко мне! Я убью!
– И на самом деле, оставь его! – отменил свое распоряжение К. – Это, как видите, почище порки. Порка что!
Замечательно, что все эти люди, славящиеся своим драньем, – все в один голос говорят:
– Порка что! Разве она действует!
И дерут.
Смертная казнь
За четыре года управления генерала Мерказина на Сахалине не было ни одной смертной казни.
– Я знаю, это вызывает недовольство у многих! – говорил мне генерал.
Но прежде, чем говорить об этом «недовольстве», скажем несколько слов о том, как происходила обыкновенно смертная казнь на Сахалине.
Последняя, с Мерказина, казнь на Сахалине происходила около девяти лет тому назад.
Казнили троих каторжников-рецидивистов – старика, бывалого каторжанина, и двоих молодых людей – за убийство с целью грабежа, совершенное уже на острове.
Мне рассказывал об этой казни сахалинский благочинный, отец Александр, напутствовавший осужденных.
Они содержались отдельно. Отец Александр, по распоряжению начальства, явился к ним за три дня до смертной казни.
По появлению священника осужденные поняли, что смертный час приближается.
– Побледнели, испугались, оторопели, слова выговорить не могут, – рассказывал отец Александр, – только старик по первоначалу куражился, смеялся, издевался над смертью, над товарищами… Начнем священное петь – смеется: «Повеселей бы что спели!» – «Ну, – говорю, – братцы, там что будет, то будет, а пока не мешает и о душе подумать». Ну-с, хорошо. Принялись за молитву. Молились пристально, с усердием, всей душой.
– Все три дня?
– Все три дня-с. Беседовали о загробной жизни, читали жития святых, пели псалмы, молились вместе. Гулять на дворик вместе ходили. Не выпускали они меня от себя. Молят прямо: «Батюшка, побудьте с нами, страшно нам». Сбегаешь, бывало, домой часа на полтора, перекусишь, – и опять к ним. Спали они мало, так, с час забудется который и опять проснется. И я с ними не спал. Да и до сна ли было!
– Беседовали о чем-нибудь с ними, кроме священных предметов?
– Как же! Надежду в них все-таки поддерживал: «Бывали, мол, случаи, что и на эшафоте прощенье объявляли». Разве можно человека надежды лишать? Без надежды человек в отчаянье впадает. Допытывали они меня все – «когда да когда?» Ну, а как принесли им накануне белье чистое, тут они все поняли, что, значит, наутро. Эту ночь всю уж не спали. Один только, кажется, на полчаса забылся. Причастил я их этой ночью. А наутро, еле забрезжилось, – выводить. Надел черную ризу – повели.
Тут произошла задержка: опоздал на четверть часа кто-то из лиц, обязанных присутствовать при казни.
– Верите ли, – говорил мне отец Александр, – мне эти четверть часа дольше всех трех дней показались. Мне! А каково им?
Когда прочли конфирмацию, ударили барабаны.
Но это была лишняя предосторожность. Никакой обычной в таких случаях ругани по адресу начальства не было.
– Умерли удивительно спокойно. Приложились ко кресту и отдались в руки палача. Только один, самый молодой, Сиютин, сказал: «Теперь самое жить бы, а нужно помирать». Сами и на эшафот взошли, и на западню стали.
Только старик, сначала куражившийся над смертью, с каждым часом все больше и больше падал духом.
Его пришлось чуть не отнести на эшафот. От ужаса у него отнялись руки и ноги.
Пред казнью он просил водки.
– Ну, что ж, дали?
– Нет. Разве можно? После полночи только приобщались, а в пять часов водку пить не подобает.
Казнь продолжалась долго. Один из конвоиров во время нее упал в обморок. Многие из арестантов, приведенных присутствовать при казни, не выдерживали и уходили.
Эта последняя казнь на Сахалине происходила во дворе Александровской тюрьмы.
Обыкновенным же местом смертной казни была, теперь упраздненная и срытая до основания, страшная и мрачная Воеводская тюрьма, между постами Александровским и Дуэ.
Виселица ставилась посередине двора.
Присутствовать при казни выгоняли из тюрьмы сто арестантов, а если казнили арестанта Александровской тюрьмы, то пригоняли еще человек двадцать пять оттуда.
Воеводская тюрьма была расположена в ложбине, и с гор, амфитеатром возвышающихся над нею, было как на ладони видно все, что делается во дворе тюрьмы.
На этих-то горах спозаранку располагались поселенцы из Александровска и «смотрели, как вешают».
И этот амфитеатр, переполненный зрителями, и эти подмостки виселицы, – все это делало Воеводскую тюрьму похожей на какой-то чудовищный театр, где давались страшные трагедии.
От многих из зрителей я слышал подробности трагедий, разыгравшихся на подмостках Воеводской тюрьмы, но, разумеется, самые ценные, самые интересные, самые точные подробности мне мог сообщить только человек, ближе всех стоявший к казненным, присутствовавший при их действительно последних минутах, – старый сахалинский палач Комлев.
Он повесил на Сахалине 13 человек; из них 10 – в Воеводской тюрьме.
Его первой жертвой был ссыльнокаторжный Кучерявский, присужденный к смертной казни за нанесение ран смотрителю Александровской тюрьмы Шишкову.
Кучерявский боялся казни, но не боялся смерти.
В ночь перед казнью он как-то ухитрился достать нож и перерезать себе артерию.
Бросились за доктором; пока сделали перевязку, пока привели в чувство бывшего в беспамятстве Кучерявского, наступил час выводить.
Кучерявский умирал смело и дерзко.
Он сам скинул бинт, которым было забинтовано его горло.
И все время кричал арестантам, чтобы они последовали его примеру.
Напрасно бил барабан. Слова Кучерявского слышались и из-за барабанного боя.
Кучерявский продолжал кричать и тогда уже, когда его в саване взвели на эшафот и поставили на западню.
Комлев стоял около и, по обычаю, держал его за плечи.
Кучерявский продолжал из-под савана кричать:
– Не робейте, братцы! Последними его словами было:
– Веревка тонка, а смерть легка…
Тут Комлев махнул платком, помощники выбили из-под западни подпорки, – и казнь была совершена.
Процедура казни длилась обыкновенно долго: часа полтора.
Осужденного выводили в кандалах.
В кандалах он выслушивал приговор. Затем его расковывали, надевали саван, сверх савана петлю, смазанную салом…
В общем, казнь, назначавшаяся обыкновенно в пять, редко кончалась раньше половины седьмого.
Эти страшные полтора часа редко кто мог выдержать.
«Иной спадает так, что обомлеет совсем», по выражению Комлева.
У большинства хватало сил лишь попросить палача:
– Поскорей только! Прихлестните потуже! Без мучений, пожалуйста.
У многих не хватало сил и на это.
Ссыльнокаторжный Кинжалов, казненный за убийство на Сахалине лавочника Никитина,[21] все время молился, пока читали приговор, а затем, когда его начали расковывать, лишился чувств.
Его пришлось внести на эшафот.
Державший его Комлев говорит:
– По-моему, ему и петлю-то надели уже мертвому.
Перед казнью, по воспоминаниям Комлева, почти всякий холодеет и дрожит, весь колотится, делается уже не бледным, а белым совсем.
– Держишь его за плечи, когда стоит на западне, через рубашку руке слышно, что тело у него все холодное, дрожит весь.
Среди всех 13 казненных Комлевым совершенно особняком стоит некто Клименко.
Преступление, совершенное Клименком состояло в следующем.
Он бежал, был пойман надзирателем Беловым, доставлен обратно и дорогой избит.
Тогда Клименко дал товарищам «честное арестантское слово», что он разделается с Беловым, бежал вторично и сам явился на тот кордон, где был Белов.
– Твое счастье – бери. Невмоготу больше идти.
Белов снова повел Клименко в тюрьму, и по дороге арестант убил своего конвоира.
После этого Клименко сам явился в тюрьму и заявил о совершенном им убийстве, рассказав все подробно: как и за что.
Его приговорили к смертной казни.
Ничего подобного смерти Клименко не видал даже видавший на своем веку виды Комлев.
Когда его взвели на эшафот, Клименко обратился к начальству и… благодарил за то, что его приговорили к смерти.
– Потому что сам, ваше высокоблагородие, знаю, что стою этого. Заслужил, – вот и казнят.
Единственной его просьбой было отписать жене, что он принял такую казнь.
– И отписать, что, мол, за дело.
– Даже барабан не бил при казни! – по словам Комлева.
Вот вам, как умирали каторжники и что такое смертная казнь.
Вряд ли вид ее особенно содействовал исправлению ссыльнокаторжных, которых выгоняли из тюрьмы «для присутствования», и поселенцев, которые занимали самый естественный в мире амфитеатр перед этой противоестественной сценой.
Теперь перейдем к недовольству отсутствием смертной казни.
Генерал был совершенно прав, когда говорил, что отсутствие смертной казни вызывает большое неудовольствие во многих.
– Помилуйте, батенька, – приходилось слышать буквально на каждом шагу, – ведь этак жить страшно! Того и гляди, зарежут! Безнаказанность полная! Ведь это курам насмех: только прибавляют срока! У человека и так сорок лет, а ему набавляют еще пятнадцать. Не все ли ему равно: сорок или пятьдесят пять?! Нет! Эти гуманности надо побоку. Смертная казнь – вот что необходимо!
И когда даже я, привыкший на Сахалине целые дни проводить в обществе Комлевых, Полуляховых, Золотых Ручек, выходил из терпения от этих рассуждений и говорил им:
– Тогда, господа, уж будет лучше говорить о колесовании, о четвертовании. Это хоть будет иметь смысл. Это хоть еще не применялось, – может быть, поможет. А смертная казнь применялась и ничему не помогала.
На самом деле!
Когда происходили все эти убийства смотрителей?
Когда был убит Дербин? Селиванов? Другие? Когда было покушение на Ливина, на Шишкова?
В то время, когда за это смертная казнь полагалась обязательно.
Был ли убит хоть один чиновник за эти четыре года, пока не было смертной казни? Нет. Ни одного.
– А покушение на убийство доктора Чардынцева? А покушение на убийство секретаря полиции Тымовского округа?[22]
Действительно, в производстве имелись оба эти дела. На доктора Чардынцева бросился арестант Криков. С Криковым меня познакомил… доктор Чардынцев.
– Ну, а теперь пойдемте посмотреть на человека, который чуть меня не зарезал! – сказал мне доктор, когда мы обошли весь лазарет.
– Как? Разве он здесь? У вас?
– Да. В отдельной комнате.
– И вы не боитесь к нему ходить?
– Нет, ничего. Он теперь успокоился. Мы с ним большие друзья.
В маленькой отдельной комнатке лежал больной Криков, бледный, исхудалый, измученный.
Приняв меня за доктора, он начал слабым, прерывающимся от одышки голосом жаловаться на сильное сердцебиение и расхваливать своего доктора:
– Если бы вот не они – прямо бы на тот свет отправился.
– Сильнейший порок сердца, – шептал мне доктор.
Тогда мы перевели разговор на недавнее покушение. Криков сильно заволновался, схватился за голову:
– Лучше не поминайте, не поминайте про это!.. Сам не знаю, что со мной было… У меня бывает это: голова кружится, сам тогда себя не помню… Ужас берет, когда подумаю, что я чуть-чуть не сделал!.. И против кого же?.. Против доктора!.. доктора!..
И он смотрел на доктора Чардынцева глазами, полными слез, с такой мольбой, с таким благоговением, что, право, не верилось: неужели от рук этого человека действительно чуть-чуть не погиб этот-то самый доктор?
Криков не старый еще человек, но уже богадельщик; вследствие сильнейшего порока сердца не способен ни на какую работу. Он человек, несомненно, психически ненормальный. Ему вечно кажется, что его преследуют, обижают, что к нему относятся враждебно. Он вечно всем недоволен. Необычайно, болезненно раздражителен. По временам впадает прямо в умоисступление и тогда действительно не помнит, что делает.
С доктором Чардынцевым он все время был в самых лучших отношениях.
Но в один из таких припадков обратился с требованием какого-то лекарства. Доктор отказал.
– Ага! Вы меня уморить хотите! Вы меня нарочно в лазарете держите, не лечите! Так нет же, не дамся я вам! – завопил Криков и, прежде чем кто-нибудь успел опомниться, выхватил из-за голенища нож и кинулся на доктора.
К счастью, господин Чардынцев успел схватить его за руку, обезоружить; сейчас же отвел его в отдельную комнату и принялся успокаивать.
Когда Криков опомнился и пришел в себя, его горю, его отчаянью, стыду не было границ.
Как видите, под умышленное покушение этот случай подвести никак нельзя. Я уверен – и говорю, строго проверив это, – что во всей каторге не найдется ни одного человека, который умышленно захотел бы причинить вред господину Чардынцеву, этому славному, доброму, симпатичному, гуманному врачу.
Он чуть не пал жертвой ненормального субъекта. Какой врач, имеющий дело с душевнобольными, застрахован от этого?
При чем тут распущенность каторги?
Случай с секретарем полиции Тымовского округа – случай странный, загадочный, и если говорить о распущенности, то не одной только каторги.
Господин секретарь – человек молодой, но быстро усвоивший себе сахалинские обычаи.
В его канцелярии был писцом бродяга, некто Туманов, молодой человек, тихий, скромный, трудолюбивый, хорошо воспитанный. Он попал в какое-то «дело», не захотел срамить своей семьи, предпочел скрыться и пойти на каторгу под именем бродяги.
На Сахалине мало стесняются насчет ругани.
И однажды господин секретарь, будучи почему-то не в духе, ни за что ни про что изругал Туманова и при всей канцелярии назвал его «подлецом» и «мерзавцем».
На Туманова это страшно подействовало. Быть может, в особенности потому, что это случилось тогда, когда он только что выбрался из тюрьмы и только-только начал снова чувствовать себя человеком.
Он нашел человека, судьба которого близко подходила к его. Познакомился с одной бывшей баронессой, сосланной за поджог, и, кажется, между ними установились отношения более нежные, чем отношения простых знакомых.[23]
По ее словам, на Туманове, когда он пришел домой после сцены с секретарем, «лица не было».
Он казался помешанным, ходил по комнате, хватался за голову, разговаривал сам с собою.
– Нет, нет!.. Это не так… Я все что угодно, но подлецом и мерзавцем я никогда не был. Я потому и в каторгу пошел, что я не подлец и не мерзавец… Нет, нет, этого так оставить нельзя…
Девиз Сахалина: «Всякий за себя». Видя, что дело может кончиться плохо, баронесса потребовала, чтобы Туманов оставил ее дом:
– Делайте там что вам угодно, но я не желаю быть впутанной в эту историю. Довольно с меня! Я отбыла каторгу, поселенчество, теперь я, слава Богу, крестьянка из ссыльных, имею булочную, двух коров. Мне рисковать всем этим не приходится. У меня есть ребенок. Оставьте мой дом немедленно и забудьте, что были со мной знакомы.
– Мне было тяжело говорить ему это, – рассказывала мне она. – Ведь он на меня чуть Богу не молился. Но вы поймите и мое положение.
И вот, выкинутый на улицу, потерявший голову, в такую трудную минуту оттолкнутый даже той, на которую он «чуть Богу не молился», Туманов идет и совершает свое безумное дело.
У господина секретаря шла, по обычаю, картежная игра. Штосс – обычное времяпрепровождение на Сахалине не одних каторжан. Как вдруг докладывают, что господина секретаря желает видеть Туманов «по чрезвычайно важному и неотложному делу». Господин секретарь вышел в кухню.
– Что тебе?
Туманов стоял перед ним бледный как смерть, с дрожащими губами.
– Я пришел поблагодарить вас за то, что вы сегодня…
Вполне уверенный, что Туманов пришел просить прощения – на Сахалине это принято, чтобы те, кого обругали, просили прощения, – уверенный, что Туманов пришел просить прощения, господин секретарь сказал:
– Хорошо, хорошо! Придешь завтра!
Тогда Туманов сделал шаг вперед и со словами:
– Это вам от подлеца и мерзавца!.. – выхватил револьвер. Щелкнул курок, выстрела не последовало.
На крик перепуганного секретаря сбежались гости. Но Туманова уже не было. Лишь только произошла осечка, он бросился из кухни.
Господин секретарь и его гости пережили несколько нехороших минут. В доме масса окон. Ставни закрыты не были. Вот-вот в одно из окон грянет выстрел.
Но тут история начинает становиться удивительно странной.
Страх был напрасен: выстрел не грянул. Убегая из кухни, Туманов выронил или выбросил револьвер. Оказалось, что тот ствол, из которого стрелял Туманов в господина секретаря, не был вовсе заряжен!
Что это было? Случайный недосмотр или только желание попугать? Если недосмотр – кто мешал Туманову выстрелить еще раз, в то время как господин секретарь стоял перед ним, схватившись за притолоку, по его собственным словам, «оцепенев от ужаса», не будучи в состоянии даже крикнуть, не проявляя никакой попытки сопротивляться или обезоружить врага?
Когда Туманова поймали, в его кармане нашли записку, в которой он пишет, что решил «покончить с собой».
На все вопросы Туманов отвечал только одно:
– Я не стрелял. Это подлец и мерзавец стрелял в господина секретаря, а не Туманов.
И просил только перевести его из Рыковского в Александровск. По переводе туда он начал вести себя еще страннее. Начал писать докладные записки, в которых просит для поправления здоровья отправить его… то в Спа, то в Биарриц.
Симулянт это или действительно душевнобольной, – когда я уезжал с Сахалина, еще не было выяснено: Туманов только что был отдан для испытания в психиатрическое отделение.
Но несомненно, что в этом деле много странного, много загадочного.
Случай этот произвел сильное волнение среди господ служащих. Брат потерпевшего, доктор, говорил мне:
– Какая тут к дьяволу гуманность! Если его не повесят, я готов задушить его собственными руками.
Но братья – плохие судьи в делах, где замешаны их братья.
Остальные господа служащие разделились на два лагеря. Одни – и я не скажу, чтобы это была лучшая часть сахалинских служащих, – кричат:
– Повесить!
– Повесить для примера! Каторга распущена! Нужно защищать безопасность…
– Но, ради Бога, – говорил я им, – безопасность чего вы, добрые люди, хотите защищать таким страшным путем? Безопасность ругани, издевательства над каторжанами и поселенцами? Да разве так надо обращаться с возрождающимся человеком? Ведь закон, правительство хотят сделать Сахалин местом исправления преступника.
Но в ответ раздавалось:
– Вздор! Все это одна гуманность! Самое ненавистное на Сахалине слово!
– Повесить – и все. Другая часть служащих – и никто не скажет, чтобы это была худшая часть, – полагает, что:
– Нужно нам самим многое изменить в наших отношениях к каторге.
Не следует забывать, что даже в этой несчастной, забитой, придавленной среде всегда найдутся люди, которые остатки своей чести поставят выше жалких остатков своей горькой, презренной жизни.
Как бы то ни было, но факт, что описанные мною два случая покушений были единственными за те четыре года, когда смертная казнь на Сахалине не применялась, и нравы, сравнительно с прежними, были все-таки мягче. Все убийства служащих, все беспрестанные покушения, вроде покушения зарезать господина Ливина или повесить господина Фельдмана, происходили в то время, когда нравы были куда круче и когда за убийство служащего смертная казнь полагалась обязательно.
Следовательно, не одним только страхом смертной казни можно установить добрые отношения каторжан к господам служащим. Веревка, как показал опыт, одна веревка слишком слаба, чтобы удержать безопасность господ служащих на должной высоте.
Что касается до убийства своего же брата-поселенца с целью грабежа, то таких случаев на Сахалине действительно очень много.
– Ну, а в Петербурге, в Москве, во всем мире их мало? – основательно замечал мне по этому поводу противник смертной казни, военный губернатор острова господин Мерказин. – А ведь это остров, сплошь населенный убийцами.
То, что говорится на Сахалине, действительно заставляет волосы подниматься дыбом, непонятно по своему ужасу для нас. Но не следует забывать, что Сахалин – это место, где все перевернуто вверх ногами. В этой среде несчастных, ищущих забвения, бутылка спирта стоит подчас десять рублей. В этой среде нищих человека режут за шестьдесят копеек. Поселенцы селения Вальзы отправились на охоту за беглыми Полуляховым, Казеевым и товарищами и стреляли по ним, боясь, что беглые с голоду зарежут у них корову.







