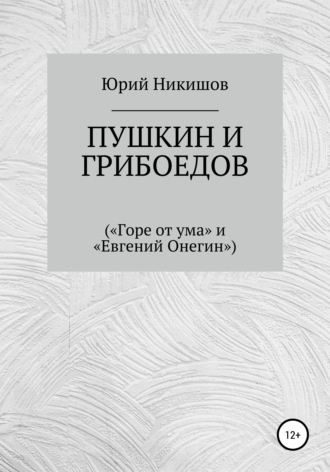
Юрий Михайлович Никишов
Пушкин и Грибоедов («Горе от ума» и «Евгений Онегин»)
В пушкиноведении не отмечается, что четвертая глава – этапная в творческой истории романа, который начинался с героем, наделенным странным недугом, преждевременной старостью души. Но такой герой исчерпал интерес к себе! И что было делать автору? Писать роман заново? Подробнее описывать светские развлечения, растянутые на восемь лет? А зачем? Роман не о светском пижоне, развлечения составили только его предысторию; реальных описаний вполне достаточно.
Пушкина выручил альтернативный характер его поэтического мышления. О пресыщенности героя было бегло сказано в первой главе, вот и пригодилось. Новое здание оказалось возможным выстроить на прежнем фундаменте, заложенном, как оказалось, с запасом прочности.
Мы привыкли воспринимать четвертую главу романа в стихах в том виде, в каком она напечатана. Здесь она начинается солидным рядом цифр, означающих пропущенные строфы. Строфы эти реальны, известны, а четыре из них были поэтом даже напечатаны в журнале именно как отрывок из «Евгения Онегина». Это – авторский монолог, обличающий легковесные нравы светского общества; VII строфа, текстуально начинающая главу, – его завершение. Удостоверив солидарность героя с этими размышлениями, поэт вторично (в сжатой форме) излагает предысторию Онегина, отмечает волнение, охватившее героя при получении письма Татьяны, и приглашает читателя в сад, где произошла встреча героев.
VI том Большого академического издания, где собраны все сохранившиеся варианты и где есть раздел «Варианты черновых рукописей», искажает композиционную структуру начального текста. В томе напечатаны «варианты», которых не было в тетрадях Пушкина: это сконструированные на основе черновика (созданные не автором, а издателями) первичные беловые рукописи, ориентированные на окончательный текст (варианты слов, фраз и строк представлены подстрочными сносками). И композиция черновых глав повторяет композицию печатного текста. Этот произвол редакторов особенно чувствителен именно в подаче главы четвертой.
Знание творческой истории четвертой главы очень многое добавит к пониманию ее, да и романа в целом.
Закончив черновик третьей главы, Пушкин (ему было не до провозглашенного гуляния) без паузы приступил к четвертой главе, начав работу, как и наметил, с сюжетного эпизода, со сцены свидания. В печатном тексте монолог Онегина оттеснен до XII строфы. Именно эта (ставшая потом двенадцатой!) строфа начинает черновик главы.
Но излагается эпизод не повествовательный, он содержит исповедь героя. Эпизод оказался очень трудным для исполнения. В окончательном тексте монолог Онегина состоит из пяти строф. В черновике таких (необработанных) строф много больше, текстуальные различия настолько велики, что образуют несколько несовместимых подходов.
Описательный текст, который (в обработанном виде) в печатном тексте открывает четвертую главу, первоначально весь был фрагментом исповеди Онегина, но в него вклиниваются некоторые строфы, которые фактически переходят в исповедь автора. Исповедь героя содержит мотивировку полного разочарования героя в любви. Дается прямое объяснение охлажденности (потери чувствительности), общей в Онегине с Кавказским пленником. Онегин откровеннее Пленника, он даже заявляет: «Я жертва долгих заблуждений / Разврата пламенных <?> страстей». Психологически признание не убедительно: неприлично, представая жертвой разврата, форсить этим перед скромной девушкой.
С. А. Фомичев замечает: «Прояснить творческую историю четвертой главы отчасти помогает смазанная помета на левом поле л. 52: «Sottise et Impertinence» (Глупость и Нахальство). Это, по всей вероятности, авторская оценка получившейся у него вначале исповеди героя»124.
Вслед за сценой в саду поэт сразу же ставит вопрос, что было следствием свиданья. Уныние Татьяны замечено матерью и соседями, тут же в беседе между ними возникает идея о ярмарке невест; эпизод слишком форсирован, он будет сохранен, но перенесен в главу седьмую (в печатном тексте четвертой главы о желательном замужестве Татьяны соседи толкуют «меж собою»). План поездки зимний, что дает толчок к написанию предшествующих осенних картин; в окончательном тексте эти строфы сдвинуты, перестают быть автономными зарисовками, срастаются с бытом Онегина. После пейзажных картин поэт, чтоб душу успокоить, заглядывает, как проводит дни счастливая парочка.
Влекомый сюжетом, Пушкин продолжает обдумывать монолог Онегина, вклинивая для него в рукопись еще несколько строф, на этот раз обозначивших контур окончательного текста.
И вдруг в рукописи появляется значительный по объему автобиографический фрагмент о жизни поэта в Одессе. До сих пор ассоциативная связь авторских «отступлений» с сюжетным повествованием была весьма ощутимой. Теперь заметнее всего обозначена именно связь с сюжетом. Одесские строфы и не «отступление» вовсе, а ритмичное возвращение автора в роман действующим лицом: в первой главе он белыми ночами гулял с героем по набережной Невы, предстоит и новая прогулка с ним «по берегам эвксинских вод».
Фрагмент содержит неторопливое описание дня одесской жизни поэта – в параллель описанию онегинских дней. Чрезвычайно широкое повторение однотипных деталей само по себе вызывает интерес. Любопытно, что городской быт автора включает черты как городского, так и деревенского быта героя. Тем примечательнее разница. Она отнюдь не внешняя – что онегинский быт дан подробнее, а авторский – лаконичнее, что есть некоторое несовпадение деталей. Разница в атмосфере самого описания, в характере авторской иронии. Первая глава писалась на фоне и в атмосфере «Демона». «Одесские» строфы несут просветленный характер, полны жизнерадостностью, беззаботностью юности. То, что раньше подавалось с оттенком разочарованности, теперь предстает в дымке пленительного очарования. Пушкин «воскрес душой» – и не стал ждать, когда сюжет романа даст удобный случай выразить свое новое состояние: он выразил его тотчас, без внешней связи с сюжетным повествованием. Фрагмент сразу же попросился на бумагу как знак преодоления поэтом его затяжного кризиса! В этом все его значение, а потому можно признать второстепенным и вторичным вопрос об оптимальном месте фрагмента в композиции романа. Оно будет найдено в процессе окончательной ее компоновки.
Непосредственно после «одесских» строф Пушкин не возвращается к сюжетному повествованию (оно уже доведено до картины «трудов» Ленского над страницами альбома Ольги и дополнено строфами исповеди Онегина с угадываемыми контурами печатного текста), а записывает композиционный план начала главы. В черновике строфы не нумеруются, но тут поэт нумерует одиннадцать строф, к некоторым делая лишь отсылки («Чем меньше…», «В начале жизни…»), обрывая записи значком etc <и т. д.>. (Видимо, эти строфы первоначально были набросаны где-то не в тетради). Некоторые записи подробнее. Они переходят в заново создаваемые строфы исповеди Онегина. Любопытно, что в этот поэтический текст вставлен набросок в прозе: это программа монолога героя, которая следом будет реализована (так поэт поступил и в работе над заключительной частью письма Татьяны). Поэтический текст будет еще дорабатываться, превращаясь в беловик, но композиционное решение (и только теперь!) определилось вполне.
Начальный черновик четвертой главы при обработке получает серьезные изменения, и не только композиционного плана. Открывавший главу мотив очарования женщинами и разочарования в них из монолога героя теперь четко переадресован автору (хотя по содержанию своему воззрения типологичны; будет помечено, что их разделял и герой). Наиболее резкие откровения героя («жертва разврата») поэт перенес в предваряющую авторскую характеристику приятеля, смягчая их: «Он в первой юности своей / Был жертвой бурных заблуждений / И необузданных страстей». Сходство Онегина с Пленником оставлено, но в итоге выполнено мягко, не декларативно, не броско; его заметит только внимательный взгляд.
Когда в конце октября 1824 года Пушкин отсылает в столицу первую главу для публикации, четвертая глава уже пишется. Близкое соседство начала работы над четвертой главой и отсылки в печать главы первой таит загадку. Четвертая глава образует крутой поворот в творческой истории романа, дает новый облик, казалось бы, уже вполне прорисованному герою: в какой степени осознанным в это время было обозначающееся решение?
В первой главе (и в первом замысле) Пушкину был нужен молодой герой с преждевременной старостью души, которая обозначилась «на самом утре» его дней. Теперь рядом с новыми молодыми героями, Ленским и Татьяной, Онегин и фактически становится старше их.
Уже вторая строфа четвертой главы в начале черновика начиналась утверждением: «Я жертва долгих заблуждений», а концовка ее содержала обобщение: «[Убил я]», «{Провел я много много} дней», «Так [я провел] [дней]»; «дней» поправлено: «лет» (ПД 835, л. 29 об.). «Много дней» – это одно, «много лет» – совсем другое. Этот фрагмент свидетельствует: Пушкин начинает четвертую главу уже с намерением прибавить возраста главному герою, но намерение это пока еще неотчетливое, не обрело уточнения (формы решения).
Решение принято при обновлении композиционного плана главы. Здесь (под цифрой 6) дается такой текст:
Так точно думал, мой Евгений
Он в [первой] бурной юности своей
Был жертва долгих забл<уждений>
И необ<узданных> –
Так погубил он [10] 8 лет –
Утратя – (ПД 835, л. 70 об.)
Это решение окончательное, оно закрепляется в печатном тексте: «Вот как убил он восемь лет, / Утратя жизни лучший цвет». (Указание будет учтено, когда придет пора позднейшей пометы: «Дожив без цели, без трудов / До двадцати шести годов…»; таким Онегин предстает к началу путешествия. Но тут поэт допускает ошибку: не учитывает, что в жизни героя в деревне и с возвращением в Петербург проходит год; так что перед началом путешествия ему двадцать семь лет). «Восемь лет» – это совсем не то, что «не долго» в первой главе. В четвертой главе – не случайная обмолвка, а результат серьезного переосмысления всей биографии героя. Фактически дана новая мотивировка хандры Онегина. В атмосфере первой главы акцент приходился на раннюю (преждевременную) старость души. Теперь получается, что хандра настигла Онегина около двадцати шести (правильнее – двадцати семи) лет; это ближе не к «утру» («самому утру»!), а к «полудню» жизни. Из мотивировок первой главы по-прежнему приходится выбирать. Теперь акцент переносится на более естественный, долгий путь развития героя, финалом которого становится пресыщенность.
Когда Пушкин отсылает первую главу для публикации, он не поправляет «устаревшие» детали ее, хотя, вероятно, уже знает, но еще «не ясно», интуитивно, что роман получает новое направление, другую перспективу развития героя. Но от читателей-педантов уже в первой главе был воздвигнут заслон: «Пересмотрел всё это строго: / Противоречий очень много, / Но их исправить не хочу». В очередной раз поэту оказала добрую услугу альтернативность его художественного мышления: стремление дать явлению не единственное объяснение, а непременно несколько, на выбор. С высоты четвертой главы в предыстории Онегина на первый план выдвигается пресыщенность героя. И выясняется, что брошенное когда-то на этот счет как будто мельком замечание вдруг усиливает свое значение. Похождения героя не мимолетны; скорректировать новую обрисовку характера как будто даже потребовало и бытовое правдоподобие. Указание на раннюю разочарованность героя осталось в тексте, но оказалось затертым; кто обращал на это внимание? Сколько лет изучается творческая история романа, а такое принципиальное решение поэта остается незамеченным.
Сохранилась исходная ситуация: герой, по виду счастливо начавший желанную для него и обычную для людей его круга светскую жизнь, разочарован в ней. Изменилась мотивировка: она стала понятной, психологически более естественной, даже более правдоподобной. Новая мотивировка не отменяет не только содержания конфликта героя со светом, но и его остроты.
Пушкин рисует образ героя так, как природа создает человека: с запасом сил, с большими потенциальными возможностями, которые – все – реализоваться не могут, непредсказуемо, какие именно реализуются. Конечный результат зависит от выбора промежуточных решений. Данные на выбор, детали получают возможность переакцентировки своего значения; так открывается возможность существенной корректировки первоначального замысла.
Не все изменения предстали органичными. Когда по первому счету светская жизнь героя (и с упоением, и с пресыщенностью) укладывалась в основном в 1819 год, вполне котировалось одно из главных его умений: «Он по-французски совершенно / Мог изъясняться и писал». По новому счету светская жизнь Онегина началась в 1812 году (1820 – 8); то, чем мог блеснуть герой, оказывалось не ко времени. Тут уж история объявила: я – реальность, а не виртуальность. Как Пушкин выходил из этого весьма затруднительного положения, нам еще предстоит наблюдать.
Самый броский из многочисленных парадоксов «Евгения Онегина» состоит в том, что герой одолел кризис, как только… победил свой кризис Пушкин. Пример автора стал для его приятеля заразительным.
4
Да, изменения, которые вносятся в изображение героя, носят отнюдь не частный, но глубоко содержательный характер. Произведение вначале имело психологическую опору. Но включение в число изображаемых автора с его датируемой биографией вынудило и ориентацию на историческое время, а оно стремительно нарастило свое значение. Поэт еще только развертывал повествование четвертой главы, когда достоверно узнал о существовании революционного тайного общества. Он дописывал последние строфы этой главы, когда пришла весть о трагедии на Сенатской площади.
Пушкин указал путь Лермонтову и первым попробовал нарисовать героя этого времени. Тут не было предвзятости, заранее принятого решения; с возможностями героя еще предстояло определиться. И было неясно, что позволят общественные обстоятельства.
Два ракурса, психологический и общественный, поэт сумел объединить; наш, аналитический подход вынуждает единую в сущности задачу расчленить надвое. Тут трудно сохранить хронологическую последовательность эпизодов, но при многократном обращении к роману накладка и неизбежна, и невелика.
В четвертой главе ритмично повторяется прием, опробованный в главе первой: описывается один взятый на выбор день, но сюда помещается то, что позволяет судить о вседневных занятиях героя. И настроение этого дня надо понимать как устойчивое состояние.
Онегин жил анахоретом;
В седьмом часу вставал он летом
И отправлялся налегке
К бегущей под горой реке;
Певцу Гюльнары подражая,
Сей Геллеспонт переплывал,
Потом свой кофе выпивал,
Плохой журнал перебирая,
И одевался…
Прогулки, чтенье, сон глубокий,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина:
Вот жизнь Онегина святая;
И нечувствительно он ей
Предался, красных летних дней
В беспечной неге не считая,
Забыв и город, и друзей,
И скуку праздничных затей.
Когда описание завершается обобщением, как тут не споткнуться о совершенно неожиданные заявления: жизнь Онегина – «святая» (не в религиозном значении, имеется в виду достойный земной смысл, даже и с некоторыми нравственными послаблениями себе), он предается ей «нечувствительно», «в беспечной неге» (т. е. хандра не томит). Очень интересно замечание насчет скуки праздничных затей. Будни – постоянные, праздники – изредка; на фоне однообразных будней праздники и воспринимаются как нечто яркое. Тут это яркое зачеркнуто как несущественное. О тусклых буднях речи нет. Но, получается, найдено что-то такое, что превосходит редкие примитивные праздничные радости и, отменяя праздники, наполняет будни чем-то высоким, придающим жизни смысл. Эмоциональный знак состояния Онегина кардинально изменен! Само слово-спутник «скука» демонстративно изгоняется.
Но как же быть с целым потоком сообщений? Пометы о скуке героя щедро рассыпаны на пространстве первой, второй и третьей глав романа, которые энергично писались в 1823–1824 годах, в зените духовного кризиса поэта. Уже в конце первой главы сказано, что новизны деревенских впечатлений Онегину хватило только на два дня, «Потом увидел ясно он, / Что и в деревне скука та же…» И вторая глава подхватывает заявленный мотив: «Деревня, где скучал Евгений…» Героя не смущает убогость наследуемой усадьбы, «Затем что он равно зевал / Средь модных и старинных зал». Сакраментальное слово произносит сам герой, удивляясь, что находит Ленский у Лариных: «Да скука, вот беда, мой друг». Не скучает ли Онегин больше обычного, осведомляется у него Ленский при возвращении от Лариных («Нет, равно», – следует равнодушный ответ)125. Слухи о скуке Онегина доходят до Татьяны: «Но говорят, вы нелюдим; / В глуши, в деревне всё вам скучно…» Картина получается однозначная и более чем определенная. Назойливые упоминания о скуке отшельника отменить нельзя (не замечать – преступно), но их, в свете обновления души героя в четвертой главе, достаточно плотнее сдвинуть туда, где им и место, – в самое начало поселения Онегина в наследуемой усадьбе.
Активность внутренней жизни – вот средство преодоления кризиса в душе героя. Но ведь было сказано, как отрезано: «На третий роща, холм и поле / Его не занимали боле». Это – если любование пейзажами самоцельно. Другое дело, если, бродя ставшими знакомыми тропинками, погружаться в свои мысли. Когда не перестают появляться дельные, то и окружающие картины выглядят приятнее.
Деревня становится новым этапом в жизни Онегина не с первых дней, а чуть позже, после появления нового соседа, Ленского, который в свою деревню из туманной Германии «в ту же пору» прискакал. Беседы с новым приятелем и дают мощный толчок внутренней жизни Онегина. Вновь плодотворно срабатывает привычный перу поэта принцип альтернативного мышления. С высоты четвертой главы вдруг засияла путеводными лучами первоначально промелькнувшая без особого следа строфа XVI второй главы. «Меж ими всё рождало споры / И к размышлению влекло…» – отмечает поэт. Далее темы бесед перечисляются. «Племен минувших договоры…»: всеобщий интерес к истории в те годы активно стимулировался выходом в свет томов «Истории государства Российского» Карамзина. «Плоды наук…» – безгранично широкое понятие; к тому же частные вопросы легко переходят и в проблему возможностей просвещения вообще, острую в эти годы для самого поэта. «Добро и зло…» – основные понятия этики; они важны сами по себе, но не менее важны на стыке с другими сферами – науки, политики, хозяйственной деятельности; обрести критерии разграничения добра и зла – решить важнейшую мировоззренческую проблему. «И предрассудки вековые…»: романтическое искусство (Ленский – поэт-романтик) установило эстетическую ценность народного творчества, проявило интерес к преданиям, легендам, обрядам, суевериям старины. «И гроба тайны роковые…»: вопросы смертности человека или бессмертия его души связаны с широким кругом вопросов религии и атеизма. «Судьба и жизнь…»: кто хозяин человеческой жизни – сам человек или некая вне его находящаяся сила? Это те же вопросы, что и в размышлениях о роковых тайнах гроба, только не по «ту», а по «эту» сторону. Наконец, Пушкин заканчивает универсальным обобщением: «Всё подвергалось их суду». Исчислен круг так называемых «вечных» вопросов, на которые просто обязан искать ответы каждый думающий человек. И дело не в содержании ответов: таковые будут индивидуально варьироваться. Само размышление на подобные темы, когда возникает к ним подлинный интерес, – нескучное дело. Замечательно, что не вдруг произошедшее отрешение от кризиса оказалось основательно подготовленным.
Вот и еще один чрезвычайно значительный парадокс в богатом на парадоксы «Евгении Онегине». Рисуя в первой главе молодого человека с психологическими странностями, поэт опирается на свой прием альтернативного мышления. Здесь он особенный, уникальный: состоит всего из двух, но зато контрастных объяснений, почему герой прервал светский образ жизни. Здесь необычно то, что оба (несовместимые!) объяснения оказываются истинными: в первой главе преждевременная старость души – результат первоначального замысла поэта. В четвертой главе пресыщенность героя – результат удлинения его биографии.
Вероятно, Пушкин обратил внимание, что включение в перечень контрастных объяснений нуждается в мотивировках, а они бывают излишними в повествовании в стихах. Поэт находит новое решение. Он не отказывается от альтернативного мышления, склонного к поиску контрастов, но уходит от формы перечня; контрастные суждения даются не в связке, а автономно.
Результат для поэта, пожалуй, оказался неожиданным. Альтернативный подход (под другим названием) увидел Л. В. Пумпянский, но его наблюдение не получило большой поддержки. Разобщенные контрастные суждения поэта не осмыслены до сих пор.
Показывая деревенскую жизнь Онегина, Пушкин отсекает побочные обстоятельства, которые могли бы дополнительно скрашивать жизнь героя. Изменение состояния Онегина происходит на фоне «красных летних дней». Но тут же поэт фиксирует, что «наше северное лето» быстротечно, «мелькнет и нет», переходит к описанию осени и нарочито сгущает краски. Пушкинские признания в любви к осени широко известны; не на слуху, что случилось это не изначально. «Весной, при кликах лебединых, <…> Являться муза стала мне». Зато осенние ассоциации долгое время были печальными. Четвертая глава романа отразила первоначальную тенденцию. Осень здесь удостоена минорных восклицаний. На целую строфу развернута серия откровенно ироничных советов «кой-как» заполнить однообразное медленное время. (Впрочем, это барская проблема; кому круглый год дел невпроворот <как и поэту!>, скучать некогда: «На нивах шум работ умолк» – «В избушке распевая, дева / Прядет, и, зимних друг ночей, / Трещит лучинка перед ней»). Тем показательнее, что Онегин не скучает даже глухой осенью, когда «приближалась / Довольно скучная <для всех!> пора». Именно после авторского восклицания: «В глуши что делать в эту пору?» – следует описание умиротворенного состояния Онегина.
Прямым Онегин Чильд Гарольдом
Вдался в задумчивую лень:
Со сна садится в ванну со льдом,
И после, дома целый день,
Один, в расчеты погруженный,
Тупым кием вооруженный,
Он на бильярде в два шара
Играет с самого утра.
Правда, тут желательно еще акценты расставить верно. Если они на бильярде – скука Онегина получает гротесковое выражение. Но кий в руках героя – просто небольшой стимулятор внутренней энергии. Это не спортивное увлечение: Онегин вряд ли считает, сколько шаров он забил сегодня в сравнении с тем, сколько забил вчера. Главным надо, конечно, признать первое: «в расчеты погруженный». И это, в свою очередь, не означает буквальное (один из ироничных советов – «проверяй расход»); расчеты – надо читать: раздумья. Указание на сосредоточенную духовную жизнь героя – факт чрезвычайной важности.
Но и здесь поэт как будто специально не делает изображение слишком ясным. Там, где много сказано, он притеняет сокровенное иронией. Само сближение соседей предварено ироничным замечанием автора, что их дружба возникает «от делать нечего», и к авторской иронии должно отнестись с доверием (она прогнозирует драматический финал недолгой дружбы героев). Звонко зазвучало исчисление идеологических споров Онегина и Ленского – тут же следует ограничительное понижение: «Но чаще занимали страсти / Умы пустынников моих». Там, где легко можно было бы сделать уточняющий акцент, поэт уводит повествование в сторону: в четвертой главе непосредственная картина встречи героев дана в сниженном плане; разговор минует высокие материи, носит сугубо бытовой характер, Ленский замкнут на мыслях об Ольге. Этот фрагмент писался уж точно после вести о 14 декабря; для разговоров о высоких материях время наступало явно неподходящее. Впрочем, надо считаться и с повествовательными возможностями жанра. Исчисление тематики разговоров уместилось в строфу – и благо. В прозаических романах развернутые интеллектуальные диалоги героев – прием обычный. Но в романе в стихах невозможно представить себе главу, состоящую из философского разговора.
Оборвала непродолжительный умиротворенный образ жизни Онегина в деревне ссора и роковая дуэль с Ленским. Воспринимается достаточным, убедительным объяснение, почему Онегин едва ли не в панике покинул усадьбу: «окровавленная тень / К нему являлась каждый день». Это суждение поэта, не чужака-недоброжелателя. Но Пушкин не оставляет альтернативного подхода к описанию! В письме к Татьяне сказано именно иное, контрастное: «Несчастной жертвой Ленский пал… / Ото всего, что сердцу мило, / Тогда я сердце оторвал…»
А тут еще один сильный аргумент против устойчивой концепции сохраняемой монопольной скуки Онегина в деревне. И что же ему «было мило»?
«Ото всего» означает не что-то одно, а многое. На первое место можно поставить споры с Ленским. Они – не ради приведения взглядов новых приятелей к единству. Это невозможно из-за разницы характеров и позиций. Но споры в заглавном герое заново пробудили интерес к жизни. Растревоженная совесть Онегина не позволяет продолжить начатое, а оставленного жаль.
Все-таки надо признать мысль Онегина ленивой. Да, Ленский опрометчиво решил, что на именинах Татьяны будет «своя семья», а скопилась куча «всякого такого сброду». Великодушия Онегину не хватило, он «надулся», «поклялся Ленского взбесить». Ухаживанием за Ольгой этого добился.
Заметив, что Владимир скрылся,
Онегин, скукой вновь гоним,
Близ Ольги в думу погрузился,
Довольный мщением своим.
Эта скука полностью ситуативна и легко вытесняется привычным способом, раздумьем. Думы героя не угадать, но одно можно утверждать определенно: они уводят хозяина за пределы ларинской залы. Только как раз им тут очень надобно было бы задержаться. Ленский покидает дом Лариных с обидой, которая гасится только дуэлью. Поступок легко угадываемый. Скучая близ Ольги, Онегин не утруждает себя обдумыванием последствий своей мести. Его мог бы насторожить и визит Зарецкого, поскольку известно хобби «старого дуэлиста», но забывчивый мститель и тут не догадался о подоплеке визита. Онегин тяжко переживает свою оплошность, но исправить ее уже будет не в силах.
Пусть скука, а после убийства друга в более высокой концентрации – тоска обрамляют, берут на кольцо деревенскую жизнь Онегина: срединному взлету нужно отдать должное. Читая «Евгения Онегина» и обдумывая прочитанное, надо очень многое держать в памяти, оценивать каждую деталь с разных сторон, пытаясь вписать эти детали в цельное представление; неизбежна корректировка первоначальных впечатлений. Давайте воспользуемся доверием поэта, который связующие узлы оставил на осмысление читателя. Учтем и своеобразие работы Пушкина над романом: многое обдумывалось в самом процессе создания произведения, все акценты заранее расставить было невозможно, а задним числом давать слишком внятные разъяснения поэту не захотелось.
Подчеркнем: деревня – чрезвычайно важный этап в жизни Онегина. Здесь герой в полный рост: и в блеске скептического ума, и с душевной черствостью. Здесь он наиболее естествен и находит замену счастью.
Хронологически деревенский период жизни заглавного героя весьма краток, умещается в половину года. Сюжетно же это вся сердцевина повествования, со второй по шестую главу, и даже седьмая глава, без Онегина, продолжает (через описание его опустевшего кабинета) рисовать деревенского Онегина. И заявку на «деревенскую» тему содержит уже экспозиционная первая глава. Но тем самым понять героя центральных глав, основного объема романа, не просто привычно скучающим и хандрящим, а живущим полнокровной и внутренне насыщенной духовной жизнью означает качественно иное представление о пушкинском герое и общем рисунке его эволюции.
В четвертой главе перед нами новый герой, на новом этапе своих поисков. Главное – вытеснена и отторгнута хандра. Герой занялся осмыслением важнейших мировоззренческих проблем.
Обратим внимание еще на некоторые детали. Четвертая глава пошла в ход во второй половине октября 1824 года. Писалась медленно: ее оттеснял, выйдя на первый план, «Борис Годунов». Когда Пушкин описывал дни Онегина, летний и осенний, он мог поглядывать в окно своей усадьбы в Михайловском летом и осенью 1825 года. Но важнее натуры (в общем-то типовой, вроде бегущей под горой реки) была натура историческая. Благодаря визиту Пущина Пушкин фактически узнал о существовании тайного общества и тогда же, хоть и бегло, познакомился с «Горем от ума». Переосмысление героя происходило у Пушкина по внутренним причинам, но кстати пришлась и комедия Грибоедова, поспособствовав поднятию уровня Онегина. Он и Чацкий остаются разными, но два интеллектуала в чем-то дополняют друг друга.
Память сердца против памяти рассудка
1
В разделении приемов изображения, психологического и общественного, уместно использовать наглядный тематический принцип. Он не совпадает, но близко подходит к содержательному принципу, о котором выразительно написал старший современник Константин Батюшков:
О память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной…
Память сердца стремительна, основана на оценке нравится / не нравится, причем оценка в доказательствах или хотя бы в мотивировках не нуждается. Идеальный случай – когда зовы сердца и рассудка совпадают. Но ум с сердцем часто бывает не в ладу. Предстоит рассмотреть очень непростые, а главное – подвижные сочетания.
Будем считать, что главная сфера интересов памяти сердца – интимное, сокровенное, но и все, что вызывает одобрение по факту, без мотивировок. (Пример: «Она любила на балконе / Предупреждать зари восход…»). Область интересов памяти рассудка не регламентируется, рассудок претендует и на вмешательство в дела сердечные.
В письме Онегина Г. А. Гуковский увидел и перифразы, и смягчения выражений, и «некий страх резкого и прямого слова о большом чувстве», и «долгие подступы к теме», а в них – «непреодоленную привычку» салонного жеманства126. Суровых оценщиков письма наберется много. Но никто из исследователей не углядел воспоминания о красноречивом обмене взглядами.
Вот оно: «Случайно вас когда-то встретя, / В вас искру нежности заметя…» И ведь Онегин проницателен и точен.
В авторском описании сцена визита героев к Лариным уместилась в одну строфу, да и та печатается в неполном виде. О поведении героев можно судить, собирая детали по крупицам из разных источников. Равнодушный к Татьяне Ленский сравнивает ее со Светланой: бледна, молчалива. «Вошла и села у окна». Похоже, в общих разговорах не участвовала. А героиня о своих чувствах признается в письме: «Ты чуть вошел, я в миг узнала, / Вся обомлела, запылала…»



