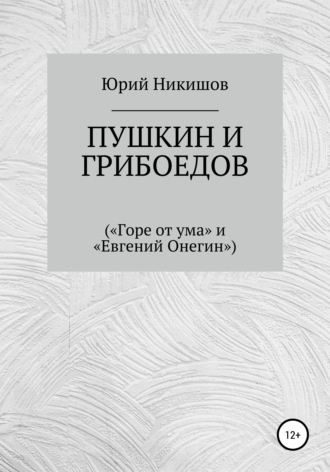
Юрий Михайлович Никишов
Пушкин и Грибоедов («Горе от ума» и «Евгений Онегин»)
Поэт умеет отличать поправимое от непоправимого: «надеюсь на коронацию: повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна» (Вяземскому, 14 августа 1826 года). В итоговом «Памятнике» в число своих заслуг, обеспечивающих ему долгую память в народе, поэт включает: «милость падшим призывал». Это о чем? О том, что всеми силами до конца ратовал за амнистию каторжникам.
Ныне стало модным писать о благодеяниях царей. Вот и тут. Ну, смутьянов – в Сибирь, зато поэту простили его «нехорошие» стихи и высказывания, вернули из затянувшейся ссылки. Правда, тут же (в попутный подарок?) запретили чтения «Бориса Годунова». А еще (в проверку, насколько исправился?) дали поручение написать записку о народном воспитании. Бенкендорф комментировал царское поручение: «…вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить ваши мысли и соображения»; но особо подчеркивалось: вы же «на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания». Каково: «совершенная и полная свобода» – осудить «пагубные последствия»… Это ли не прямое издевательство?
А что Пушкин? Выделю неделовую деталь. Когда поэт называет каторжников друзьями, братьями, товарищами, он делает это в письме к близкому другу, Вяземскому; все естественно, доверительно. Но та же фраза – в тексте для царя! «Вероятно, братья, друзья, товарищи погибших успокоятся временем и размышлением, поймут необходимость и простят оной в душе своей». Текст перевернут. Теперь эта фраза о тех, кто здесь. Но ведь это значимо! Участников движения правительство распределило по разрядам и соответственно наказало. Проблема исчерпана? Ничуть, считает поэт, ибо дело в идеях. У пострадавших есть родные и близкие (т. е., можно предполагать, уцелевшие единомышленники). Какая дерзость: только как надежда (без гарантии, что будет реализована) высказывается предположение, что будет прощена жестокость приговора! Поэт уповает на благоразумие уцелевших, но и умению рассуждать надобно учить, а это как раз сфера воспитания и образования. Установка царя примитивна: служить и не рассуждать. Так что записка поэта удостоилась фраз казенного одобрения, а замечаниями ему по сути «вымыли голову».
Преобразование романа о современности в исторический роман о современности, да еще с плохо скрываемым сочувствием оппозиционерам, оказалось задачей невероятной сложности. Она была успешно решена ценой колоссального напряжения.
Роман в стихах дописала жизнь. Разгром декабристов стал исторической вехой, сама жизнь поделилась на до и после 14 декабря. Выяснилось, что «Евгений Онегин» попал в хронологические рамки исторически важной эпохи, ознаменованной широким общественным движением как следствием патриотического единения нации в Отечественной войне 1812 года; тайные общества декабристов предстали лишь его вершиной; легальный околодекабристский слой был весьма широким.
Декабристская тема романа в стихах – реальность, и нет оснований ее игнорировать. Онегин дорисован «без них», но – с думами поэта о них. Если есть проблема, ее надо изучать! Если мы хотим понять Пушкина, без темы декабристов не обойтись. «Мысли о декабристах, то есть об их судьбе и об их конце, неотступно преследовали Пушкина. <…> Пушкину не надо было их вспоминать: он просто их не забывал, ни живых, ни мертвых»177, – писала социологизмом не грешившая Анна Ахматова. «После казней и ссылок в 1826 году Пушкин остро пережил новую вспышку чувства солидарности с декабристами»178, – выделяет Ю. М. Лотман.
Произошло необычное. Предполагаемая, привычная для Пушкина альтернативность (вариативность), так характерная для манеры поэта, для финала романа внезапно сузилась, предстала безальтернативной, именно декабристской: тут сама история не оставила места на выбор, и встречно сработала ориентация романа на «открытое» время.
Такое решение оказывалось слишком терпким в реальной общественной ситуации, а поэт не может от него отказаться: оценим мужество художника. Декабристская тема предстала кровно необходимой, просто монопольной, а у властей она оказалась под строгим запретом. Поэту приходилось разграничить общий содержательный пафос романа, его стратегическую установку – и конкретные пути, формы реализации замысла, тактический выбор. Первое выбрано твердо, неуклонно. Второе вынуждено считаться с обстоятельствами, характер которых поэту еще предстояло уяснить. В итоге (при сохранении единства содержательной установки!) можно говорить, как минимум, о четырех вариантах окончания романа. (Привычка мыслить альтернативно, выгнанная в дверь, вернулась через окошко).
Первый, «первоначальный» вариант концовки, или план-максимум, – замысел романа в двенадцати главах, с включением декабристской темы в сюжет. По свидетельству М. В. Юзефовича, вариант отвергнут к лету 1829 года. В советские годы этот вариант воспринимался основным, не реализованным исключительно по цензурным условиям. Это явный перегиб, желаемое выдавалось за действительное. Принятое поэтом решение об отказе от этого замысла надобно уважать. Но и демонстративно предавать реальный факт забвению недопустимо.
Вторым вариантом финала стала реальная рукопись, завершенная в Болдине, – с прибавлением к опубликованным двух последних глав, восьмой и девятой. 26 сентября 1830 года Пушкин составил оглавление романа в составе трех частей и девяти глав. Поэт воспринимал работу над своим любимым детищем законченной. Этот вариант нам известен не полностью, поскольку завершенным текстом первоначальной восьмой главы мы не располагаем.
«Осьмая глава» («Странствие») таит загадку: была ли она написана полностью или только частично. Ю. М. Лотман, основываясь на изучении рукописей и рассмотрении «самих сохранившихся строф», усомнился в наличии завершенного текста восьмой главы («Путешествия»). Исследователь полагает: «Видимо, у Пушкина был какой-то обширный, но вряд ли завершенный окончательно текст главы, когда он отказался от мысли о ее полном включении и прекратил работу над ней»179. В пользу такого соображения можно добавить ряд аргументов. Прежде всего, это вызывающая удивление легкая готовность Пушкина «осьмую главу… вовсе уничтожить и заменить одной римской цыфрою…» уже в ноябре 1830 года. Настораживает сам параллелизм в работе поэта над двумя главами, восьмой и девятой. Наконец, никто из современников Пушкина такой восьмой главы в полном виде не читал или в чтении поэта не слышал. Катенин, которому мы обязаны сообщением о факте посещения Онегиным аракчеевских военных поселений, сам соответствующих строф не читал: он лишь «слышал… от покойного в 1832-м году»180 пересказ эпизода, информацию о его содержании – не более того. А. И. Тургенев в письме к брату Николаю от 11 августа 1832 года ссылается на поэтический текст, но оговаривает, что поэт читал ему «только отрывки».
Всего этого так много, что гипотеза о незавершенном характере восьмой главы приобретала бы очертания факта, однако есть и противоречащие ей данные. Во-первых, это упоминавшееся оглавление романа в составе девяти глав. На том же листе Пушкин обозначил даты начала и завершения работы, подсчитал, что писал «Онегина» 7 лет, 4 месяца, 17 дней. Скрупулезность подсчета гарантирует, что поэт полагал включенное в оглавление «Странствие» завершенной главой. Но обе последние главы были в тот момент в черновике; все онегинские черновики еще очень далеки от завершенного текста. Во-вторых, здравица роману в составе девяти глав содержится в одной из заключительных строф, опущенной и частично восстановленной в предисловии к «Отрывкам из путешествия Онегина»: «Я девять песен написал», «Хвала вам, девяти Каменам…» Но этот аргумент не вполне надежный: в черновиках девятой главы этой строфы нет. Не написаны ли эти строки позднее – специально для предисловия к «Отрывкам…»?
Версии о завершенном и незавершенном виде последних глав ничуть не перечеркивают друг друга! Различается не содержание оценок явления, а подход к его пониманию; вот он действительно осуществляется с разных сторон. Пушкин ставил даты окончания работы над главами в черновиках, видимо, считая доработку (создание беловой рукописи) уже делом техническим. Но восьмая глава окончательного текста, по оценке – «готовая в печать», дорабатывалась и в печать проводилась более года! Можно не сомневаться, что полный текст «Странствия» существовал, но в черновом (значит, в недоработанном) виде; вот полная беловая рукопись главы вряд ли была создана. Можно констатировать, что в Болдине Пушкин достиг желанного берега; в то же время судьба финала романа оставалась неясной. Уже в Болдине начались колебания в возможности и необходимости публикации «Странствия».
Пушкин страстно мечтал вернуть меч пострадавшим «друзьям, братьям, товарищам». Слишком велика была ставка, чтобы терять надежду. Но Пушкин не был рабом иллюзий. Вот почему уже к концу болдинского пребывания возникает мысль о двух вариантах концовки – для печати и не для печати; проект предисловия – достаточное тому подтверждение.
Третий вариант – это финал с исключением восьмой главы и с добавлением главы десятой (вариант «не для печати»). Вяземский записал в дневнике, что Пушкин девятой главой роман «кончает», но «из 10-й, предполагаемой, читал… строфы о 1812 годе и следующих. Славная хроника»181. Явное противоречие записи снимается лишь предположением, что Пушкин девятой главой «кончает» роман для публики, а десятую предполагает написать (уже начал писать) «не для печати». Но существует версия, что десятая глава специально и не писалась, а материалом для нее послужили нецензурные строфы главы «Странствие»182.
Можно уверенно предполагать, что второй и третий вариант по материалу не слишком отличаются, в существенной степени (если не полностью) совпадают: меняется композиционный способ включения в роман этого материала. Вариант с исключением восьмой главы и обозначением ее лишь цифрою проходит в раздумьях поэта; он не слишком удобен. Еще более неудобен вариант с десятой главой, поскольку она оказалась лишенной сюжетного стержня.
Вполне вероятно, что Пушкин так или иначе пришел бы к единственному построению финала – тому, который мы и видим в итоговой, опубликованной поэтом конструкции – в составе восьми глав, но с публикацией фрагментов опущенной главы. Опубликован вариант «для печати», а он оказался гибридным, соединив замыслы второго и третьего вариантов. Но можно себе представить, что если бы жизнь Пушкина продлилась, если бы ему довелось дождаться чаемого им события – амнистии декабристам (что означало бы исключительно важное в конкретном случае снятие запрета с декабристской темы), то была бы возможна публикация «Отрывков из путешествия Онегина» в расширенном виде, с добавлением того, что пока было «не для печати». Композиционная структура романа прояснилась, поэт приступил к его завершающей отделке и публикации: место возможным добавлениям определилось, но роман – в принципиальном звучании – обошелся и без них.
Оценим, что все варианты окончания романа объективно не для цензуры: разница только в степени политической остроты, но не в существе. Включение Онегина в число декабристов (вариант воспоминаний Юзефовича) означало бы непосредственное изображение стана декабристов – задача цензурно не разрешимая. Не цензурен вариант с десятой главой со строками про плешивого щеголя и цареубийственный кинжал. Мотивировка изъятия ряда строф первоначальной восьмой главы, по свидетельству Катенина, – «замечания, суждения, выражения, слишком резкие для обнародования…»183, прямым словом говоря, именно цензурные соображения.
Пушкин предназначал роман для печати, и автоцензура отвергала некоторые варианты уже на стадии замысла. Но часть терпкого текста была создана просто потому, что это и так хотелось сказать; хотя бы осколки одного фрагмента дошли до нас, сохраненные в криптограмме; отбор, что можно и чего нельзя было напечатать, производился позже, с учетом складывавшейся обстановки. Все равно закономерен вопрос: почему же в пору завершения романа Пушкин так несдержан – не тактически, разумеется, поскольку острые варианты поэт в цензуру не представлял, но хотя бы поэтически, творчески?
Ответ надо искать в самом содержании финала романа: все его варианты носят декабристский характер, разница опять-таки только в степени развертывания и прямоты реализации темы. Вне освещения декабристской ситуации (полнота варьировалась) Пушкин концовки романа не представлял – поэтому он так настойчив, непреклонен, попросту неосторожен. Декабристской темой поэт дорожит, надо полагать, по совокупности причин: по велению долга – как памятью о пострадавших во имя общего блага близких друзьях и по закону художественности: тема декабристов прочно привязывает «исторический» роман о современности к этапному событию новейшей истории. Очень может быть, что упорство поэта подогревается чувством вины перед декабристами за холод строки «Стансов» насчет мятежей и казней. «Стансы» не отменяются: их пафос обращен в будущее, а не в прошлое. Все равно упомянутая строка чувствительно задевает декабристское братство. Онегинский финал компенсирует холод «Стансов»: обращенные к пострадавшим друзьям строфы пропитаны теплым чувством.
Есть необходимость настаивать: в четвертом, окончательном варианте финала с неизбежным ущербом, но поэт сохранил тему, без которой нельзя было обойтись. Сработала «дьявольская разница» между романом и романом в стихах: роль поэтической темы неизмеримо возрастает. В печатном тексте ту тяжесть, которую несла острая в политическом отношении первоначальная восьмая глава, приняла, пусть в ослабленном виде, итоговая восьмая глава.
Поэт не пренебрег и косвенными, легальными путями.
5
Сработала перекличка дат. 14 декабря – прямое следствие героического 1812 года. Был момент национального единства, что и обеспечило победу над грозным завоевателем. Был, да прошел. Россия выступила защитницей реакции и во внешней политике (Священный союз), и во внутренней (аракчеевщина). Был выбор, поддержать или осудить такую позицию; декабристы объединились в попытке борьбы за обновление отечества.
Пушкин, рисуя сугубо бытовые картинки, умеет описание, нейтральное в отношении к политике, насыщать более широким смыслом. Лариным понадобилось приехать в Москву на ярмарку невест. Весной 1827 года в Москве и Петербурге «Пушкин написал строфы, посвященные описанию Москвы»184. Исполнялось 15-летие Бородинской битвы. Пушкин воспользовался этим случаем, чтобы восславить древнюю столицу, не склонившую гордой головы, и фрагмент этот опубликовал в журнале.
«Евгений Онегин» – произведение с «открытым» временем с самого начала: отсылки к историческому времени, идущему параллельно с временем сюжетным, здесь ощутимы. Исторические реалии вошли в повествование буквально со второй строфы романа; история как предмет авторских раздумий появляется в седьмой главе: панорама Москвы вызывает важные исторические воспоминания. Вместе с картиной великого московского пожара в седьмой главе «Онегина» предстает обновленный принцип историзма. «Новое время пришло с ощущением истории как закономерного процесса, в котором действуют причинно-следственные связи, что породило исторический подход и к современной действительности…»185.
Почему этому повествовательному эпизоду принадлежит столь важное значение? Не потому, что он существен по объему (этюд о ножках в первой главе объемнее), даже не потому, что он дает отсылку к твердой дате, тогда как многие отсылки подвижны (т. е. имеют, пусть небольшие, рамки диапазона, когда год на год похож, и уточнение, в каком именно году происходит изображенное, не обязательно), но потому, что в роман включается событие, которое постепенно было осознано как эпохальное; таким оно и закрепилось в нашей истории.
Проникнемся чувствами поэта, перечитывая этот фрагмент:
Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
«Вот уж близко» – это восклицание можно воспринимать и как несобственно-прямую речь героев, утомленных долгим путешествием, и как речь автора, сочувствующего – в связи с тем же обстоятельством – своим героям. Выражение «перед ними» конкретизирует точку обзора: картина как будто дана взглядом из возка Лариных. Но повествование идет в форме авторского монолога, почему и можно говорить о соединении точек зрения автора и героев.
Возникшее единение, однако, весьма непрочно. Неожиданно и резко происходит обособление авторского голоса:
Ах, братцы! как я был доволен
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Поворот совершается существеннейший. Предполагалось, что картина дана общая, доступная взорам всех приезжавших в Москву (с северо-запада) и «утепленная» присутствием героев («перед ними»), однако эмоции выражены подчеркнуто личностным образом («предо мною»). Это голос лирического автора, самого поэта: именно в Москве получил свободу «ссылочный невольник».
Благодаря порыву авторского чувства и сам по себе реальный московский пейзаж на время отстраняется, пространственные ограничения уничтожаются, Москва из реального объекта созерцания превращается в объект раздумий, не зависимый от места восприятия:
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Переходя от созерцания к обобщению, поэт ощущает сковывающую ограниченность личного голоса, и в финале строфы лирический автор передает эстафету автору лиро-эпическому:
Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!
И следует ключевая строфа:
Вот, окружен своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с поникшей головою,
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Смотрел на грозный пламень он.
В конкретном описании проступает лик самой Истории: именно она картиной памятного московского пожара вступает на страницы романа. И как душевно это сделано: Москва – моя. Вот и личное общему не помеха. Еще важнее – личное может становиться историческим; «Евгений Онегин», роман о современности, становится историческим романом о современности. Более того: открытое время повествования из фона превращается в обстоятельства, существенно корректирующие виртуальное.
Стремительно нарастал исторический материал в финале «Евгения Онегина», особенно в строфах, относимых к так называемой десятой главе. Сохранившиеся фрагменты наглядно свидетельствуют о том, как сюжету могла бы аккомпанировать история:
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
«Грозе двенадцатого года», в «Евгении Онегине» впервые возникшей в потоке авторского времени при включении в роман сюжетного московского эпизода, предназначалось повториться, вновь в потоке авторского времени. Сейчас не будем уточнять, в каком месте это предполагалось сделать. Хотя бы фрагменты крамольных строф, по счастью, сохранились: они дают представление о том, как стремительно нарастала роль исторического фона в концовке романа. Вяземский, которому поэт прочел не обрывки строф, а сами строфы, назвал этот материал «славной хроникой». Хроника эта замечательна: она не констатационная, а аналитическая.
Гроза двенадцатого года
Настала – кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?
Но бог помог – стал ропот ниже,
И скоро силою вещей
Мы очутилися в Париже,
А русский царь главой царей.
Любопытно: во втором фрагменте интонация меняется с вариантно-вопросительной на утвердительную, а альтернативность мышления поэта сохраняется: мы очутились в Париже – божьей помощью или «силою вещей»?
А главное – поставлено в прямую связь одушевление людей от защиты Отечества к жажде перемен.
Россия присмирела снова,
И пуще царь пошел кутить,
Но искра пламени иного
Уже издавна, может быть…
Для включения в сюжет изображения этого события была невозможность абсолютная, но оно включено не только в рукописные варианты – даже и в печатный текст романа: увидим и эту косвенную дань уважения «грозе двенадцатого года», породившей и это движение.
Связь двух значимых дат (1812 и 1825) Пушкин осознавал исключительно остро. Поэт не удаляется в прошлое. Он впервые показал, как современность становится историей.
Пушкинский роман полифоничен. Поэт воспел исторический пожар белокаменной. Потом переключился на бытовые картины. И здесь немалый диапазон. Подвижность точки обзора принципиально существенна в «Евгении Онегине». Вот и здесь: мы видим мир глазами самих участников, с точки зрения тех отношений, которые их самих вполне устраивают. Какие претензии: «Родне, прибывшей издалеча, / Повсюду ласковая встреча…» И ведь-таки «пристроили девушку»; по их понятиям, очень даже удачно… Мы видим мир глазами Татьяны и вместе с ней мучимся, не в силах не откликнуться участием на добро, хотя бы субъективное добро, но и не в силах принять это добро как истинное добро. Наступает пора, когда происходит перелом. Казалось бы, ничего не переменилось: зрительно перед читателем продолжает развертываться та же самая панорама. Фактически это лишь блестящая иллюзия непрерывности. А что же, собственно, переменилось? Вероятно, освещение: стали резкими свет и тени, стерлись румяна, прорезались складки и морщины. Чуть-чуть смещены линии: портретно точное изображение превращается в шарж.
Но в них не видно перемены;
Всё в них на старый образец…
А кто это распознает «старый образец»? Ответ очевидный: это вновь обозначился активный автор-рассказчик. А причем здесь «образец» – ведь московская картина появляется впервые (упоминаний второй главы для сравнения недостаточно). Ю. М. Лотман видит здесь «очевидную ориентацию Пушкина на изображение Москвы в комедии “Горе от ума”…». Гипотеза убедительная, но проведена она некорректно: «тон седьмой главы существенно отличается от тона комедии. Формально (“по календарю”) действие происходит в 1822 г., но время описания сказалось на облике изображаемого мира: это Москва после 14 декабря 1825 г., опустевшая и утратившая блестящих представителей умственной жизни»186. Тона главы и комедии действительно отличаются, но потому, что в романе две Москвы, героическая и бытовая, а в комедии только бытовая. Зато в изображении быта Пушкин действительно берет комедию за образец. На то и консерватизм, чтобы не замечать движения времени.
6
Если сюжетно «Евгений Онегин» развертывается как драматическая история любви героев, то содержательно он развертывается как роман идей. В идейном отношении не герой, хотя бы и заглавный, но автор завершает роман и завершает его не в каком-либо ином, но именно в декабристском духе.
Восьмая глава открывается развернутым на шесть строф автопортретом: Пушкин сам определяет вехи своего творческого пути. Сделано это с исключительной обстоятельностью. Поэт блестяще воспользовался находкой уже давнего стихотворения «Наперсница волшебной старины…» (1822), где муза изображалась добрым пестуном и к ребенку являлась в облике веселой старушки-няни, а к отроку – обаятельной прелестницей. Теперь дается развернутый ряд визитов музы, где она последовательно принимает облик героинь пушкинской поэзии.
Отношения поэта с музой в восьмой главе предстают и нейтрально, когда не различить, кто ведущий, а кто ведомый: «муза в ней (студенческой келье) / Открыла…»; «в саду моем / Явилась…» Обернувшись Ленорой, единственный раз навязывает свой выбор: «Она меня… / Водила слушать…» В иных случаях проявляет свою активность поэт: «Я музу резвую привел…»; «И ныне музу я впервые / На светский раут привожу…» У поэта нет конфликта с его музой, так что обозначения его отношений с музой варьируются или нейтрализуются, но даже у «ведомого» поэта нет отказа от своего вкуса, насильственного подчинения воле со стороны; тут помечается только инициатива, а шествуют поэт и муза всюду дружно.
Особо хочу выделить очень важное в плане нашего разговора звено автопортрета, строфу III, куда поэт за собой (не наоборот) ведет свою музу.



