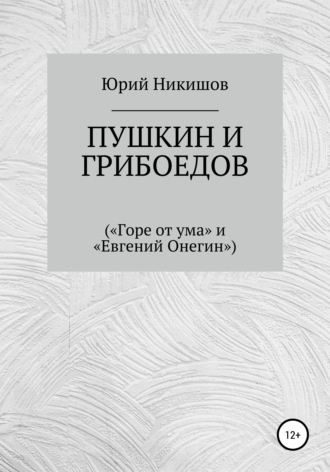
Юрий Михайлович Никишов
Пушкин и Грибоедов («Горе от ума» и «Евгений Онегин»)
Татьяна (конечно же, надеясь на лучшее) в своем письме все-таки учитывала возможность двойной реакции героя:
Надежды сердца оживи,
Иль сон тяжелый перерви,
Увы, заслуженным укором!
Но это акция вежливости. Онегин предстал перед ней в его обаянии – и не порадовал взаимностью. Умом она понимает: он поступил с нею «благородно»; тем не менее считает его выбор несправедливым. Сердце страдает, но поправить этим ничего нельзя. Довольно абстрактные объяснения героя вряд ли были ею поняты. Душа Онегина открылась (хотя бы приоткрылась) ей в его покинутом кабинете. Нет надобности преувеличивать это знание, нет возможности его конкретизировать. Но Татьяна, для которой любовь была главной ценностью жизни, поняла самое важное: любовь – не единственная ценность в духовном мире каждого человека, бывают иные предпочтения.
Значение онегинской школы для героини абсолютно точно определено Белинским: «Итак, в Татьяне, наконец, совершился акт сознания; ум ее проснулся. Она поняла наконец, что есть для человека интересы, есть страдания и скорби, кроме интереса страданий и скорби любви» (с. 497).
Именно так! Вот теперь Татьяне станут понятны онегинские слова: «Но я не создан для блаженства; / Ему чужда душа моя…» – раньше они не могли восприниматься иначе, как нелепость, фраза. Выходит, герой перед ней не лукавил: иерархия ценностей индивидуальна и разнообразна. Духовное, хотя и заочное общение Татьяны с Онегиным преобразовало ее любовь. Теперь Татьяна не только поймет, но и примет образ мыслей Онегина – другие «страдания и скорби, кроме интереса страданий и скорби любви».
Если раньше, до этого момента, Татьяна в глубине души, вопреки прямому отказу Онегина от ее любви, даже самой себе боясь признаться в этом, все еще на что-то надеялась (в ночь после именин эта надежда, даже в худшей форме, выплеснулась наружу), готовая погибнуть, считая гибель от него любезной, то теперь она сознательно и отрешенно переступает черту. Она становится одновременно близкой Онегину и бесконечно далекой от него. Онегин и не подозревал, какую трагическую пропасть между ними он разверзает, предлагая Татьяне любовь брата. Она и стала его сестрой. Но теперь другие отношения между ними невозможны. Татьяна по-прежнему продолжит любить Онегина, но эта любовь задвигается в тайники души, чтобы существовать для нее одной; отныне она исключительно духовна и будет избегать даже малейшего выражения в поступке.
Продолжая любить героя, Татьяна освобождает себя от нравственных обязательств перед ним. Теперь, и только теперь, и только поэтому перестает осознаваться как измена любимому брак с другим. Татьяна изменилась не тогда, когда вышла замуж и стала княгиней: это перемены внешние. Их бы тоже не было, если бы в Татьяне перед тем не произошли перемены внутренние. В понимании Татьяны брак без любви не являлся нарушением нравственной нормы: это закрепленное традицией выполнение долга. Видимо, можно сказать больше: брак без любви в сознании героини, где-то в запасниках, сохранял, конечно, не сравнимые с ценностями брака по любви, и все-таки некоторые ценности. Но для этого надо иметь сердце спокойное, а если в нем любовь к другому? Правда, Онегин сам отказался от этой любви и даже советовал полюбить «снова». Татьяну не связывают обязательства перед Онегиным, однако тут нужно переступить через собственный внутренний запрет. Теперь смирение «души неопытной волненья» становится возможным. Как Онегин, она будет искать интересы жизни вне любви; будет помнить и завет няни: «Так, видно, бог велел». «Посещения дома Онегина и чтение его книг приготовили Татьяну к перерождению из деревенской девочки в светскую даму, которое так удивило и поразило Онегина» (Белинский, с. 498).
Татьяна предчувствовала несовместимость идеала и практической жизни. Появление Онегина внесло смятение в ее жизнь, поманило надеждой жить по книжному идеалу, но герой не поддержал ее надежду. Татьяна, обновив идеал, ушла в обычную жизнь, не обольщаясь на ее счет; прежнюю половинку идеала она сохранила в душе своей как согревающий ее огонек.
Если Татьяна идет от книжного идеала к «живой жизни», то Онегин, пресыщенный прозой жизни, мечтает об идеале (и успевает найти идеал в другой сфере); главным образом героев разделяет содержание их поисков, но имеет свое значение и побочное обстоятельство – что счастью героев помешало отсутствие синхронности целей в поисках. Татьяна (любя Онегина!) не ответила на его возвышенную любовь. Любовь Онегина опоздала не только потому, что Татьяна вышла замуж, а еще и потому, что Татьяна изменила свои убеждения.
Что происходит во внутреннем мире Татьяны в то время, которое отмечено резким внешним переходом от провинциальной барышни к знатной даме? Натура Татьяны обнаруживает стойкость. Главное – сохраняется ее «двоемирие», только перестраиваются его компоненты.
Значительно раздвигает рамки и тем увеличивает свое значение реально-практический мир. Татьяне-княгине надо выезжать в свет, принимать у себя светских знакомых. Если в деревне Татьяна связана с реальным миром минимально и (применяя к Татьяне авторское словцо об Онегине) «нечувствительно», то теперь бытовая жизнь тяжела для нее, «постылой жизни мишура» ее томит. И все-таки Татьяна идет на компромисс и без видимых усилий выполняет пунктуально и безупречно все свои светские и семейные обязанности. Что дает ей силы для постоянного самообладания, понять нетрудно.
Татьяна осталась человеком романтического мировосприятия, ее прежний романтический мир потеснен в объеме, но не разрушен. Когда «младые грации Москвы» «в отплату лепетанья» про свои и чужие сердечные тайны требуют ответного признанья, Татьяна
…тайну сердца своего,
Заветный клад и слез и счастья,
Хранит безмолвно между тем
И им не делится ни с кем.
«Клад и слез и счастья»? Значит, счастье и в безответной любви имеется! Это – по пушкински: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». А безмятежное счастье – сыщи-ка его…
Значение потаенного клада Татьяны огромно. Устроился дорогой уголок души, где она полновластно хозяйничала, на который никто не имел права посягнуть. Там хранилась и ее девичья любовь к Онегину, и няня, и полка книг, и дикий сад, и бедное жилище. Именно этот клад давал Татьяне ту поражавшую всех окружающих внутреннюю силу и стойкость в ее безупречном светском поведении: здесь Татьяна получала целительный отдых души, зарядку энергии для утомительных практических обязанностей.
В жизни Татьяны всегда большое место принадлежало иллюзорному миру. Трудно сказать, как сложилась бы ее жизнь, если бы в деревне Онегин ответил на ее любовь: процесс обнаружения реального, не вписывающегося в идеальное, не исключал бы драматически конфликтных моментов. Но жизнь сложилась иначе. Идеальное и реальное сохранились в мире Татьяны, они только изменили соотношение в пользу реального. И все-таки силу и стойкость Татьяны укреплял ее тайный идеальный мир.
Ответ на вопрос, изменилась ли Татьяна, предпочтительнее дифференцированный. Нет, не изменилась, потому что осталась, как и была, человеком романтического склада. Романтическое мировосприятие сохраняется на всех этапах эволюции героини как доминанта. Татьяна и есть тип романтика, человека романтического сознания, мировосприятия (особый вопрос, что тип романтика дан средствами не романтического, а реалистического воспроизведения). Да, изменилась – и очень. Прежде всего, романтизм совсем ушел из ее практической жизни, оказался запрятанным в тайниках ее души. Впрочем, тайну (для всех) представляло содержание внутренней жизни Татьяны; само наличие скрытой ото всех внутренней жизни было доступно внимательному взору; оно придавало пушкинской героине известную загадочность и безусловное обаяние.
Сбылось ли, хотя бы в основе, девичье предположение: «По сердцу я нашла бы друга…»? «По сердцу» тут не надо понимать максималистски – по любви. Вероятнее это – по приязни.
Татьяна не права, говоря об обреченности: «для бедной Тани / Все были жребии равны». Как-никак, сватали ее и в деревне, а в Москве на нее обратили внимание еще двое, но женихи явно незавидные: какой-то старик в парике и «шут печальной», даже готовивший ей элегию. Нет надобности завышать ее чувства к мужу. Уже первая ее реплика: «Кто? толстый этот генерал?» – исключает любовь. Но о приязни – и немалой – говорить вполне возможно. Князь – человек с реальными заслугами. Татьяна может быть благодарна ему и за любовь, которая с его стороны несомненна. Ее заключительное объявление о верности мужу не формально, оно затрагивает струны души.
4
Онегину дважды пришлось объяснять Татьяне, чему он пожертвовал интересами семейственной любви. Мы уже видели, что на свидании блестящий знаток французского языка был явно не убедителен. Сильнее других был аргумент, что он «не создан для блаженства». Вот только уточнить бы, где и как он получил подобные сведения, насколько убежден в их непоколебимости.
Попробуем уточнить, что означает это состояние, которое проходило и еще пройдет через сознание героя. Оно пересекается с понятием счастье, означая высокую его степень. Думается, что в романе его следует локализовать сферой интимных отношений – в отличие от счастья, сфера которого безгранична, была бы лишь позитивной. Тогда становится ясным, что недоверие к блаженству у Онегина напрямую связано с его предубеждениями относительно семейной жизни.
Вторично Онегин был вынужден объясниться в своем письме. В творческой истории романа этот документ вообще уникален. Его вначале не было в беловой рукописи восьмой главы, готовившейся к изданию, там лишь упоминалось об онегинских письмах. Оно помечено 5 октября 1831 года; это последняя документальная дата творческой работы поэта над романом. Итоговое значение письма очевидно.
Между свиданием и письмом годы прошли, Онегин, несомненно, душою возмужал. Произошло это, разумеется, потому, что автор глубже понял своего приятеля-спутника. Герой повторяет и прежнее: при встрече «искре нежности» не поверил, «постылую свободу» «потерять не захотел». Но понимание ситуации произошло на новом уровне:
Чужой для всех, ничем не связан,
Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан!
Удивительно, что буквально в последний момент работы над финальной главой у Пушкина «слово найдено». Но посредством его поэт приобщает героя-отшельника к социальным слоям своего времени.
В деревне Онегин не знал, как именуются ценности, которые сделались его духовной опорой и заслонили собой любовь.
Между тем сама формула на правах романтической эмблемы широко бытовала в русской поэзии. В усеченном виде («покой») она активна уже в творчестве поэтов XVIII века, означая состояние, когда человек в ладу сам с собой, когда совесть санкционирует намерения и поступки. «Покой» – утверждаемая ценность в лицейской лирике Пушкина. В полном виде формула впервые возникает у поэта в программной оде «Вольность», в итоговом обращении к владыкам; здесь она имеет акцентированно высокое общественное содержание:
Склонитесь первые главой
Под сень надежную Закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.
Рылеев («Пустыня») пишет об уединенной жизни юного поэта:
С ним вместе обитают
Свобода и покой.
Та же формула встречается у Языкова. Например, в девятой из цикла «Песни»:
Бродя по городу гурьбой
Поем и вольность и покой.
Тот же мотив варьируется Языковым в послании Н. Д. Киселеву:
Младый воспитанник науки и забавы
Бродя в ночной тиши, торжественно поет
И вольность, и покой, которыми живет.
А в послании «Е. А. Баратынскому» Языков даже обобщает: «Свобода и покой, хранители поэта…»
Формула переходит и к преемнику Пушкина Лермонтову; но здесь она обозначает не обретенное состояние, а только цель, мечту о нем:
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
Да и Пушкин написал: «На свете счастья нет, но есть покой и воля» – когда у него уже не было ни покоя, ни воли.
Онегинское жизненное кредо не лишено эгоистического содержания, однако им не ограничивается. Предполагается главное: духовный поиск, критическая переоценка ценностей, напряженная работа ума. Столь широкий контекст онегинской формулы придает вес духовным поискам героя, уточняет их общественное русло.
Тут для нас может быть интересной такая ситуация. Высший этап духовных поисков Онегина приходится на деревню. Наиболее точное и глубокое осмысление сути обретений, выведение их на уровень мировоззренческой формулы сделано задним числом (что вполне оправдано психологически). Возможно ли для многократно читавших роман использование формулы для понимания «деревенского» Онегина, когда состояние им уже было обретено, но емкая фраза для его определения еще не применялась?
Попробуем ориентироваться на пример автора! Опорой для понимания героя формула сделана поэтом поздно, при подготовке к печати последней, восьмой главы. Вводить ее в уже опубликованный текст поэту было не с руки. Зато в рукописи восьмой (и последней) главы появилось значимое изменение. Вот Онегин на первом визите к Татьяне-княгине.
Упрямо смотрит он: она
Сидит покойна и вольна.
Пока в беловую рукопись еще не было вставлено письмо Онегина (только упоминалось о его письмах), строка читалась иначе: «Сидит небрежна и вольна»139. Несомненно, что поправка внесена под влиянием формулы, включенной в текст письма. Но по ходу повествования Татьяна письма, еще не написанного, не получала! Поэт знает, что получит, и в своем описании использовал важную формулу заблаговременно. Будем видеть в этом прецеденте разрешение поэта применить ценное определение для понимания «деревенского» Онегина.
И есть в письме признание совершенно неожиданное, которое, как ни странно, до сих пор не замечалось. На свидании:
Но я не создан для блаженства;
Ему чужда душа моя…
В письме:
Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой всё ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть… вот блаженство!
И я лишен того…
Воистину: что имеем – не храним, а потерявши – плачем. В деревне героя настигло, казалось бы, полностью изжитое состояние преждевременной старости души. Рецидив оказался опасным, привел к ошибочному решению. Онегин чересчур доверился холодной памяти рассудка.
Начертанная в письме программа блаженства получилась какая-то двойственная. То, что названо вначале и что несет действительную отраду, доступно только в сфере жизни женатого (по любви) человека. Онегин упустил такое счастье, «лишен того». А вот муки, бледность и угасание ему доступны, однако чрезвычайно сомнительно находить в них блаженство. А если в этом нашел блаженство, таи его про себя!
Не исключено, что эта путаница в эмоциях – прямое следствие противоречивости чувства, которое испытывает герой. С одной стороны, это любовь искренняя, страстная, задающая тон поведению. Она выражена пламенными словами:
Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.
Такую любовь невозможно не только прервать, но даже и ослабить. Таких резервов в себе Онегин и предполагать не мог. Это любовь сердца.
С другой стороны, в Онегине осталась целехонькой эгоистическая струнка. Он не смог (не захотел?) подражать героине, которая, не получив отклика на свой призыв, «изнывала тайно». Убедившись в своем чувстве, он в прямом смысле преследует Татьяну:
За ней он гонится как тень;
Он счастлив, если ей накинет
Боа пушистый на плечо,
Или коснется горячо
Ее руки, или раздвинет
Пред нею пестрый полк ливрей,
Или платок поднимет ей.
Онегин пускает в ход приемы ухаживания, которыми владел в своей светской жизни. В черновиках седьмой главы были наброски его дневника. Вот фрагмент описания его ухаживания за светской дамой R. С., муж которой был «чином от ума избавлен»:
Последний звук последней речи
Я от нее поймать успел,
Я черным соболем одел
Ее блистающие плечи,
На кудри милой головы
Я шаль зеленую накинул,
Я пред Венерою Невы
Толпу влюбленную раздвинул.
Видимо, Онегин по отношению к R. С. проявлял не только настойчивость, но и сдержанность, за что удостоился ее комплимента: «И знали ль вы до сей поры, / Что просто – очень вы добры?».
По отношению к Татьяне Онегин доброты не проявляет. Он же умеет читать взгляды и жесты, видит, что его знаки внимания Татьяне неприятны, но неугомонен. А ведь они совершаются на глазах искушенной публики и более того – на глазах чуткого мужа. Татьяна с полным правом может сказать о «соблазнительной чести» ухаживания за дамой высокого положения.
Настойчивость Онегина, может быть, объясняется тем, что он полагает – Татьяна не вышла, а выдана замуж без своего желания, а потому будет счастлива отозваться на его зов. Но ведь она ни шагу не делает ему навстречу. Зато он, даже с другом-поэтом не хваставший «дружбой почтовою», одолевает недоступную письмами. Жалуется: «Мне дорог день, мне дорог час: / А я в напрасной скуке трачу / Судьбой отсчитанные дни. / И так уж тягостны они». Очень странным предстает такое его рассуждение:
Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать – и разумом всечасно
Смирять волнение в крови…
А то Татьяна этого не знает! Не сам ли наставлял: «Учитесь властвовать собою…», учитесь «смирять волнение в крови». С эгоизмом, сильным зверем, Онегин совладать не смог.
«Крещенский холод» Татьяны, которым она ответила на письма, все-таки вынудил Онегина зиму 1824–1825 годов провести на самоизоляции. Все равно он покинет возлюбленную не раньше, чем добьется ее признания на непрошенном свидании в домашней половине княжеского дома, нарушив покой жившей в согласии четы.
5
Почему же Татьяна (любя Онегина!) не ответила на его несомненную любовь?
Нельзя не отметить, что через сознание Пушкина проходил вариант решительного разрыва Татьяны с Онегиным. Первый вариант концовки монолога-отповеди Татьяны заканчивался резко140: «Подите… полно – я молчу – / Я вас и видеть не хочу!». Но такие категоричные решения не в пушкинской (альтернативной!) манере. Разрыв с героем происходит, но он смягчен признанием в сохраняющейся любви Татьяны. Не сам факт, который очевиден, нам интересен, а его психологическое объяснение.
Описание последнего свидания завершает своеобразную триаду этапов понимания Татьяной внутреннего мира героя; предположение (в письме) – «яснее понимать» (в опустевшем кабинете Онегина) – «ей внятно всё» (на последней встрече). Кажется, третье звено цепочки понимания героиней смутившего ее покой сулит переакцентировку приемов изображения. Что понимает Татьяна, когда ее кумир выглядит непривычно?
Его больной, угасший взор,
Молящий вид, немой укор,
Ей внятно всё.
Чего же более: бери готовенькое у автора! Если «ей внятно всё», значит, и нам будет внятно всё? Но радоваться не приходится.
Перед нами уникальное обобщение, категоричное по форме и неопределенное по содержанию. В нашем языке носители содержания – имена; это существительные (правда – ложь, любовь – ненависть, родина – чужбина) и прилагательные (притягательный – противный, ранний – поздний, умный – глупый). А в приведенной цитате главное слово обобщения ничего не характеризует, не выражает, а только указывает, оно – вместо имени, местоимение. И получается, что кажущееся понятным, предельно ясным «всё» на деле становится безразмерным. Цитату с полным правом на то может использовать, для подкрепления своих рассуждений, исследователь, утверждающий, что Татьяна видит глубину и подлинность онегинского чувства, но со своими притязаниями сюда (используя «всё» как зонтик: если ясно «всё», то и всем!) вклинится и тот, кто считает – Онегин лицемерит по возрождаемым навыкам «науки страсти нежной»; в результате ответов на вопрос, почему Татьяна отвергла любовь Онегина, – на любой вкус. Какое истолкование верно, стало быть, только оно и правомерно, вполне четко выявится, если пушкинскую констатацию видеть в контексте. А еще – если сумеем понять позицию поэта: нелегкая и благодарная задача.
За контекстом не нужно далеко ходить: он в той же сцене последнего свидания. Но никогда прежде не отмечалось, что эта сцена состоит из двух картин: молчаливой и монолога Татьяны.
В тоске безумных сожалений
К ее ногам упал Евгений;
Она вздрогнула и молчит,
И на Онегина глядит,
Без удивления, без гнева…
Проходит долгое молчанье…
Исповедь Татьяны многократно была предметом истолкований исследователей. Предшествующая ей молчаливая зарисовка оставалась без внимания, а она красноречива!
Княгиня перед ним, одна,
Сидит, не убрана, бледна,
Письмо какое-то читает
И тихо слезы льет рекой,
Опершись на руку щекой.
Который раз Татьяна читает это письмо? Да она уж наизусть его, наверное, помнит! А эмоции – как в первый раз: слезы – рекой… Это слезы не обнаружения какой-то ранее пропущенной детали. Это многократно льющиеся слезы по когда-то возможному, но несбывшемуся счастью. Если бы такое письмо получить в деревне! Эта сцена – яркое свидетельство, насколько дороги Татьяне ее воспоминания, а ее чувство живо несмотря на то, что запрятано. Она и в исповеди подтвердит, что ее любовь сохраняется.
Слезы «рекой» – знак только веры в любовь Онегина. А если, напротив, Татьяна прозревала бы недобрый умысел ухажера? Тогда ей не было бы надобности хранить письма Онегина. Ладно, случилось такое, захотелось перечитать. Вот уж глаза при этом оставались бы сухими, сердитыми, если не злыми. А Татьяна глядит на Онегина «без гнева».
Почему слезы Татьяны над письмом Онегина оставались незамеченными исследователями? Упущен сильный, категоричный аргумент в пользу версии, что героиня адекватно понимает героя. Происходит это из-за недооценки роли сюжета, который корректируется стихотворной формой. Тут тесное соседство двух картин, наложение второй на первую (внезапный переход из формы заочного общения героини с героем в личное свидание). Первая картина дана не полностью, мы сразу видим ее финал. Вторая картина начинает разворачиваться на глазах читателя: она и перетягивает внимание читающего. Получилось так, что поэт ответил на вопрос прежде, чем ситуация его подсказала. Тут «перевернутая» логическая связь: сначала следствие («слезы льет»), а о причине сказано потом («я вас люблю», но уже безнадежно). Фрагментарный сюжет как будто соткан из цепочки описаний, и важна каждая деталь! Восстановим связь прямую – безошибочно поймем авторскую позицию, которая недвусмысленна: поэт дает возможность читателю ситуацию обдумать, но ясно обозначает и свою позицию: Татьяна любит Онегина, верит в его не наигранную, а подлинную любовь, горько жалеет, что она опоздала, а теперь когда-то бывшее близким счастье невозможно.
В описании молчания предвосхищается то, что в исповеди будет сказано прямым текстом, прикрытым буйством контрастных эмоций.
Исповедь и отповедь Татьяны Онегину – потрясающей силы человеческий документ. Все здесь соединилось: «и пламенная страсть, и задушевность простого, искреннего чувства, и чистота и святость наивных движений благородной натуры, и резонерство, и оскорбленное самолюбие, и тщеславие добродетелью, под которой замаскирована рабская боязнь общественного мнения, и хитрые силлогизмы ума, светскою моралью парализовавшего великодушные движения сердца…» (Белинский, с. 498). Противоречивостью чувств героини объясняется особая сложность этого документа. Есть в исповеди даже отдельные «темные», трудные для прочтения места. Чтобы понять их, нужно сочетать доверие к прямому и точному смыслу слов и конкретизацию их контекстом всего романа: здесь проверка предыдущего толкования произведения.
Татьяна недоумевает, почему Онегин отказался от ее любви, когда она предлагалась, и домогается ее, когда обстоятельства переменились: «Что ж ныне / Меня преследуете вы? / Зачем у вас я на примете?» Вопросы настолько терпкие, что способны вызвать раздражение, желание просто разорвать отношения.
Татьяна упрекает Онегина:
А нынче! – что к моим ногам
Вас привело? какая малость!
Страдающая женщина пробует сама ответить на трудные вопросы, причем по-пушкински альтернативно. Первым приходит ответ наугад, очень естественный в устах женщины: «Я вам не нравилась…» Это непосредственные (и ошибочные) эмоции: она понравилась уже на первой встрече.
Достается упрек герою: «Как с вашим сердцем и умом141 / Быть чувства мелкого рабом?» Почему же Татьяна говорит о мелком чувстве? Тут и у нас может возникнуть несколько, хотя и неравноценных, предположений.
Может быть, «чувство мелкое» – просто чужая, онегинская цитата в устах Татьяны? А для нее самой любовь – чувство не мелкое? Но – Онегин не называл любовь мелким чувством. Напротив, он (в согласии с представлением героини) говорил о блаженстве, просто считал себя для него не созданным, а Татьяне советовал полюбить снова.
Попробуем проверить и такое основание для неверия Татьяны Онегину. Она могла запомнить онегинские слова: «Я, сколько ни любил бы вас, / Привыкнув, разлюблю тотчас…» У Татьяны гарантия в сегодняшнем подлинном чувстве Онегина; она может не верить, что оно сохранится завтра. Но думала ли об этом она в разговоре с ним? База для гипотезы – только давние слова, причем отнюдь не влюбленного героя. И хотя гипотеза возможна, ее все-таки следует отвести. В памяти Татьяны суровость Онегина, и она об этом говорит. Никакого намека на возможное непостоянство Онегина в словах Татьяны нет, поэтому опрометчиво усматривать намек за словом, тут все на чистоту. Так что о мелком чувстве сказано не в расчете на перспективу: сейчас большое чувство, а потом измельчает; так что заранее – «мелкое чувство».
Почему бы не обдумать сомнительную, но в пушкиноведении активную версию: Татьяна, теперь уже окончательно считая Онегина «коварным искусителем», не верит в серьезность его чувства. Отсюда и выражения такие строгие: «какая малость!», «чувство мелкое». А вот если бы это чувство было не мелкое, а большое, – как знать, чем ответила бы на него Татьяна. Предположение, что Татьяна считает чувство Онегина мелким, кажется, подтверждается ее предшествующими словами:
Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна;
Что я богата и знатна,
Что муж в сраженьях изувечен,
Что нас за то ласкает двор?
Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всеми был замечен,
И мог бы в обществе принесть
Вам соблазнительную честь?
А здесь конкретизация, во что может вылиться «мелкое чувство». Татьяна, разумеется, не может знать, что Онегин когда-то владел искусством «науки страсти нежной», но она видела своего кумира в роли «коварного искусителя» – в тяжкий для нее день именин. Все-таки в этом самом решительном размышлении чувствуется что-то нарочитое.
Рассудим так: Татьяна считает мелким не чувство Онегина, но любовь как чувство, какой бы огромной сама по себе она ни была. Ее рассуждения о любви Онегина как предложении ей светской интрижки, за неимением лучших аргументов, – нарочитая прозаизация и дискредитация того огромного, что их обоих наполняет, – может быть, именно для того, чтобы хоть как-нибудь подавить и в себе, и в нем переполняющее их чувство. Вот очень важное рассуждение Татьяны; оно не вполне понятное, если его брать изолированно; но оно вполне вразумительное в контексте обрисованной позиции героини:
…знайте: колкость вашей брани,
Холодный, строгий разговор,
Когда б в моей лишь было власти,
Я предпочла б обидной страсти
И этим письмам и слезам.
Иначе говоря: остался бы Онегин прежним, «деревенским» – язвительным, гордым, независимым, он больше заслуживал бы право на уважение Татьяны. На уважение. О любви опять-таки не могло быть и речи. Сохраняющаяся любовь Татьяны к Онегину – чувство заповедное, дорогой остаток ее юности; чувство только «про себя» (Белинский, с. 497), тайник, куда нет доступа никому, Онегину в том числе. Главный аргумент на этот счет уже высказан: Татьяна приняла онегинскую позицию «вольности и покоя» взамен любви, и возвращение на прежние позиции любви = счастья для нее невозможно; настоящая онегинская любовь теперь для нее – всего лишь «обидная страсть».
«А счастье было так возможно, / Так близко!..» Счастье было возможно теоретически – и невозможно практически: развитие героев идет не синхронно, и они всегда оказываются на разных уровнях. Вначале многоопытный и гордый Онегин – и романтическая еще почти девочка Татьяна. Затем овладевшая его идеалами Татьяна – и сломленный жизнью, опустошенный Онегин, зовущий ее вспять, к прошлому, куда возврата нет.
И происходит горькое, хотя и естественное. Татьяна признается:
А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них?
Чувствовать неуют в образе жизни, для иных недосягаемом и притягательном! И как с таким самочувствием соотнести формулу «вольность и покой»? Какая же тут «вольность»? Но – единой модели жизни не существует. Татьяна стремится осмысливать то, что делает, и делает выбор сознательно, своей волей. Она не стремится выходить из предназначенного ей временем семейного круга, поскольку сама его выбрала.
Татьяна активна даже тогда, когда действует не по своей инициативе. Мать проявила очень большую настойчивость в замужестве дочери («Меня с слезами заклинанья / Молила мать»), но княгиня не шлет упрека в ее адрес, винит себя: «Неосторожно, / Быть может, поступила я…» Только разве была альтернатива? Что бы значила осторожность? Ожидание, что Онегин вернется в деревню с повинной? Это означало бы стать смешной в собственных глазах.
Благодаря случаю скромная провинциалка оказывается «богата и знатна». Это вносит колорит в ее жизнь, но не является главным. Татьяна повинуется голосу долга, установлений традиции. Замужняя, она в глазах Пушкина ни в чем не теряет обаяния идеала. Только потому, что поступает нравственно, оберегая честь мужа даже перед искушением любовного счастья? Но так судить о Татьяне было бы слишком мелко. Нравственный поступок надо воспринимать как норму, а не как нечто исключительное; иначе понятия морали просто девальвируются. Тут дело в отношении Татьяны к тому, что и как она делает. Жить миром простых забот, соблюдать установление приличий – это широко доступно. Но и в таких рамках жаждущие удовольствий находят их, а платящие долг требуют компенсации, вознаграждения за добродетель. Татьяна являет пример самоотречения, альтруизма, она живет не для себя, а для людей, и это ее осознанный выбор, «добровольный крест». На такое способен не каждый. Вот в чем состоит величественность простоты. Вот почему Татьяна не просто поступает нравственно, но совершает нравственный подвиг.



