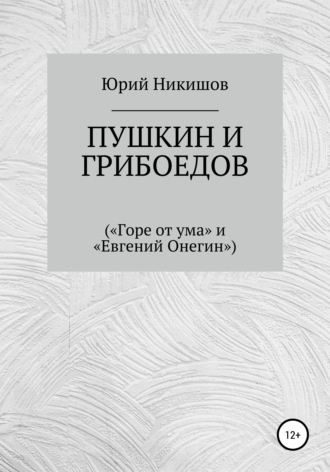
Юрий Михайлович Никишов
Пушкин и Грибоедов («Горе от ума» и «Евгений Онегин»)
Но если в нейтральный разряд выведены речевые характеристики, то в равной степени возрастает роль содержания. А здесь можно видеть элементы, не уступающие уровнем «Горю от ума», а иногда превосходящие этот уровень.
Пиксанов посчитал, что «новый путь – в сторону от реализма и от общественности – заводит Грибоедова в тупик бесплодной архаической мистериальности». Не соглашаюсь с таким утверждением. Исхожу из того, что главная задача искусства – познание жизни (в своей, особенной – и меняющейся во времени форме). Пиксанов отдает дань «реализмоцентристской» концепции. Но познание осуществляется всеми формами искусства, если это настоящее искусство. Конечно, для исследователя в ХХ (теперь уже в XXI) веке больше оснований воспринимать мистериальную форму архаической. Но Грибоедов наследует рационалистическому XVIII веку, для него и это, и более раннее искусство вполне живое. У нас уже отмечалось, что и новаторство Грибоедова в комедии специфическое: писатель наряду с прорывами в неизведанное умеет обновлять архаику. Чего он достиг в «ночной» трагедии?
Пиксанов искал, но не нашел философской закваски в «Горе от ума», он не увидел ничего интересного в поздних поисках Грибоедова. Между тем, если брать именно философский аспект, «Грузинская ночь» превосходит остротой «Горе от ума». Мы видели, что заключительный монолог Чацкого строится по широкой программе: здесь изливается желчь и досада «на дочь и на отца, / И на любовника-глупца, / И на весь мир…» Но картина «всего мира» заслоняется свеженькими лицами гостей Фамусова («старух зловещих, стариков…» и проч.). В «Грузинской ночи» частный конфликт князя и кормилицы проецируется на картину мироздания.
Картина эта такова, что в русской литературе она становится предшественницей лермонтовского «Демона». И это не уход автора от реалий жизни в мифопоэтику легендарной истории, а художественный отклик писателя на события 14 декабря.
Бесчеловечие власти: такова тема предельно жестокой по сюжету «Грузинской ночи».
Как разрешить конфликт между князем и кормилицей? Конфликт принимает форму человеческих отношений, но основан на социальном неравенстве: как таковое преодолеть? Эмоционального разрешения достигнуть нетрудно, только какова ему цена? И слабый поднимается против сильного, ведомо кормилице:
И кочет, если взять его птенца,
Кричит, крылами бьет с свирепостью борца,
Он похитителя зовет на бой неравный…
Но что князю до этих увещеваний? Он действовал по беззаконному «закону»: «Он продан мной, и я был волен в том – / Он был мой крепостной…» А что может сделать старая бесправная женщина? Она и делает то, что может: проклинает жестокого господина. Только сотрясения воздуха маловато, это душу не согревает!
Как бы тут хотелось опереться на помощь доброй силы! Мир создан Богом, но после Творец почему-то не вмешивается в происходящее. К нему взывают по-прежнему; а вот кормилица обращает мольбу уже в форме вопроса, с упреком: «Где гром твой, власть твоя, о боже вседержавный!»
Пред ликом смерти равны праведники и грешники; Али являются в мир
Из тех пустыней многогробных,
Где служат пиршеством червей
Останки праведных и злобных.
Кормилица задается вопросом: «Равны страдания в сей жизни или в той?» О блаженстве в раю упоминаний нет, похоже на то, что на него и надежды нет.
Многие, ищущие справедливости, охотнее обращались бы к силам добрым, но увы! Сетует кормилица на то, что нигде не находит помощи, на зов ее даже Али, злые духи Грузии, являются отнюдь не тотчас:
Но нет их! Нет! И что мне в чудесах
И в заклинаниях напрасных!
Нет друга на земле и в небесах,
Ни в Боге помощи, ни в аде для несчастных!
Не встречая помощи у сил добра, люди обращаются за поддержкой к более сговорчивым силам зла. В черновых вариантах об этом говорилось прямым текстом:
Так от людей надежды боле нет,
И вседержителем отвергнуто моленье!
Услышьте вы отчаянья привет
И мрака порожденье!
Несмотря на краткость сохранившихся фрагментов «Грузинской ночи» они дают внятный ответ на вопрос, отчего человек прибегает к помощи злых сил.
Отзывчивее – небескорыстно – оказываются злые духи. Они и клиентов находят соответствующих.
Куда мы, Али? В эту ночь
Бежит от глаз успокоенье.
Одна из них
Спешу родильнице помочь,
Чтоб задушить греха рожденье.
Другие
А мы в загорские края,
Где пир пируют кровопийцы.
Последняя
Там замок есть… Там сяду я
На смертный одр отцеубийцы.
Да ведь и кормилица желанием мести ослеплена, правое стремление воссоединиться с сыном приводит ее к неуемной (наказанной) злости.
Возникает новая острейшая проблема: допустимо ли в борьбе за справедливость опираться на силы зла? Которые действуют не из доброты, а прихватывают свой интерес, поощряя и умножая зло?
В «Горе от ума» Грибоедов не стал прямо высказывать свою заветную мысль, но подвел изображение к черте, за которой неминуемо вызревал горестный итог: мы живем в разобщенном мире; не будешь высказывать заповедные мысли, а и выскажешь – велика ли разница: многие ли тебя услышат, а вероятнее, бόльшим числом даже слушать не захотят. В «Грузинской ночи» прямо показано: человек не просто удручающе одинок, он живет во враждебном по отношению к нему мире. И что ему делать? Терпеть? Но всему бывает предел. Бунт отчаяния бессмыслен, но и неизбежен.
Ты мог не думать об этом. Прочтешь – будешь знать. Не все будут руководствоваться этим знанием, многие отринут его; выбор личный. Уже та польза, что выбор теперь будет не стихийным, а сознательным. Тут разница между «Горем от ума» и «Грузинской ночью». В комедии с трагическим героем финал оставлен открытым, а откровение героя – напрашивающимся, но подразумеваемым. Его и трудно было увидеть; современные события дали подсветку. В «Грузинской ночи», трагической сценической поэме, конфликт прочерчивается прямым словом. Вывод получался настолько терпким, что решение, пускать ли его в свет, было отложено. Окончательное решение автору принимать не довелось.
Пиксанов заканчивает статью о литературном «однодумстве» Грибоедова рассуждением ошибочным: «Беспечные, поздние наследники, мы принимаем гениальное произведение Грибоедова, не вдумываясь, какою ценою оно создано. Но нам следует помнить, что “Горе от ума” стоило поэту огромных усилий и оставило его творческое сознание опустошенным. Бессилие написать второе “Горе от ума” доводило Грибоедова до мысли о самоубийстве и создало писательскую драму, сокрытую от современников, но раскрываемую теперь исследованием» (с. 325). Грибоедов не страдал опустошенностью творческого сознания («у меня с избытком найдется что сказать»!). Грибоедов считал поэзию делом своей жизни, но он не был профессиональным писателем. К нему совершенно неприменимо такое обыкновение: писатель пописывает, читатель почитывает. Исключая пробу пера, когда он работал для театра, Грибоедов был философом, который посредством форм искусства искал истину, выстраданную прежде всего для самого себя. До 14 декабря совесть не позволяла ему писать то, что объективно предстало бы полемикой с людьми, перед благородством которых он преклонился, но действия которых разделить не мог.
Но на исходе был год, как обагрилась кровью восставших Сенатская площадь, – и потекла работа над новым творением. Второе «Горе от ума» в жанре комедии Грибоедов написать был не способен: не до веселья. Первое и единственное «Горе…» (на выходе) – свободное произведение, где фундаментальная идея благополучно прижилась на обломках водевильных штампов. Только ведь и тогда у автора получилась комедия – с трагическим героем. Что поделать, если продолжение поиска привело писателя к истинам еще более мучительным. Судьба поэта-пророка трагична по определению.
Нет, не выгорел дотла художник в работе над единственным, казалось, своим произведением, «Горем от ума». Завершенная комедия не опустошила его душу. Другое дело, что за комической ситуацией «Горя» первые читатели не разглядели ситуацию трагическую, а позже даже проницательные исследователи не оценили масштабность трагического начала. А комедийный жанр для Грибоедова быстро исчерпал свои возможности. О каком комизме говорить, если думы писателя захватили коренные проблемы мироустройства! Снова «грандиозные», «великолепные» замыслы, которым ничуть не просто обрести внятную «земную» форму.
А тут можно сказать и о художественном новаторстве Грибоедова. Если в работе над «Горем от ума» форма первоначального замысла (форма сценической поэмы) вытеснялась формой произведения для сцены, то в «Грузинской ночи» поэт возвращает организации действия форму сценической поэмы.
Что делать театру с такой ремаркой: Али плавают в тумане у подножия гор? Конечно, театр может показать какое-то качание этих необычных персонажей, но это и будет восприниматься цирковым акробатическим трюком. Технические возможности сцены ограничены. Воображение читателя эффективнее. Более того, ему легче оставаться в зоне настроения воссоздаваемой художником ситуации, не отвлекаясь на оценку трюков.
Грибоедов исходит из того, что любое художественное изображение условно. Он видит преимущество описательного называния предмета в сценической поэме перед непременным явлением предмета в драматическом действии. Автор всего лишь фиксирует: Али плавают. Читатель сам представит это, как умеет. А кто из нынешних читателей не видывал кадры, где космонавт плавает в состоянии невесомости…
«Грузинская ночь» получила жанровое обозначение «трагедия», вероятно, в силу кровавого разрешения конфликта. Но по форме это сценическая поэма, произведение для чтения, не для сцены. Конфликт «Горя от ума» бытовой по внешности, потому он и поместился в усадебном доме, хотя одной сценической площадки уже оказалось мало. Конфликт «Грузинской ночи» включает домашние сцены, но нуждается и в беспредельном пространстве. Театру за этим калейдоскопом сцен не угнаться.
Слишком малым объемом текста мы располагаем, поэтому вряд ли возможно жанровое уточнение: «Грузинская ночь» трагедия или драма? Есть возможность воспринимать конфликт этой пьесы драматическим. Отличие трагедии от драмы состоит в наличии катарсиса, очищения через сострадание. В драме сложившиеся обстоятельства непреодолимы для героя и сохраняют прочность и после его поражения. Нет сочувствия кормилице и на первом этапе ее мести князю, потому что нянька становится предательницей по отношению к своей воспитаннице. А оплошным убийством сына она прямо наказана за свою злобность. Есть ли тут основание для катарсиса?
Так печально? Значит, чувствуя укорененность зла, смириться с этим и терпеть? Бунт бессмыслен, но тогда бессмысленна и жизнь, и если уж все равно гибнуть, то не лучше ли все-таки – за правое дело? «Безумство храбрых – вот мудрость жизни!»
«Оптимистическая трагедия» – демонстративно поставил в заголовке Вс. Вишневский. По моим представлениям, это равнозначно «маслу масляному». Пессимистические произведения встречаются, но это не трагедии, а драмы. Оптимизм трагедии входит в существо жанра.
И что, «Царь Эдип» – не трагедия? Но там что отрадного, освежающего? Обаятельному, одаренному, нравственно чистому отроку напророчили таких несообразностей в родном дому, что он в ужасе бежал прочь. Только чем старательнее пытался он избегнуть осуществления предсказаний, тем успешнее приблизил роковой итог. Что тут оптимистичного? В уроке гордому человеку: не заносись, не всемогущи твои способности, умей оценить силу обстоятельств. Мудрецы античности не боялись горьких истин: была бы истина!
Если возможно извлечение позитивных уроков из «Грузинской ночи», то правомерно восприятие ее трагедией. Один напрашивается: в борьбе за справедливость не бери в помощники силы зла. На этом приходится остановиться. Мы не располагаем концовкой, не видим, что происходит с героиней…
Получается, что мысль Грибоедова уходит в такие сферы, где замирает действие (тем самым иссякает сюжет), а главным становится обдумывание того, что мы прочитали. Но так построено и «Горе от ума». Там действие опущено в быт. Ничего экстравагантного не происходит. Встретились – наскоро пообщались – разошлись. И надо разбираться, что за срез жизни мы увидели. Ситуация оказывается универсальной, а универсальное решение проблемы исключено. В «Грузинской ночи» острота ситуации подталкивает к действию, только результат оказывается совсем не таким, каким был ожидаемый. И возникает колоссальной важности проблема: что может сделать человек, когда попадает в обстоятельства, преодолеть которые у него нет возможности? Когда терпеть невмоготу, но и действовать безнадежно?
Разве это не полная аналогия ситуации, могут ли сто прапорщиков изменить государственный быт России? Она лишь выведена из политической сферы в «безобидную» сферу психологическую (собственных психологических терзаний от своего отказа вступить в тайное общество писатель натерпелся). Так что Грибоедов ничуть не уходит в средневековье от злобы дня. Он убежден, что искусство не копирует жизнь, но эффективно в ее познании, а достигает этого, прибегая к условности. Так что и «архаичная» мистериальность – не уход от жизни: условный сюжет вибрирует в резонанс с современностью.
Первоначально «Горе от ума» задумывалось в форме сценической поэмы, а обрело форму театральную – и очень кстати. «Грузинская ночь» не стесняется одеяний сценической поэмы, она развертывается пьесой для чтения. Ей не нужна театральная публика, с входами и выходами, ей потребно свидание с читателем один на один.
Трагедия адресована вдумчивому читателю, привычному к литературному языку, которым говорят князь и кормилица. Не потому ли автору и не нужна бытовая стилизация речи персонажей? Пусть несколько нарушается бытовое правдоподобие, зато выпрямляется дорога к постижению смысла.
Кульминацию «Горя от ума» (финал третьего действия) Грибоедов наполнил, по моему предположению, молчаливой паузой отчаяния: осознанием героя, что мы живем в разобщенном мире. Надеюсь на то, что эта версия будет признана имеющей право на существование, встретит сочувственников. Нисколько не сомневаюсь в том, что найдутся и оппоненты (что будет не опровержением, а косвенным подтверждением данной версии). Различие мнений и оценок в суждениях о «Горе от ума» просто очень наглядно. Но в этой частности проступает коренное противоречие мироустройства, которое и обнажает грибоедовская комедия.
Второе «Горе от ума» (получилось – второе «Г»), «Грузинская ночь», – это не столько другое произведение, сколько другая разработка той же ситуации, с нарастанием конфликтного напряжения. Меняется интонация – с иронической на негодующую. Теперь уже не до намеков: позиции излагаются прямым текстом. Увы, слишком малым объемом текста мы располагаем.
И – нет худа без добра: до нас дошли фрагменты текста с вариантами. Если б не это, разве могли бы мы прочитать в беловом тексте «ни в Боге помощи», «и вседержителем отвергнуто моленье!»? Какая бы цензура этакое пропустила? Разве что, как вышло, по недосмотру в составе объемной (для цензоров скучной) Черновой тетради.
Зато можно понять, отчего наша власть в атеистической стране с таким старанием поддерживает церковь. Тут достаточно в заслугу поставить одну проповедь: «Господь терпел – и нам велел». (А под этой дымовой завесой «нетерпеливые», швыряясь миллионами, резвятся).
«Горе от ума» – вершинное произведение Грибоедова в восприятии как современников, так и потомков. Далеко не факт, что писателю было не по силам создать нечто более значительное или хотя бы несомненно ценное. (Так ведь и создал!). Потомки оценили вклад писателя в становление русского реализма, а он был сосредоточен на познании мира и человека; оценим этот вклад хоть и очень много лет спустя. Одновременно с поиском решения труднейших человеческих проблем шел и поиск новых (или обновленных) художественных форм.
Куда бы увел этот поиск?
Слишком, как оказалось, краткий срок отвела ему судьба. Бессмысленно гадать, что было бы, кабы… Только хоронить Грибоедова как писателя еще при его (недолгой и, увы, оборванной) жизни неэтично.
Пусть Грибоедов вошел в историю русской литературы всего лишь одним произведением; это место останется за ним, «пока в подлунном мире / Жив будет хоть один пиит». (Я думаю, этим афоризмом Пушкин с Грибоедовым охотно бы поделился).
2
Судьба, что ли, подглядывает в свои записные книжки? Или и без записей все помнит? Окончил Пушкин свой шедевр, и она, даже не ожидая окончательной отделки романа и публикации его в полном виде, отвела тезке те же шесть лет жизни. Вот простоя у поэта-профессионала не было. Много написано, но не будем пользоваться прокрустовой меркой для определения достигнутого уровня. А в отношении читающей публики к новому этапу творчества опять возникает сходство. Интерес к Пушкину падает, ему ставят в пример в лирике Бенедиктова, в драматургии Кукольника, в прозе Марлинского.
Из необозримого числа конфликтов в поэзии Пушкина выберем один, группирующийся на весьма сложной ситуации, вбирающей множество разновидностей, возникающий в отношениях власти и подданных. Это разновидность общей социальной и философской проблемы: человек и мир, подданный и власть, слабый и всемогущий. Это центральная проблема Грибоедова: в «Горе от ума» разбег, в «Грузинской ночи» кульминация. Внешняя разница подходов двух поэтов очевидная: поиск Грибоедова сосредоточен, поиск профессионала Пушкина в россыпь. Один берет быка за рога, другому необходимы варианты и подробности.
По идее, отношения человека и власти должны были бы быть бесконфликтными: мудрый, справедливый властитель царствует, все остальные в исполнение обязанностей, вытекающих из их положения верных подданных, вкладывают всю душу. К подобному призывал монархов юный Пушкин в концовке оды «Вольность» (1817):
Склонитесь первые главой
Под сень надежную Закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.
На практике такое встречается редко, эпизодически. Мешает субъективный фактор, человеческая слабость властителя. Еще серьезнее фактор объективный: слишком сложным механизмом предстают любые общественные объединения; их невозможно привести к полному единству интересов.
В трагедии Пушкина «Борис Годунов» интересную структуру предполагаемого шествия к монастырю, где обитал главный претендент на царение, воспроизводит думский дьяк Щелкалов; она соответствует социальному срезу общества: «святейший патриарх», «а с ним синклит, бояре, / Да сонм дворян, да выборные люди, / И весь народ московский православный…»
Уже заслуживает внимания, что люди отличаются образом жизни: одни служат церкви, другие (миряне) – государству. В обеих группах устанавливается иерархия: и в церковной – от патриарха до монахов, и в государственной – от царя до простонародья. Даже верхушка неоднородна: бояре – «сонм дворян». Но и однородная в социальном отношении группа отнюдь не монолитна, тут много найдется таких, кто себе на уме.
Нет надобности, да и возможности сличать изображение Пушкина с действительностью: оно о событиях противоречивого смутного времени. Историки немало потрудились над выработкой официальной версии события. Но историю пишут победители. У них был интерес укрепить династию Романовых… Однако и тогда, и до сих пор существовала и существует версия, снимающая с Годунова пятно цареубийства. Пушкин посвятил свой труд «драгоценной для росссиян памяти» Карамзина, фактографию событий заимствовав в томах «Истории государства Российского». Но факты не существуют сами по себе, они субъективно преломляются. «Борис Годунов» – это не иллюстрация к историческому событию (или переложение в стихи исторического исследования), а попытка поэта осмыслить событие, через это уточнить свою методологию познания человека и мира.
Пушкин – диалектик. Он потрясающе выразительно показал, как по-разному воспринимается факт, когда на него смотрят открытыми или зашоренными глазами. Такова сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре».
Вот картинка, которую наблюдает проснувшийся Григорий:
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева.
Именно в таком духе наставляет и Пимен Григория, видя в нем своего преемника: «Описывай не мудрствуя лукаво / Всё то, чему свидетель в жизни будешь…»
Красиво и умно, кто бы возражал! Только кончается сцена угрозой Григория царю: «отшельник в темной келье / Здесь на тебя донос ужасный пишет…»
Тут хотелось бы обратиться к оценке Грибоедовым сцены в Чудовом монастыре, напечатанной в журнале: «В первой сцене “Бориса” мне нравится Пимен-старец, а юноша Григорий говорит, как сам автор, вовсе не языком тех времен» (Булгарину. 16 апреля 1827. Тифлис). Думается, что сделанное замечание здесь и меткое, и неточное. В ту пору резко отличались языки письменный и разговорный222. (Кстати, и Пимен говорит попросту, ничуть не «летописным» языком, ныне нуждающимся в переводе). Так что Грибоедов вроде говорит о форме высказываний персонажей, а фактически отталкивается от содержания высказываний. Второй персонаж у Пушкина действительно «говорит, как сам автор» – по содержанию, озвучивая заветные мысли поэта. Это сродни ироническому замечанию автора в собственный адрес: «никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!» (Вяземскому, ноябрь 1825 года). А тут тесноват оказался клобук монаха.
Грибоедов проницательно угадал именно пушкинскую мысль в словах персонажа: «И не уйдешь ты от суда мирского, / Как не уйдешь от божьего суда». (И как это монах этими словами сам себя не напугал, затевая самозванство! Негласно полагая, что ни тот, ни другой суд его не зацепит?).
Так что же это такое – летописное сказание: бесстрастное свидетельство или донос ужасный? И можно ли отличить одно от другого?
Попробуем разобраться. Чему свидетелем был Пимен? Гибели царевича, нечаянной или злонамеренной, он не наблюдал: он прибежал на царицын двор с толпой под набат. Народ «вслед бросился бежавшим трем убийцам». «Злодеев захватили / И привели пред теплый труп…» Далее прямо по программе летописания – описывать «знаменья небесны»: «И чудо – вдруг мертвец затрепетал…» «И в ужасе под топором злодеи / Покаялись – и назвали Бориса». Ведь и тут возможно двойное понимание: покаялись – пред трепетом мертвого царевича или под топором? Это признание в реальном – или оговор? А тут моментально и суд, и приговор, и его исполнение, хотя судом в прямом смысле эту расправу назвать никак нельзя.
Логика Пимена прямолинейна и неукоснительна: всё, что сопрягается с именем Бога, – истинно, иное греховно, от лукавого. Монах с умилением вспоминает Феодора: «Бог возлюбил смирение царя, / И Русь при нем во славе безмятежной / Утешилась…» (Феодору можно было царские чертоги обратить в молитвенную келью: царские заботы при нем лежали на Годунове).
Можно ли доверять летописи Пимена? При видимой объективности она тенденциозна. Засвидетельствовано трепетание убиенного. И это далеко не единственный случай, когда должное выдается за действительное.
Сошлюсь и на иные источники. Пушкин собирал материалы для «Истории Петра». Многим – и до последних дней – занимался уникальный государь, а важного царского долга, самому на себя возложенного, не исполнил: указ о праве наследства издал, а им не воспользовался. С трудным вопросом престолонаследия он дотянул до последнего. «Тогда-то Петр потребовал бумаги и перо и начертал несколько слов неявственных, из коих разобрать было можно только сии: “отдайте всё”… перо выпало из рук его. Он велел призвать к себе цесаревну Анну, дабы ей продиктовать. Она вошла, но он уже не мог ничего говорить».
Дальше верховодили священники. «Петр оживился… произнес засохлым языком и невнятным голосом: “Сие едино жажду мою утоляет; сие едино услаждает меня”». Пушкин щепетилен, помечая источник: он добавляет в скобках – «сказано в рукописи свидетеля»; так ли было или за действительное выдается желаемое – проверить нельзя. Маркировка сообщения существенна. Петр якобы произносил слова молитвы «с умилением, лице к веселию елико мог устроевая, говорил, по сем замолк…» Если было действительно так, как описано свидетелем, – Петр скончался как подобает христианину. Но он не просто человек, а еще и государь. И можно заключить, что священники несколько укоротили земную жизнь самодержца; а ему бы, хоть и «засохлым языком», надлежало изречь последнюю царскую волю… До начала следующего столетия протянулась нескончаемая борьба уж не за продолжение петровского дела, а просто за русский престол; дольше других на нем (незаконно, но «ко славе» <?> русской) восседала властная иноземная принцесса.
Кривотолков не избежала и посмертная судьба Пушкина. Последние слова Пушкина достовернее всех передает В. И. Даль: они ему и были адресованы. «Он вдруг, будто проснувшись, быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: “Кончена жизнь”. Я не дослышал и спросил тихо: “Что кончено?” – “Жизнь кончена”, отвечал он внятно и положительно. “Тяжело дышать, давит”, были последние слова его»223.
Но вот как излагает этот эпизод митрополит Анастасий (Грибановский). Здесь к пересказу воспоминаний В. И. Даля есть прибавление: «И осенив себя крестным знамением, произнес: Господи Иисусе Христе»224. Следует отсылка: Прот. И. Чернавин. Пушкин как православный христианин. Прага, 1936, с. 22. Т. е. раз уж напечатано, то и правда, можно тиражировать. Но добавленного не было. Пушкин, если бы и захотел перекреститься, в этот момент уже не имел сил поднять руку. Слова, столь любезные священникам, он, возможно, еще способен был произнести, но он их не произносил.
А в своем изображении события трагедии Пушкин опирается на особенного «свидетеля»: ему, художнику, доступны тайные мысли его героя. Понятно, они почерпнуты не из документов. Но тут случай, когда нельзя было ограничиваться осторожным «может быть», но выбирать из четких «да» или «нет». Пушкин выбрал официальную версию. Это не умаляет аналитичности его подхода, поскольку не упрощает, а усложняет решение конфликта.
«Борис Годунов», трагедия, может быть прочитана и как трагедия заглавного героя. Его намерения были грандиозными – стать царем на Руси. Это не бред властолюбца. Он о государстве думал. У него был опыт умозрительный, при дворе Грозного, и даже практический, при дворе слабого Феодора. Но подрастающий законный наследник престола делал это намерение нереальным…
Тут возникает новая и очень серьезная проблема: возможна ли компенсация нарушению закона? «Да правлю я во славе свой народ…» – возглашает Борис в своей тронной речи. А вот как подводятся предварительные итоги еще мирного царствования: «Достиг я высшей власти; / Шестой уж год я царствую спокойно. / Но счастья нет моей душе». Выясняется: Борис поразительно одинок! Его поддерживает патриарх, но Пушкин не показывает, каков он в делах церковных, а в делах мирских, признается сам персонаж (мы замечали это), он «не мудрый судия». У царя нет ревности к сыну, который должен сменить его на троне; напротив, царь грешный готов передать власть царю непорочному; но мал еще царевич. Конечно, есть в окружении царя верные сподвижники. (Когда узнают, что Афанасию Пушкину был гонец из Кракова, царь распоряжается: «Гонца схватить»; но его воля уже угадана: «Уж послано в догоню»). Но дело не в отдельных лицах: у Бориса нет общественной опоры, ни в ревнивой боярской верхушке, ни в корыстных выдвиженцах типа Басманова.
А как с безликими и безымянными подданными?
Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать…
<…>
Бог насылал на землю нашу глад,
Народ завыл, в мученьях погибая;
Я отворил им житницы, я злато
Рассыпал им, я им сыскал работы –
Они ж меня, беснуясь, проклинали!
Пожарный огнь их домы истребил,
Я выстроил им новые жилища.
Они ж меня пожаром упрекали!
<…>
Кто ни умрет, я всех убийца тайный…
Так – в мирные времена. Почему же народ такой неблагодарный? Потому что в угоду мелкопоместному дворянству отменен Юрьев день. Когда ярмо рабства затянуто без послаблений, подачки не радуют, а раздражают. И злые слухи воспринимаются правдивыми.
Вторгается самозванец. Теперь все силы направляются на то, чтобы удержаться во власти. Упор, за неэффективностью иных попыток, на репрессивные меры. До поры сил хватает, только они не беспредельны…
На вопрос самозванца «Что? ждут меня?» отвечает Рожнов, пленник, московский дворянин.
Бог знает; о тебе
Там говорить не слишком нынче смеют.
Кому язык отрежут, а кому
И голову – такая право притча!
Что день, то казнь. Тюрьмы битком набиты.
На площади, где человека три
Сойдутся – глядь – лазутчик уж и вьется.
А государь досужною порою
Доносчиков допрашивает сам.
Как раз беда; так лучше уж молчать.
Этот рассказ вызывает саркастическую реплику самозванца: «Завидна жизнь Борисовых людей!».
Не находя опоры в подданных, Годунов ищет ее в самом себе: «Ах! чувствую: ничто не может нас / Среди мирских печалей успокоить; / Ничто, ничто… едина разве совесть…» Но этой-то главной, как оказалось, внутренней опоры Борис и лишен! Он удивляется, что единое, «случайное» пятнышко на совести лишает его покоя, ему (достойному царю!) тринадцать лет сряду снится убитое дитя. Он понимает, что от Бога ему не будет прощения, но даже ценой вечной муки души он готов заплатить за устроение земной жизни по справедливости, как он ее себе представляет. Эту убежденность сохранит до конца, печалясь лишь, что возлагает продолжение такой тяжелой миссии на неокрепшие еще плечи сына.
Посмотрим и на народный суд над Годуновым. Определение роли народных масс в истории предстает одним из важнейших элементов исторической концепции Пушкина. В плане статьи «О народной драме и драме “Марфа Посадница”» поэт отмечал: «Что развивается в трагедии? какая цель ее? Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная». Народную волю Пушкин анализирует в «Борисе Годунове» как самостоятельное слагаемое в числе других воль участников событий.
О народе как о силе, которой трудно противостоять, но которую можно использовать в своих интересах, говорят на протяжении всей трагедии, начиная с первой же сцены (Шуйский: «Давай народ искусно волновать…»). Обсуждая весть о самозванце, Шуйский и Афанасий Пушкин точно определяют, с какой стороны придет главная опасность трону Годунова («Быть грозе великой»). Вопрос о том, как остудить умы, как пресечь на площадях мятежный шепот, Борис выносит на обсуждение царской Думы. Размышление о неодолимости народной силы вложено в уста Гаврилы Пушкина.
Народ в понимании Пушкина – масса разнородная. Сюда, естественно, входит тот слой, который можно определить термином простонародье: он представлен такими фигурами, как мужики и баба с ребенком (сцена «Девичье поле. Новодевичий монастырь»), нищий, люди из народа (сцена последняя «Кремль. Дом Борисов. Стража у крыльца»). Эти люди тоже втянуты в водоворот событий, но их роль пассивна, они не понимают сути происходящего, действуют в роли статистов.



