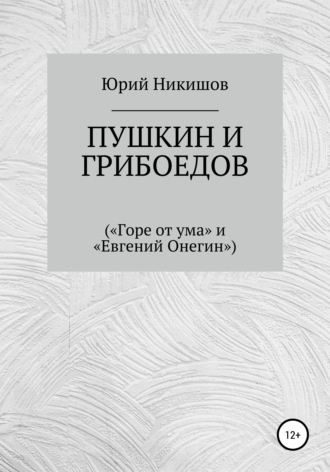
Юрий Михайлович Никишов
Пушкин и Грибоедов («Горе от ума» и «Евгений Онегин»)
И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей…
(Читатель ждет уж рифмы розы;
На, вот возьми ее скорей!)
На поверку здесь созвучие более глубокое, каламбурное, за счет составной рифмы: морозы – рифмы розы. Попутно хочу исправить странную, непонятную ошибку Ю. М. Лотмана, который посчитал: «Сам Пушкин только однажды использовал, кроме “Евгения Онегина”, “мороза – роза” (“Есть роза дивная: она…”)»101. Дело обстояло иначе. До «Онегина» Пушкин действительно не употреблял такой рифмы (рифмовались, начиная с Лицея, довольно часто, розы – слезы, а в связке с ними, угрозы – грезы – прозы; есть рифма о розах – на лозах; в «Кавказском пленнике» рифма дана с изменением звучания слова железы – слезы; вариант мужской рифмы встречается, но очень редко: роз – слез – коз). Осмеянная рифма нарочито литературна, поскольку зарифмованные предметы погодно несовместимы. Это подчеркнуто и Пушкиным, а до него, что показывают комментаторы, – Вяземским («И, в самый летний зной в лугах срывая розы, / Насильственно пригнать с Уральских гор морозы»). Благодаря каламбуру в «Онегине» Пушкин включает (без всякой иронии!) эту рифму в свой репертуар, преодолевая ее отчетливую литературность. Он находит простой, естественный путь, придавая «розе» метафорический характер, а метафору не страшит ни жара, ни холод!
Но бури севера не вредны русской розе.
Как жарко поцелуй пылает на морозе!
А вот строки, которые, конечно, на слуху, – в «Медном всаднике»:
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз.
Препятствия на пути можно обходить, а можно и преодолевать!
Добавлю еще: отношение к рифмообразованию меняется – когда с движением времени, когда по индивидуальному представлению. Маяковский считал неудачными, недопустимыми рифмы с близким буквенным составом (резвость – трезвость). Пушкин ради такого звучания пренебрег даже правдоподобием деталей.
Они дорогой самой краткой
Домой летят во весь опор.
Теперь подслушаем украдкой
Героев наших разговор…
Сомнительно, что к соседям вело несколько дорог, достаточно было одной. При этом был возможен и где-то путь, срезая, прямее, но тропинкой, не для езды в упряжке, а наши герои ведут разговор с ленцой, неспешный, сидя рядом. Такой разговор невозможен в скачке «во весь опор».
Но заметим еще, что Маяковский в критикуемом примере рифмы сталкивает слова одной части речи, тогда как у Пушкина найдено редкое созвучие прилагательного с наречием: второе слово на один звук длиннее, а дальше полное совпадение; даже разница двух букв в середине слов (т / д) в произношении унифицируется.
Звучание слова создает не только рифмы, его значение шире: возникают ритмические связи.
Еще бокалов жажда просит
Залить горячий жир котлет,
Но звон брегета им доносит,
Что новый начался балет.
Очевидно, что «бокалов – брегета – балет» скреплены аллитерационной связью, а «брегета – балет» образует еще и внутреннюю рифму. Данное четверостишие богато аллитерациями, своеобразно расположенными; ниспадая, они переходят из строки в строку: жажда – жир, залить – звон, но звон доносит – новый начался.
Здесь нет возможности исчерпать все выразительные ресурсы поэтического слова. Но попробуем еще проследить развитие взятого на выбор сквозного поэтического образа на уровне тропа – сравнения, метафоры, метафорического эпитета.
Остановим внимание на поэтическом образе бури и производных от него; легко предположить, что в «Евгении Онегине», размышлении о судьбе человека, вполне естественно возникают ассоциативные апелляции к мощному и грозному стихийному явлению.
Не лишено интереса, что поэтический строй первой главы несколько отличается от стиля последующего повествования. Поэтическая речь здесь более аскетична, из поэтических украшений на первом месте прием, не чуждый метафоре и сравнению, но тем не менее автономный, – перифраз.
Выделенный образ вначале появляется не в собственно поэтическом, т. е. переносном, а в прямом значении: «Я помню море пред грозою…» Вскоре образ повторяется в том же содержании; другим становится лишь контекст, воспоминание сменяется мечтою: «Под ризой бурь, с волнами споря, / По вольному распутью моря / Когда ж начну я вольный бег?» В финале первой главы образ получает метафорическое значение: «И скоро, скоро бури след / В душе моей совсем утихнет…»
В первой главе отмеченный образ встречается только в авторских рассуждениях и характеризует преимущественно ход авторских переживаний, но однажды отнесен и к герою, который здесь назван «отступник бурных наслаждений». Сочетание носит оксюморонный характер; для «наслаждений» более естествен «мирный» эпитет, как в обобщенном авторском рассуждении, открывающем вторую главу (в деревне, где скучал герой, «друг невинных наслаждений / Благословить бы небо мог»). Кстати, в ином сочетании «наш» эпитет встречается в четвертой главе, где дается краткое резюме онегинской предыстории: «Был жертвой бурных заблуждений…»
Сквозной образ быстро расширяет свой диапазон. Он проникает в беседу поэта с читателем:
Зато любовь красавиц нежных
Надежней дружбы и родства:
Над нею и средь бурь мятежных
Вы сохраняете права.
Следом образ переходит в средство изображения переживаний героини:
Здоровье, жизни цвет и сладость,
Улыбка, девственный покой,
Пропало всё, что звук пустой,
И меркнет милой Тани младость:
Так одевает бури тень
Едва рождающийся день.
В роман входит весьма изысканное сравнение, когда зримое явление поясняется с помощью отвлеченной метафоры:
Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный…
Шестая глава обрамлена кольцом, где метафора контрастно характеризует образ человеческой жизни. Персонаж, Зарецкий, блаженствует, «Под сень черемух и акаций / От бурь укрывшись наконец…» Автор благодарен юности за противоположное: «Благодарю за наслажденья, / За грусть, за милые мученья, / За шум, за бури, за пиры…» Однако связь между этими обращениями к одному образу не просто контрастная, она много сложнее. Поэт сам в первой главе выражал надежду, что «бури след» утихнет в его душе. Персонаж типа Зарецкого мог не ставить подобной осознанной цели, зато стихийно мог вполне успешно ее достичь; поэт уставал от бурь и мечтал о покое, даже в труде своем находил «забвенье жизни в бурях света», но в конце концов признавал неизбежность и необходимость бурь и был благодарен жизни «за все, за все» ее дары.
Образ бури – в форме параллелизма – входит, в другом значении, и в центральный сюжетный эпизод главы – в изображение трагической смерти Ленского: «Дохнула буря, цвет прекрасный / Увял на утренней заре…»
Добавлю, что метафорический эпитет, производный от сквозного образа, дважды отнесен к Ленскому: в авторской речи (герой-поэт творит «в волненье бурных дум своих…») и в цитируемых «собственных» стихах («Рассвет печальный жизни бурной!..»). Самовосприятие героя, подкрепленное авторской характеристикой, «работает» на героический вариант гипотетической судьбы Ленского.
В драматической финальной восьмой главе образ играет значительную роль. Он раздваивается в своем содержании в пределах одной строфы: плодотворные вешние бури противопоставлены разрушительным бурям осени холодной. В монологе Татьяны встречаем эмоционально негативную параллель к авторскому утверждающему по тону сравнению: Татьяна невысоко ставит свои успехи «в вихре света». Наконец, в самом финале сквозной образ отдан заглавному герою: «В какую бурю ощущений / Теперь он сердцем погружен!»
Один поэтический образ – а сколько в нем разнообразных оттенков, буйства фантазии, то сдержанной, то насыщенной эмоциональности!
Зрелость героев
1
«Горе от ума» опередило исторические события. Задуманная на чужбине, написанная вне контакта с будущими декабристами, комедия о страдающем умнике была закончена в канун знакомства поэта с руководителями Северного общества; никакую правку Грибоедов после этого не вносил.
А декабристы восприняли «Горе от ума» с восторгом! Именно они постарались, чтобы комедия широко разошлась в списках. В Чацком они увидели своего единомышленника. Остережение заглавия не почувствовали.
Но тут возникает необходимость наши анализы двух шедевров разделить. Исторические события могут бросать свой отсвет на все сферы жизни, даже на явления, непосредственно с ними не связанные. Но нужен и взгляд изнутри таких явлений.
М. В. Нечкина в капитальной работе «Грибоедов и декабристы» столкнулась с дефицитом материала. Она пошла путем аналогий: Грибоедов дружил с декабристами (правда, после окончания комедии); у его друзей были вот такие воззрения; возможно, и Грибоедов был с ними солидарен. Грибоедов в письме Бестужеву передает Рылееву республиканский привет. Стало быть, и Грибоедов был республиканцем. Но ведь возможно и другое толкование: Грибоедов уважает позицию Рылеева, но нет гарантий, что разделяет ее.
Попробуем опираться только на зафиксированные Грибоедовым воззрения.
Но для разбега – то, с чего и начинались страсти вокруг «Горя от ума»: хочу привести суждение о герое главного зоила комедии, первым обрушившегося на нее, М. А. Дмитриева: Чацкий «есть не что иное, как сумасброд, который находится в обществе людей совсем не глупых, но необразованных и который умничает перед ними, потому что считает себя умнее: следовательно, все смешное – на стороне Чацкого!»102. Хотелось просто привести мнение ретрограда как курьез. Оказалось, в наше время выпады против грибоедовского героя возродились даже более непримиримыми: «Земной – социальный (языческий) – идеал Чацкого требует полного отрицания и полной перестройки враждебного “естественного” мира по вечной схеме: “до основанья и затем…”. И начинать, в отличие от Софьи, он собирается не с себя: он и так “идеален”. Его цель абстрактна и утопична, поскольку рассчитана на абстрактного “общечеловека”. Подобно возгордившемуся демону, он стремится разом разрушить подаренный Богом мир, чтобы поскорее смастерить рукотворный новый»103.
Субъективизм сейчас выставляется как добродетель. Ныне и по нынешней моде – рейтинг главного героя начал стремительно падать: зачем ума искать и целить так высоко? «В том мирке, куда он так неосторожно вторгся, ему суждено быть только шутом и безумцем. <…> Действуя героически (в своих координатах), Чацкий независимо от чьих-либо мстительных планов, смешит, как шут, и пугает, как безумец»104. Такое мнение поддержано: «Чацкий выполняет в пьесе функции “шута”, осмеиваемого насмешника»105.
Любителей потоптаться на «Горе от ума» набирается немало; не будем перебирать все эти выпады. Лучше прислушаемся и приглядимся к самому герою.
Ничуть не пустой оказывается затея разобраться, что же это за человек – Александр Андреич Чацкий!
Только не странен ли наш аспект: зрелость героя? За одни сутки повзрослел? Чацкий как раз привлекает цельностью характера. Только не всё сразу. Герой показан молодым, увлекающимся, обидчивым, покорным чувству одному, ошибающимся там, где не споткнется человек средних дарований. Обстоятельства помогут обнаружить, что он мудрый.
Если Софья – полусирота, то Чацкий, получается, – полный, да еще и ранний сирота, выросший в доме друга отца, Фамусова. Эти сведения скупые, но внятные. Впору зачислять их Фамусову в актив.
К слову, в Чацком и сейчас живы воспоминания ранних детских лет:
Где время то? где возраст тот невинный,
Когда, бывало, в вечер длинный
Мы с вами явимся, исчезнем тут и там,
Играем и шумим по стульям и столам.
А тут ваш батюшка с мадамой за пикетом;
Мы в темном уголке, и, кажется, что в этом!
Вы помните? вздрогнём, что скрипнет столик, дверь…
Софья не поддерживает эти воспоминания: «Ребячество!»
Гоголь напутствовал: «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!»
Получается: не возрастом, но душою Чацкий моложе Софьи!
Чацкий врывается в Москву отнюдь не как борец, его цель камерная, личная: навестить девушку, которую полюбил и чувство к которой за годы отлучки не остыло. А она повзрослела и похорошела. Он ведет себя по отношению к Софье так, как будто не было трех лет разлуки! Он нисколько не сомневается, что девочка к моменту разлуки любила его и сохранила это чувство. А встреча его обескураживает: девушка ему не рада!
Чацкий пускается в иронические воспоминания о былых знакомых. Но это не средство найти хоть какую тему для разговора: это попытка возобновления контакта. Возможно, при новой встрече, фактически при вторичном знакомстве с Софьей, герой действует на основе сложившегося опыта. Если когда-то девочка охотно соглашалась действовать по сценарию старшего, ей это нравилось, то почему сейчас «ни на волос любви»? Это Чацкого обескураживает. Солидарный с героем аргумент выдвигал О. М. Сомов: «…он привык забавлять ее своими колкими замечаниями насчет чудаков, которых они знали прежде… Самая мысль, что это прежде нравилось Софье, должна была уверить его, что и ныне это был верный способ ей нравиться»106. Того же мнения придерживался А. С. Суворин: Чацкий «помнит, как нравились ей его насмешки, как она хохотала с ним. Воскресить перед ней эти воспоминания, понравиться ей ими – вот чего он желал»107.
Подтвердим текстом. Лиза еще до появления Чацкого нахваливает его – Софья этим недовольна: «Он славно / Пересмеять умеет всех; / Болтает, шутит, мне забавно; / Делить со всяким можно смех». У Лизы другое мнение: «И только? будто бы?» Лиза – свидетель, что когда-то шуточки Чацкого Софью не просто смешили, а ей нравились. Было – да прошло. Зрителю-читателю это сразу ведомо, а для Чацкого тот факт, что прошло, – шокирующая неожиданность! Его попытка косвенным путем (шуточками над окружающими) восстановить контакт не только безуспешна, но и дает отрицательный результат. Софья не удерживает резкость: «Вот вас бы с тетушкою свесть, / Чтоб всех знакомых перечесть». Чацкий удивлен: «Послушайте, ужли слова мои все колки? / И клонятся к чьему-нибудь вреду?»
Стало быть, дело в переменах, которые произошли в Софье? Для зрителя это на виду, а для героя возникает загадка Софьи. Если в комедиях возникает загадка ситуации, зрители разгадывают ее вместе с положительным героем, их сочувствие на его стороне. «Горе от ума» строится иначе: здесь нет сюжетной интриги, здесь в основе психологическая задача понять главного героя, да еще такого, который ведет себя странно.
Фамусов не то чтобы рад гостю, но вполне доброжелателен, обнимает, приговаривая: «Здорово, друг, здорово, брат, здорово». Но первый разговор с Чацким у них обоих совсем не получился. Хозяин озабочен, не друг ли детства приснился дочери и не успела ли она поведать о том приехавшему: такой неотразимый, нежелательный отцу повод для их сближения! Чацкий озабочен холодностью девушки, так что отвечает невпопад и спешит на время откланяться.
Для понимания воззрений героя первое действие представляет собой своеобразную экспозицию, для развития общественного конфликта – всего лишь идеологическую разминку. Второе действие идеологически самое насыщенное, здесь два первостепенных монолога Чацкого.
Главный герой поначалу внешне спокоен, а в то же время более чем когда-либо позже «не в своей тарелке». Он игнорирует свое же обещание рассказать о путешествиях, потому что совершенно потрясен холодностью Софьи, никак не может отвлечься от этих мыслей, а с Фамусовым говорит о ней – как будто о постороннем для того человеке, нарываясь на вполне естественную иронию. Даже о сватовстве заходит речь, но для героя вроде как только из праздного любопытства. Понятно: Чацкий начинает не со сватовства, а с выяснения чувств девушки.
А с хозяином дома разговор быстро выходит на политические темы. Надобно осмыслить решительное заявление Чацкого: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Герой не выставляет политических условий, т. е. не связывает свою позицию с режимом государственного устроения (монархического или республиканского); он только оценивает политику данной власти. В ответ он получает развернутый монолог Фамусова, многословный, но по мысли весьма неширокий, предназначенный лишь для опровержения утверждений Чацкого. Речь Фамусова конкретна и адресна. Он и начинает, и кончает подначкой («все вы гордецы!» – «Вы, нынешние, – ну-тка!»), но это формальность: не мнение гостя его интересует, всё говорится в поучение Чацкому, с подразумеванием, что он не один такой строптивый. «Фамусов – демагог, циник, пошляк. Он подозрителен, во всем видит смуту, крамолу, неповиновение, бунт. …он сознательно провоцирует гневные филиппики Чацкого: “А? как по-вашему?..”»108. По Фамусову, уважения заслуживает лишь тот, кто умеет служить, а умение служить не только не исключает, но предполагает как обязательное условие умение подслужиться. Цепочка власть предержащих длинная, а венчается «монаршиим лицом».
Чацкому учиться «на старших глядя» ну никак не хочется. И речь его своеобразна: Фамусов конкретен, Чацкий стремится к обобщению, ему хочется «посравнить да посмотреть / Век нынешний и век минувший…» Привлекает этот философский размах. Но тут же выясняется: Чацкий приехал каким-то розовым романтиком – в мир, которого не понимает, в мир, который его не понимает.
Началось со встречи с девушкой, которую любил, а увидев после разлуки, полюбил еще крепче – да потерялся, не обнаружив взаимности. Теперь говорит с отцом этой девушки – как будто совсем с чужим человеком. А ведь это особа важная: он стоит между ним и возлюбленной! С ним-то надо было хотя бы на ссору для начала не нарываться. У Чацкого никакого терпения нет: услышал нечто противное своим убеждениям – и сразу в свару.
Об этом свойстве героя хорошо написал О. М. Сомов: «…в ту минуту, когда пороки и предрассудки трогают его, так сказать, за живое, он не в силах владеть своим молчанием: негодование против воли вырывается у него потоком слов, колких, но справедливых. Он уже не думает, слушают и понимают ли его, или нет: он высказал все, что у него лежало на сердце, – и ему как будто бы стало легче. Таков вообще характер людей пылких, и сей характер схвачен г. Грибоедовым с удивительной верностию»109.
Цель Фамусова (прочесть нравоучение), пусть наивная, понятна. Но с какой целью говорит Чацкий? Он пользуется деталями из фамусовского описания, но придает им символическое обобщение, от конкретики уходит («Я не об дядюшке об вашем говорю»); он говорит не собеседнику, а в пустоту (мечет бисер!).
Между тем сопоставления двух веков у Чацкого односторонни. Один безжалостно осуждается: «Прямой был век покорности и страха, / Всё под личиною усердия царю». Другому – завышенная хвала:
Хоть есть охотники поподличать везде,
Да нынче смех страшит и держит стыд в узде;
Недаром жалуют их скупо государи.
«Фамусов, подозревая при первой встрече в Чацком жениха Софьи, недоволен вовсе не потому, чтобы считал его зловредным вольнодумцем; нет, но этот франт-приятель отъявлен мотом, сорванцом, и только. И лишь когда из уст Чацкого полились те обличения, за которые мы полюбили его», Фамусов изумлен. Для него «это совершенно новые качества выросшего в его доме юноши»110.
Финал сцены потрясающий! Следует ярчайший эпизод из серии «говорить – не слышать». По форме – диалог. Но каждый из поочередно говорящих собеседника не слышит. Чацкий еще не закончил свою речь и продолжает витийствовать, а Фамусову выслушивать с его точки зрения кощунство уже невмочь, и он начинает вставлять осудительные реплики, выплескивая свои эмоции. Этот абсурд первым видит Чацкий; он уже не удивляется (финал разговора с Софьей открыл ему, что на его слова реакция собеседника может быть для него неожиданной), закругляет свою речь. Но разгоряченный Фамусов реагирует уже не на слова, а только на звук речи, ничего не видит и не слышит, зато свои угрозы наращивает.
Мимо Фамусова проходят такие похвалы Чацкого новому веку: «Вольнее всякий дышит / И не торопится вписаться в полк шутов»; «Кто путешествует, в деревне кто живет…»; «Кто служит делу, а не лицам…». Мы – давайте их услышим. Тогда нужно осознать, что программа героя реальна, хотя и весьма скромна. Чацкий отталкивается от своего опыта, но его приукрашивает: служить делу, а не лицам – это его мечта, но возможности реализовать такую он еще не нашел; далеко не всякий дышит вольнее, а у многих и потребности такой нет. Сторонники старых порядков спокойненько перенесли их в новый век. Говоря о победе нового над старым, Чацкий выдает желаемое за действительное.
Для Фамусова малейшее отступление от канона – крамола высшей степени: «Ах! боже мой! он карбонари!»; «Опасный человек!»; «Он вольность хочет проповедать!»; «Да он властей не признает!»; «Строжайше б запретил я этим господам / На выстрел подъезжать к столицам»; «И знать вас не хочу, разврата не терплю»; «Не слушаю, под суд! под суд!» Ладно еще – доносчиком не возникает желания стать. Не вельможное это дело?
Кое-как, с помощью Чацкого, удалось слуге доложить о визите Скалозуба.
Чацкий и раньше был готов повернуть на мировую («Длить споры не мое желанье»), теперь и Фамусов остывает («Эх! Александр Андреич, дурно, брат»). Теперь у него одна, но настойчивая просьба: «Пожало-ста при нем веди себя скромненько…». Перед Скалозубом (подозрительно для Чацкого) лебезит.
В новой сцене Чацкий довольно долго терпит подобострастные разговоры Фамусова, но не вмешаться – выше его сил. А тут еще далеко не все зависит от натуры героя: Фамусов как будто специально провоцирует нежелательного гостя. Сам же уговаривал Чацкого помолчать, а тут недвусмысленно в открытую дразнит его: «Другой хоть прытче будь, надутый всяким чванством, / Пускай себе разумником слыви, / А в семью не включат». Это же прямой личный выпад! Выдержки Чацкого хватает на то, чтобы на него не отвечать, но свои убеждения порочить он не позволяет.
Здесь во всю мощь проявился Чацкий-полемист. Он и в первом монологе от конкретного шел к обобщению. Теперь монолог начинает с уже прозвучавшей мысли, придав ей образное воплощение, о пагубе жить идеями ушедшего века. Вроде бы традиции – не зазорная вещь? Но устами Чацкого теперь говорит нетерпение молодости: «что старее, то хуже». Далее мысль героя идет вширь. Он произносит самый острый свой монолог «А судьи кто?», содержащий наиболее значительные политические высказывания.
Достанется фамусовскому обыкновению выставлять в пример образцы, да еще личные («мы, например, или покойник дядя…»): «Где, укажите нам, отечества отцы, / Которых мы должны принять за образцы?» Чацкий зачеркнет примеры покрупнее:
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве…
Припечатано нахваливаемое Фамусовым московское гостеприимство: «Да и кому в Москве не зажимали рты / Обеды, ужины и танцы». Словесная пикировка перерастает в непримиримый идеологический бунт: «старое» и «новое» сталкиваются бескомпромиссно.
Сердцевина монолога – острейший выпад против страшной язвы на теле государства – крепостничества. Выделен «Нестор негодяев знатных». Окруженный толпою преданных слуг, он на них «выменял борзые три собаки!!!» А вот вроде бы даже культурный человек, но «На крепостной балет согнал на многих фурах / От матерей, отцов отторженных детей», а кредиторов «не согласил к отсрочке»:
Амуры и Зефиры все
Распроданы поодиночке!!!
Вот те, которые дожили до седин!
Вот уважать кого должны мы на безлюдьи!
Вот наши строгие ценители и судьи!
Тема крепостничества не развертывается широко (это ведь не политико-экономический проект), ограничивается моральным аспектом: бесчеловечно торговать людьми. Точную оценку антикрепостническому выпаду дает Н. К. Пиксанов: «Молодых образованных и чутких дворян времен Грибоедова коробили грубые формы крепостничества, и они надеялись, что дело можно поправить “гуманностью”. Но отсюда еще далеко до освобождения крестьян. Нечего и говорить, что условия освобождения могли сильно варьировать у действительных сторонников освобожденья крестьян»111. И еще: «необходимо устранить заблуждение, будто критика недостатков института <крепостного права> обозначает его полное отрицание. <…> Вернее считать, что Грибоедов, как и многие либералы двадцатых-тридцатых годов, в том числе и многие декабристы, был умерен в вопросе об освобождении крестьян и не свободен от дворянского своекорыстия» (с. 48).
Что касается «гуманности»… Почему-то не ставится в эту строку факт, что Фамусов пеняет Чацкому за его «оплошное» управление своим имением. А факт этот можно понять только однозначно: Чацкий, не дожидаясь глобального решения крепостной проблемы, в своем имении дает крестьянам какие-то (и для себя максимально возможные, но себе в убыток) послабления.
А что по другую сторону?
Теперь пускай из нас один,
Из молодых людей, найдется – враг исканий,
Не требуя ни мест, ни повышенья в чин,
В науки он вперит ум, алчущий познаний;
Или в душе его сам бог возбудит жар
К искусствам творческим, высоким и прекрасным, –
Они тотчас: разбой! пожар!
И прослывет у них мечтателем! опасным!! –
Два монолога Чацкого произносятся один за другим (герой не сходит с места), промежуток времени между ними ничтожный, повторяется анафема прошедшему веку, но обнаруживается очень серьезная разница в отношении к современности. Первый монолог оптимистичен, исполнен веры в новый век («держит стыд в узде», «вольнее всякий дышит»). Буквально следом картина рисуется другая. В отстроенные после пожара московские дома перенесены сохраненные предрассудки. Контраста двух веков нет. Критика пороков более серьезна и предметна. Первый монолог хоть и отталкивается от рассказа Фамусова о дяде, но переходит в обобщенный сравнительный анализ двух веков. Теперь выясняется, что Чацкий отнюдь не безучастно терпел разговор Фамусова и Скалозуба. Новый монолог по многим пунктам строится как разоблачение разглагольствований Фамусова: кумовства («Защиту от суда в друзьях нашли, родстве»), гостеприимства (которым зажимают рты), заискиваний (запомнил, оказывается, из детства: «Не тот ли, вы к кому меня еще с пелен, / Для замыслов каких-то непонятных, / Дитёй возили на поклон?» Дитю замысел непонятен, а задним числом недобрый подтекст «акции» становится очевиден). Фамусов умиляется московскими девицами («можно ли воспитаннее быть!»), когда воспитанность усматривается в умении «себя принарядить» – но ради чего? «К военным людям так и льнут, а потому что патриотки». Чацкий уравнивает: сами хвалятся «тафтицей, бархатцем и дымкой», – соответственно ловят «мундир! один мундир!». Патриотизм тут совсем ни при чем, а вот если мундир полковничий, а в ближайшей перспективе генеральский – тут другой интерес. Но Чацкий может и выходить за круг заявленных собеседниками тем, важнейшая из которых – рабовладение. Это уже прямой идеологический бунт. Конфликт принимает общественно-политический характер. «Разрешимость конфликта теперь не зависит от доброй воли положительного героя, более того, в существующих реально и воплотившихся в комедии исторических условиях конфликт этот неразрешим»112.
Что противостоит? «Теперь пускай из нас один…». Все-таки остается – мы, только выступать приходится в одиночку. Результат предсказуем: староверы «тотчас: разбой! пожар! / И прослывет у них мечтателем! опасным!!». Нечто подобное Чацкий только что слышал от Фамусова. Протест героя сулит трагический исход обозначившегося конфликта.
Чацкого нередко воспринимали резонером. Писал по свежему следу Н. И. Надеждин: «Это не столько живой портрет, сколько идеальное создание Грибоедова, выпущенное им на сцену действительной жизни для того, чтоб быть органом его собственного образа мыслей и истолкователем смысла комедии. <…> Это род Чайльд-Гарольда гостиных»113. Мельком, но о том же сказал К. А. Полевой: «Поэт невольно, не думая, изображал в нем <Чацком> самого себя»114. Свидетельствует, но с неудовольствием В. И. Немирович-Данченко: «Большинство актеров играют его <Чацкого>, в лучшем случае, пылким резонером. Перегружают образ значительностью Чацкого, как общественного борца. Как бы играют не пьесу, а те публицистические статьи, какие она породила. Самый антихудожественный подход к роли. <…> Затем идет боязнь актеров унизить Чацкого, если отдаться всеми нервами веселости, радости или другим чувствам, так свойственным всякому молодому влюбленному, к каким бы гениальностям он ни принадлежал. В этом тоже художественная узость, оскопившая множество сценических образов на протяжении последних двадцати пяти лет»115 (имеется в виду начало ХХ века).
Впечатление резонерства Чацкого закрепляется ситуацией. Третье действие вершится обширным монологом героя. Начинается он адресно, жалобой на горе в душе. Возникает у героя желание, как говорится, поплакать в жилетку Софье, найти хоть у нее уж не нежности – лишь капельку сочувствия среди всеобщего отчуждения. Недолго это длится: и он теряет из виду Софью, и та от него удаляется (послушная знакам отца? или просто приглашенная кем-то на танец?). Монолог произносится в пустоту и обрывается незавершенной фразой: «Глядь…» И следует многозначительная ремарка: «Оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердием. Старики разбрелись к карточным столам». И опускается занавес. Конец III действия.
Но есть большой соблазн посчитать, что монолог идет не в пустоту. Да, «действующие» монолог не воспринимают, оратора отторгают. Но монолог идет в зрительный зал – не в расчете ли на то, что именно там (пусть не у всего зала, но хоть у кого-нибудь; в советские годы нашей истории – у многих, если не у всех, кто пришел на этот спектакль) герой найдет понимание и сочувствие, чего лишен на сцене? Иными словами, возникает характерная ситуация общения автора со своими сочувственниками при посредстве героя-резонера?
Контрастное представление о герое наличествует: «Чацкий не псевдоним Грибоедова, а его подставное лицо»116. «Чацкий – не идеал, не рупор, а живой человек, написанный к тому же психологически сложно, тонко, разветвленно. <…> Появление Чацкого в русской литературе сродни его явлению в доме Фамусова: он был странен и неприемлем» (с. 170).
Воззрение на Чацкого как на резонера, пожалуй, инерционно и неверно. Разумеется, этот герой выделен и пользуется авторской симпатией (чуткое ухо Пушкина услышало и сатирические замечания, почерпнутые у Грибоедова), но этого все же недостаточно, чтобы воспринимать героя alter ego писателя117.
А. А. Кунарев обращает внимание на психологическую сторону проблемы: «Теперь относительно пушкинского упрека: “кому говорит?” Да, фамусовым и скалозубам, репетиловым и т. п. – это правда. Но, положа руку на сердце, спросим себя: если сердце изболелось, если невмоготу становится от самодовольно торжествующей пошлости и подлости, если не можешь уже сдержаться, будешь ли выбирать специально слушателей, “аудиторию”?»118. «…Чацкий не агитатор и целью его вовсе не является обращение в свою веру слушателей – для него важно четко обозначить свою позицию, дабы молчание не было воспринято за согласие с превозносимыми Фамусовым и иже с ним житья “подлейшими чертами”» (с. 433).



