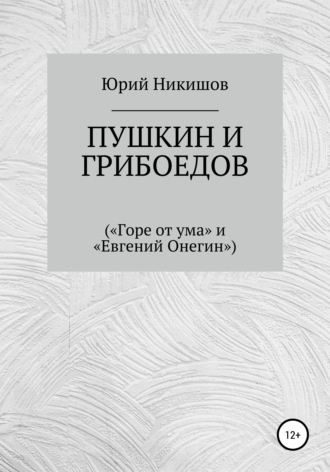
Юрий Михайлович Никишов
Пушкин и Грибоедов («Горе от ума» и «Евгений Онегин»)
Очень верно оценил движение романа и его сюжетный итог С. Г. Бочаров: «На его свершившийся сюжет мы можем посмотреть как на свершившуюся возможность, которая не исчерпывает всей реальности. Герои больше своей судьбы, и не сбывшееся между ними – это тоже какая-то особая и ценная реальность. И это несбывшееся тоже входит в смысловой итог романа. Оно присутствует здесь как особая тема, как прерывистая “другая линия”…»208. И еще важное заключение: «Реальность, включающая в себя богатство возможностей – как иного хода действия и судьбы героев, так и возможностей будущего романа, литературного развития, – вот что такое “Евгений Онегин”» (с. 42).
Мы видели, что, представив контрастные варианты возможных путей жизни Ленского, Пушкин тонко обозначил и свой выбор. А, может быть, найдется вполне явственная пушкинская подсказка и относительно гипотетической судьбы Онегина (или даже наметка пушкинского решения этой проблемы)? Пушкин воспользовался преимуществами своей повествовательной манеры. Легко было фантазировать насчет гипотетической судьбы Ленского, просто аналогиями со знаменитостями; все это относилось в неопределенное будущее, а там мало ли какой билет могла выдать судьба. Судьба Онегина проецировалась на реальное историческое время. А тут поэт воспользовался выгодной для себя ситуацией: фигуру героя 1825 года он дорисовывал в 1830–1831 годах и фактически проецировал будущее героя на свое реально наблюдаемое настоящее.
У нас есть возможность оценить очень важный фрагмент романа: вопреки всем обыкновениям, уже после обозначения «Конец», после примечаний (непременном знаке конца!), в печатный текст романа добавляются «Отрывки из путешествия Онегина».
Путешествие Онегина в советское время чаще всего трактовалось как плодотворное для героя: здесь усматривали основу его духовного возрождения. Такое заключение выводилось умозрительно, желательное выдавалось за реальное.
Онегин (совсем недавно) обрел, казалось бы, устойчивую жизненную позицию: «вольность и покой» заменой счастью. Но убийство друга лишило его покоя, и вольность выродилась в идейно-эмоциональную противоположность, стала «постылой свободой». Но ведь путешествие – прямая попытка героя поправить случившийся душевный дискомфорт!
В начале восьмой главы, возвращаясь к Онегину после трехлетнего отсутствия его в повествовании, Пушкин сдержан и даже ироничен:
Убив на поединке друга,
Дожив без цели, без трудов
До двадцати шести годов,
Томясь в бездействии досуга
Без службы, без жены, без дел,
Ничем заняться не умел.
Получается, что и в путешествие он отправился «от делать нечего». Значит, и толкового результата ждать не приходится. Только давайте учитывать, что в восьмой главе и без того слишком много острого для подозрительного глаза; зачем уточнения, усугубляющие опасность? В сохранившихся строфах «Путешествия» об этом сказано иначе:
Наскуча или слыть Мельмотом
Иль маской щеголять иной,
Проснулся раз он патриотом
Дождливой, скучною порой.
Россия, господа, мгновенно
Ему понравилась отменно,
И решено. Уж он влюблен,
Уж Русью только бредит он,
Уж он Европу ненавидит
С ее политикой сухой,
С ее развратной суетой.
Онегин едет; он увидит
Святую Русь: ее поля,
Пустыни, грады и моря.
К такой строфе какая цензура могла бы предъявить претензии? К ней самой – так. А в контексте?
Онегина повела в путешествие цель великая! Он сам отрешается или пытается отрешиться от духовного дискомфорта: «Проснулся раз он патриотом». Вот когда (а ведь настал и такой момент!) – в духовном плане – пересеклась жизнь Онегина с Отечественной войной, да и другими подвигами Отечества. Героя повело в путешествие не безделье, а желание увидеть «святую Русь»! Если бы вернулся окрепшим патриотом, цензура какой угодно власти против этого не возражала бы. Онегин насмотрелся иного… Не все благополучно на родных просторах!
«…Маршрут, выбранный Онегиным, не случаен и примечателен. В нем ясно видна цель, просматривается определенный умысел. Это путешествие по “горячим точкам” русской истории, по ее героическим страницам, продиктованное желанием увидеть собственными глазами современное состояние России и оценить ее перспективы»209. Особенно это заметно в начале путешествия: Великий Новгород, символ вольнолюбия, Москва, не склонившая гордой головы перед «нетерпеливым героем», Нижний Новгород, поднимавший народное ополчение во спасение отечества, разинские Астрахань и Волга. Современные картины этих знаменитых мест подаются с контрастным эмоциональным знаком. Великий Новгород: мятежный колокол давно утих (а в подтексте – еще и военные поселения, аракчеевское Грузино). Москва, развенчавшая Наполеона: в Английском клобе Онегин слышит «о кашах пренья», молва «его шпионом именует», «производит в женихи»210 (только этого ему и недоставало). Нижний Новгород, вотчина Минина: меркантильный ярмарочный дух. Волга: Разин жив в песнях бурлаков, да поют-то про удалого атамана рабы, тянущие судно, поют «унывным голосом». В разинской Астрахани Онегин пытается углубиться «в воспоминанья прошлых дней», но… атакован совсем иной ватагой – тучей нахальных комаров и спасается бегством. Итак, все картины эмоционально однозначны.
В том-то и дело, что патриотические чувства отнюдь не укрепляются в Онегине во время путешествия, а как раз подпадают под сокрушающий удар! Порыв героя не только не подкрепляется, но буквально парализуется общественной пассивностью. Онегин надломлен изнутри, психологически, наблюдаемые обстоятельства не исцеляют, а усугубляют его душевный неуют. Познавательное значение путешествия огромно: герой имеет возможность заключить, что жизнь в исторически активных местах России переменилась – и к худшему: на местах былого величия торжествующе разрастается пошлость. Вот почему роману понадобился дисгармоничный довесок в виде отрывков из путешествия.
Краткую эмоциональную вспышку в герое вызвала-таки экзотика Кавказа, что было помечено черновой строкой: «Онегин тронут в первый раз». Только ведь не любоваться пейзажами отправился Онегин: ему смысл жизни очередной раз понадобилось скорректировать. Виноват ли он, что жизнь обделила его на вдохновляющие впечатления? На невосприимчивость героя сетовать не приходится: он объективно угодил на темную полоску жизни (призывов «Живи на яркой стороне» не дождался).
Подавленным выглядит Онегин и в единственной строфе, подробно передающей его состояние в эпизоде на целебных кавказских водах:
Онегин взором сожаленья
Глядит на дымные струи
И мыслит, грустью отуманен:
Зачем я пулей в грудь не ранен?
Зачем не хилый я старик,
Как этот бедный откупщик?
Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма? – ах, создатель!
Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать? тоска, тоска!..
В этом внутреннем монологе Онегина заметна даже нотка ревности; видимые всем и вызывающие сочувствие страдания ранения, или старости, или паралича, или хотя бы ревматизма уступают его «непризнанным мученьям», хотя он еще только на пороге зрелых лет (по внутреннему ощущению «молод», в отличие от преждевременной старости души, одолевавшей его в цвете молодости) и внешне здоров. Нет оснований видеть героя открытым к сочувствию народной жизни: Онегин слишком замкнут в собственных страданиях, чтобы обращать внимание, кроме ревнивого, на чужие.
Путешествие Онегина заканчивается в Одессе посещением поэта. К невским берегам отправляется герой «очень охлажденный, / И тем, что видел, насыщенный…» («охлажденный», не воспламененный).
В восьмой главе итог путешествия подан иронично:
И начал странствия без цели,
Доступный чувству одному;
И путешествия ему,
Как всё на свете, надоели…
Непосредственное описание дает иную мотивировку: в путешествие Онегина повела именно цель, цель высокая, гражданская, патриотическая. Результат противоположный? Путешественник не избавился от кризиса, а усугубил его? Но в том повинен не герой, не его слепота, а покривившаяся жизнь; в оценке ее Онегин (в подаче Пушкина!) объективен. И не пресыщенность, а покрепче – отвращение в итоге.
Не поддадимся соблазну злорадствовать над героем, против которого обернулись все обстоятельства. Напротив, будем благодарны ему: именно такой герой помог поэту разглядеть очень важное жизненное явление и художественно его воплотить.
На календаре героев еще преддекабрьское время, но Пушкин дорисовывает Онегина на рубеже 20-х и 30-х годов. Задним числом поэт резче расставляет акценты, показывая общественное равнодушие как косность, противостоящую энтузиазму горстки благородных людей, вознамерившихся преобразовать Россию. Но это не анахронизм; совсем ни к чему ломать онегинский календарь, чтобы увидеть в герое тип, более четко проявленный после 14 декабря.
Пушкин мудро разглядел противоречия своей, только что оставленной позади эпохи. Неоцененный мировоззренческий урок поэта состоит в том, что любой, без исключения, момент исторического развития, взятый на выбор, нельзя красить одним цветом. В любой момент идет борьба нового со старым. Разумеется, условия бывают разные, они благоприятствуют тем или другим устремлениям; эти условия придают эпохе свой колорит, но никогда не исчерпывают оттенков жизни. Россия косная существовала и в эпоху декабристов: одних она устраивала, других подавляла, в декабристах же рождала благородный протест и жажду борьбы за обновление родины. Александр неплохо начинал («Он взял Париж, он основал Лицей»), да кончил Священным союзом и аракчеевщиной. Аракчеевской реакции противостояло широкое общественное движение, но наберется и немало акций, разрозненных, менее сплоченных и организованных, но по-своему героичных, противостоявших николаевской реакции, мрак которой сгустился. Между двумя соседними эпохами (где царствовали братья), как видим, можно отметить черты сходства и в их плюсах, и в их минусах, но черты сходства не мешают воспринимать эти эпохи контрастными: меняется общественный тонус, иначе расставляются акценты. На формирование личности Онегина в александровскую эпоху оказывает влияние не главная тенденция, а ее побочные тенденции. Это хуже для репутации героя, но это реальность.
Уместно предположить, что отнюдь не одна цензура повинна в том, что Онегин не показан в стане декабристов. Художник, обдумывая финал романа, хронологически оптимально завершил повествование в канун восстания. Судьба героя оставлена открытой! Допустимо думать, что поэт отказался бы от изображения декабристской судьбы героя – по своему решению, не под давлением цензуры. Такая версия, за отсутствием прямых авторских свидетельств, только гипотетична: может быть, слишком резким оказывался разрыв между начальным «бытовым» Онегиным и Онегиным – героем истории, может быть, поэт проницательно угадал потенциальную важность намечавшегося типа для последующей эпохи и не преминул воспользоваться (с поразительной оперативностью!) открывшейся возможностью (тем более что нашел другие пути даже для прямой реализации декабристской темы – в печатном тексте романа, посредством авторских размышлений в связи с «декабристским» звеном своего автопортрета). Наверное, не совсем надо отбрасывать и цензурные опасения. Авторское решение прочитывается отчетливо: публикуемые «Отрывки из путешествия Онегина» лейтмотивом «тоска!» пророчат герою губительную апатию. И любопытно: хронологически путешествие предшествует его новой встрече с Татьяной, а композиционно размещается на месте эпилога! Путешествие и фактически более относится к гипотетическому варианту судьбы Онегина, к вопросу, что станется с ним «потом».
Потенциальная близость героя к типу «лишних людей» не должна служить препятствием для размышления о степени близости Онегина к декабристам. Цель таких размышлений, подчеркну еще раз, – не в том, чтобы вычислить процент вероятности участия Онегина в декабристском восстании (практически этот вариант маловероятен), но в том, чтобы лучше понять героя, оценить даже и нереализованные возможности его души. Задача небесполезная, поскольку отвечает пушкинской установке; в итоге мы обязаны понять героя как исторического человека, а это и означает взвесить его на декабристских весах. Совсем не требуется подгонка под утвердительный ответ. Отрицательный (или условный) ответ – тоже результат, и это повод для постановки новых вопросов: почему человек с незаурядными способностями обречен на положение «умной ненужности».
Отнесение Онегина к околодекабристскому кругу и именование его «лишним человеком» – совместимые ли это определения? Совместимые, если внести поправку временной перспективы, не забывая, что здесь будущим высвечивается настоящее, а еще если отстраниться от негативного, критического отношения к «лишним людям» как к людям в определенной степени неполноценным. Нет спора, «лишние люди» – тип сложный, но при всех оговорках это тип положительного героя. В «лишних людях» из околодекабристской среды это особенно заметно. Определяя сущность заглавного героя романа, чаще всего его и относили к типу «лишних людей» (получается, что его понимали не таким, каким он был, а таким, каким в близкой перспективе мог стать).
Положение «лишних людей» отличается двойственностью: они поднимаются над стереотипом общества – и не находят форм активного самоопределения. Первый их шаг вверх достоин высокого уважения. Неспособность сделать второй, решающий шаг к действию вызывает либо сочувствие, либо порицание (первое, видимо, предпочтительнее). Но двойственность типа не может исключить и двойственного к нему отношения.
От конкретики вновь вернемся к обобщениям. Ю. М. Лотман был категоричен: «все попытки исследователей и комментаторов “дописать” роман за автора и дополнить реальный текст какими-либо “концами” должны трактоваться как произвольные и противоречащие поэтике пушкинского романа»211. Но получилось так, что адресованный ретивым исследователям и комментаторам суровый приговор рикошетит в самого поэта. Не надо подменять понятия. Размышление о потенциальных возможностях героя – это способ углубленного понимания его, но ничуть не «дописывание» романа. Против такого приема не только не возражает поэт, напротив – показывает, как такой прием применять! Кстати, недвусмысленно показав бо́льшую вероятность одного из вариантов, поэт ничуть не выставляет это как решение. Выбор делать самому герою! Поэт полностью завершил портрет героя, мало того – сумел придумать оригинальный эпилог, завершив повествование в канун принятия героем важных решений. В этом смысле финал романа открытый. Эффективен прием тайны занимательности.
Онегин – наиболее яркая фигура, подобная персонам размышления Пушкина о Наполеоне, не командовавшем даже егерской ротой, или Декарте, не опубликовавшем ни строчки. (Наполеоновское и картезианское начала даны на выбор; Онегин слишком штатский по своей натуре человек; картезианское начало в нем даже помечено, хотя «ничего / Не вышло из пера его»: он назван философом в осьмнадцать лет). Но чтобы стало возможным такое изображение, необходима реалистическая полнота и определенность явленного. Нет никакой опоры для размышлений, что сталось потом с Пленником, с Алеко. Декабристский потенциал Онегина – запечатленная объективность. Несостоявшийся декабрист помог поэту преобразовать в финальных главах роман о современности в исторический роман о современности.
Пушкин сумел решить очень важную двуединую задачу: он вполне определенно показал заглавного героя в канун 14 декабря человеком околодекабристского круга, но и явственно обозначил возможный гипотетический вариант его судьбы; выбор остается за героем: у него своя голова есть, да и судьба на выдумки таровата.
А все-таки не к идеальной героине, но к странному герою в последний раз адресуется поэт. Онегин, каким он изображен в романе, неизменно дорог и близок поэту. Он представлен вначале в тонах сочувственного комизма, но уходит со страниц повествования героем трагического плана.
Перечитаем последние строки восьмой главы.
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.
Имя героя оставлено в последней строке: одно это значит так много; но вдумаемся в смысл текста: прощание с героем для Пушкина равноценно самому главному прощанию – с праздником Жизни! Можно ли представить себе более высокое и благородное расставание с приятелем? Закону дружбы Пушкин верен всегда, – и дрогнул от волненья голос поэта, когда имя героя произносится – в черновике перед характерным росчерком, означающим окончание, в печатном тексте перед словом «Конец».
Многому можно поучиться у Пушкина. Поучимся и дефицитному ныне гуманизму.
После шедевров
1
Творческий путь Грибоедова до сих пор осмыслен не полностью, хотя печатаются фрагменты и либретто его новых замыслов.
Констатирует автор грибоедовской «Энциклопедии»: «В литературоведческом обиходе утвердилось в качестве несомненной истины мысль о Г<рибоедове> – о его “литературном однодумстве”. Г.о.у. было объявлено в творчестве писателя случайным откровением, не обещанным его заурядными ранними литературными опытами и не развившимся в поздних его замыслах»212.
Увы, тему литературного «однодумства» писателя разрабатывает в основательной статье «Писательская драма Грибоедова» Н. К. Пиксанов, знаменитый исследователь действительного грибоедовского шедевра. Писательскую драму Грибоедова ученый усматривает именно в характере последних творческих исканий. «Мы пересмотрели все поздние пьесы Грибоедова, всё, что написано им за последние шесть лет его жизни, – и должны притти к одному выводу: все это нейдет ни в какое сравнение с “Горем от ума” – ни по художественным достоинствам, ни по жанру. Художественный уровень сразу явно снижается сравнительно с “Горем от ума”»213. С. А. Фомичев отмечает характерное мнение: «…наброски, сохранившиеся в Черновой, кажутся зачастую бледным подобием опубликованных произведений Г<рибоедова>. Это-то и создает впечатление, что в конце своего творческого пути драматург писал “хуже”, чем в начале». «Нельзя вполне <?> доверять такому впечатлению»214, – заключает исследователь и делает попытку развенчать версию литературного «однодумства» Грибоедова.
С. А. Фомичев выдвинул сильный аргумент: художественное наследие Грибоедова «дошло до нас далеко не в полном виде»215 (прибавлю: и дошедшее осмыслено не в полном виде). Но практический шаг Фомичева в этом направлении оказался неудачным: исследователь прибегнул к реконструктивному анализу несохранившейся ранней пародийной комедии Грибоедова «Дмитрий Дрянской». При всей оригинальности и пользе такой реконструкции она не решает проблему «однодумства»: «водевильный» этап творчества Грибоедова активен, но неоспоримо, что драматические произведения до «Горя от ума» скромного уровня (впрочем, не уступающие уровню тогдашней драматургии), а «Горе от ума» – шедевр. Последующее поверяется только этой меркой.
1826 год, полный тревогами и горестными событиями, где выделяется расправа над декабристами, – неблагоприятный год для творчества. Но вот его концовка! С. Н. Бегичеву, 9 декабря 1826 года, Тифлис: «Я на досуге кое-что пишу». В Тифлисе, где поэт был с 3 сентября 1826 года по 12 мая 1827 года (потом выехал в действующую армию) у него еще выпадало время досуга. Годовщину трагического восстания писатель отмечает работой над своим вторым «Горем от ума» – трагедией «Грузинская ночь»! Уникальный случай в опыте Грибоедова: динамично достигнут результат творческий, поэт успел завершить трагедию.
Увы, судьба «Грузинской ночи» разделила трагизм личной судьбы автора. Взрослая жизнь Грибоедова оказалась бесприютной, кочевой; у него не было пристанища для хранения архива. Не годился для этого родительский дом: мать осуждала литературные занятия сына. Грибоедов отправлялся в Персию с тревожным предчувствием, но не оставил списка трагедии ни у друзей, ни даже вроде бы в надежных руках молодой любящей жены – может быть, потому, что чувствовал: слишком тяжела опорная идея нового творения. Относительно «Грузинской ночи» Грибоедов, по свидетельству Бегичева, решил так: «Я теперь еще в ней страстен и дал себе слово не читать ее пять лет, а тогда, сделавшись равнодушнее, прочту, как чужое сочинение, и если буду доволен, то отдам в печать»216. Такого времени ему не было отпущено.
«После разгрома российского посольства в Тегеране 30.1.1829 юной вдове Г<рибоедова> возвратили и личные вещи, и даже книги покойного. Ни одной бумаги из его архива возвращено не было»217.
Не решившийся дать Бегичеву список рукописи «Грузинской ночи» в свой последний проезд на юг, Грибоедов оставил у него объемистую сшитую тетрадь своих разнообразных черновиков. Позже тетрадь перешла в руки энтузиаста сбора грибоедовских материалов Д. А. Смирнова. В тетради нашлись два отрывка из «Грузинской ночи» и еще несколько черновых фрагментов оттуда. Судьба и этих автографов Грибоедова драматична: тетрадь погибла в пожаре, случившемся в доме Смирнова. По счастью, она уже была опубликована.
Не исключено, что на восприятие «Грузинской ночи» негативно повлияло и такое обстоятельство. Основные сведения о трагедии до нас дошли от одиозного Ф. Булгарина. Но только в его изложении известен сюжет «Грузинской ночи»218.
Грузинский князь выкупил любимого коня ценою отрока. (Узнаём эпизод с Нестором негодяев знатных, который преданных ему слуг променял на борзых собак? Но теперь ранее лишь сообщаемый факт становится предметом изображения и рефлексий). Матерью отрока оказывается верная слуга, когда-то кормилица в доме князя, много ему послужившая, ныне нянька его выросшей дочери. На ее мольбу о сыне князь гневается, потом смягчается, обещает выкупить ее сына – и, как водится, забывает о своем обещании. Что остается делать бесправной рабе перед самодуром-господином? Она решается мстить, призывая на помощь Али, злых духов Грузии. Дочь князя влюбляется в русского офицера и убегает с ним из дома. Князь настигает беглецов, стреляет в похитителя, но Али отводят пулю в сердце дочери. Но и этого кормилице мало: она сама стреляет в князя – а убивает родного сына.
До нас дошли лишь два незначительных по объему черновых отрывка – диалог кормилицы с князем и ожидание кормилицей прилета Али, к уже отчаявшейся было женщине они все-таки прилетают. Двух фрагментов, конечно, недостаточно для полноценного сопоставления трагедии с тщательно обработанной комедией, и все-таки некоторой «натуральной» информацией о трагедии мы располагаем. Смирнов, опубликовавший Черновую тетрадь Грибоедова (в публикацию включены фрагменты трагедии), справедливо заметил: «всякому известно, что… нет ни относительно хороших, ни относительно дурных материалов, но все они хороши, – стоит только объяснить смысл, значение каждого из них и найти каждому факту соответственное, приличное место в биографии писателя»219.
Булгарин приводит мнение своего сподвижника: «Н. И. Греч, услышав отрывки из этой трагедии и ценя талант Грибоедова, сказал в его отсутствии: “Грибоедов только пробовал перо на комедии “Горе от ума”. Он займет такую степень в литературе, до которой еще никто не приближался у нас: у него, сверх ума и гения творческого, есть – душа, а без этого нет поэзии!”» (с. 36).
Право, жаль, что Грибоедов таких слов не слышал.
Добавим в серию парадоксов: Пиксанов считает, что после «Горя от ума» Грибоедов не создал «ничего сколько-нибудь ценного» – Греч в сопоставлении «Горя от ума» с «Грузинской ночью» в комедии (при всех ее достоинствах!) видит только пробу могучего пера.
Гиперболы хороши для ясного оформления мысли. Они работают и на выразительность высказывания. Но истины ради они требуют уточнений.
Шаг писателя вперед носит не эволюционный, а революционный характер. Это означает, что новые обретения не добавляются, расширяя прежние, а с неизбежными потерями вытесняют, заменяя, какую-то часть прежних достижений. Пиксанов увидел потери и не стал оценивать, ради чего на них пошел писатель. Греч увлекся прорывом вперед, но истолковал новаторство односторонне и невпопад. «Душевность» – не редкость, а коренное свойство настоящей литературы.
Перемены жанра с комедии на трагедию никто не ожидал: «Горе от ума» создало автору понятную репутацию. Грибоедов чувствовал давление читательских ожиданий, оно его раздражало. Очень скоро произошла трагедия 14 декабря. Кому другому, но уж никак не Грибоедову было развлекаться комическими сюжетами.
Да, «Горем от ума» Грибоедов обозначил свой масштаб как писателя. Памятуя о таком уровне, Н. К. Пиксанов пишет о новых планах Грибоедова: «Подлинно великих созданий он ждал от себя в будущем. Нельзя не признать, что это – программа гения, и положение вещей поддерживало тогда эти ожидания не только в самом Грибоедове, но и в обществе. <…> В сердцах читателей оно родило самые смелые надежды: поглотив комедию, общество ждало второго “Горя от ума”. И как бы ни был Грибоедов горд и независим, он не мог не чувствовать этого давления всеобщих ожиданий» (с. 321). А итог печален: «Программа гения не была осуществлена на практике, и контраст великих ожиданий с действительностью и составляет суть писательской драмы Грибоедова» (с. 322). Пиксанов выносит в буквальном смысле приговор: «А. С. Грибоедов был литературный однодум, homo unius libri» (с. 312). В буквальном переводе латинская фраза означает: человек единственной книги. В конкретной ситуации было бы точнее – автор уникальной книги. Выходит, так на роду было написано? Только вместо ответа возникает новый вопрос: откуда берется предопределение?
Пиксанов допустил несколько ошибок. На плечи Грибоедова исследователь возлагает такую задачу, которой не было в сознании писателя: прокладывать русской литературе путь именно к реализму. А Грибоедова захватила острейшая мировоззренческая проблема: человек живет в разобщенном мире. Если «Горе от ума» и прокладывало путь реалистической литературе, это происходило непроизвольно. Проблема метода и художественных направлений, типология героев Грибоедова не интересовали. Получилось то, что получилось; комедией художник угодил в реализм (когда и понятие такое еще не сформировалось), а типом героя – в декабриста (такого обозначения тоже еще не было). А потом, выходит, с этой дороги свернул! Пиксанов удивлен, что в новых замыслах фигурируют злые духи Грузии, тени усопших и даже хор бесплотных. Делается вывод: «…Новый путь – в сторону от реализма и от общественности – заводит Грибоедова в тупик бесплодной архаической мистериальности. Грибоедов хватается то за тот, то за другой сюжет, – и ни одного не осуществляет… Все лучшие мечты, все смелые стремленья своего творчества Грибоедов вложил в “Горе от ума” и потом не создал ничего сколько-нибудь ценного, не говорю уже равноценного славной комедии»220. Но тут прямая фактическая ошибка: трагедия-то была закончена! И если писателя устроила «архаическая мистериальность» – это предмет изучения, а не эмоций.
Пиксанов рассматривает (по щедрому счету) шестилетие, прожитое Грибоедовым после окончания «Горя от ума», как целостный период. Фактически он очень пестрый. Суровый приговор исследователя был бы справедлив, если б после «Горя от ума» все шесть лет были полностью потрачены на литературные поиски – без веской отдачи. Но грибоедовские шесть лет вместили попытку напечатать «Горе от ума», а дальше действительный духовный кризис (но уместившийся в полгода), потом 14 декабря и полгода грибоедовской гауптвахты (она далеко не Дом творчества). Позже на волне военных успехов дипломатическими стараниями Грибоедова был заключен выгодный для России Туркманчайский мир с Персией. А творчество и в таких условиях не оставлено.
Качество «Горя от ума» Грибоедов проверил путем чтения в разных обществах. Отрывки из «Грузинской ночи» автор читал (наизусть!) на званых обедах в 1828 году. Таких чтений было несколько. На одном из них присутствовал Пушкин. Так ведь они три месяца триумфального пребывания Грибоедова в столице снимали номера в Демутовом трактире: не может быть, чтобы не общались. К сожалению, Пушкин не упоминает о «Грузинской ночи» и очень скупо пишет о встречах в 1828 году в «Путешествии в Арзрум» – не из опасения ли навредить репутации автора, чья комедия еще не была опубликована и не увидела сцену? Концовка очерка о Грибоедове в «Путешествии…» кажется бессердечной: «Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна». Но тут говорит приверженность Пушкина к стоической этике: «Не радуйся нашед, не плачь потеряв». (Пушкин стоически встретил и свою смерть. Никаких сетований на то, что чего-то не успел. А что успел сделать – был уверен: это прах переживет).
Сначала скажем о том, что идет не в пользу произведения, которое оказалось итоговым. Как и «Горе от ума», «Грузинская ночь» сочетает говорную структуру и интригу. Как раз в силу безрезультатности моленья доброму началу персонажам и приходится прибегнуть к изощренной интриге, да еще с участием специализирующихся на таких действиях существ. В построении пьесы говорному составляющему принадлежит приоритетное место. Поскольку нам доступны только небольшие фрагменты произведения, такое утверждение не может выйти за рамки предположения, и все-таки его уместно сделать, поскольку даже по фрагменту можно чувствовать весомость прямо выраженного идейного начала.
В «Грузинской ночи» выдвижение в основу говорного начала не обошлось без потерь. В «Горе от ума» Грибоедов проявил себя мастером портретного изображения, как индивидуального, так и группового. В «ночной» драме в центре поставлены два героя, и оба лишены человеческой индивидуальности; это символы, властелин и рабыня (заметим: по-прежнему герои-антиподы).
Это до осязательности ощутимо в языке пьес. «После блестящих достижений “грибоедовского” стиха в “Горе от ума” разобранные произведения в своем языке падают до уровня рядовых ложно-классических пьес XVIII века»221. Парадокс: этот внешне убедительный вывод некорректен, хотя тяжеловесность языка поздних набросков продемонстрирована наглядно. Почему же сравнение некорректно? В «Горе от ума» сделан упор на выразительный, привычный слуху бытовой разговорный язык, тогда как в «Грузинской ночи» разговорный язык жанру неприличен. Речевая индивидуализация персонажей оказалась вне интересов писателя: речь и князя, и кормилицы книжная. В основе своей выдерживается присущий трагедии язык литературный.



