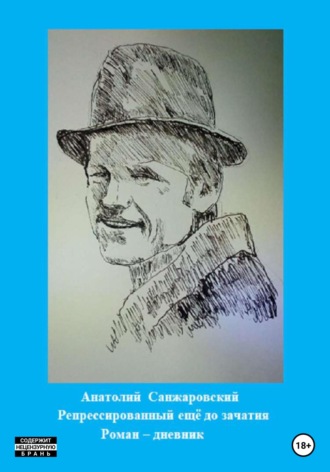
Анатолий Никифорович Санжаровский
Репрессированный ещё до зачатия
Будь борщом!
– Сынок, я вспомнила… Тут у нас, в Гусёвке, померла у одного жинка. Остался он один. А готовить не умел. Сразу клал в холодную воду мясо, картошку, капусту, свеклу, приправу. Перекрестит всё то и велит:
– Будь борщом, пожалуйста! Христом-Богом прошу!
5 июня 1980
Боюсь…
– Я смерти не боюсь, сынок. А боюсь… Как зачнут кидать комки земли на гроб. Бум-бум-бум глудки по крышке… Пробьют крышку и мне достанется… Попаду щэ под горячу раздачу… Боюсь…
– Тогда Вы ничего не услышите уже…
– Услышу, Толюшка… Як же? Слышала всю жизню. А тута не услышу? Не можэ того буты… Не глухая… Боюсь, як с кладбища все пидуть по домам и спокинут на ночь меня одну в земле…
Концертик
– Сегодня, – рассказывает Гриша, – Сяглов, – это наш нижнедевицкий Брежнёв, первый секретарь рейхстага,[219] – собирал у себя на совещание профсоюзных дельцов райцентра.
Сяглов страшно любит рулить…
У этого Сяглика посток с вершок, а спеси на целого генсека…
Ну, напихалось человек сорок в его яму.[220]
Благоговейно ждут выхода нижнедевицкого солнца.
Вдруг по рядам шу-шу-шу!
Сам Сяглов идёт! Член КПСС с тыща девятьсот затёртого года!
Все приветственно вскочили.
А я так лениво и основательно долго пытаюсь встать.
Кормчий сразу горячей рысцой ко мне:
– Откуда?
– Маслозавод.
– Кем работаешь?
– Машинист холодильной установки.
– Общественная работа?
– Председатель завкома.
– Коммунист?
– Нет.
– Вы свободны!
– Совсем свободен?
– Совсем! Совсем!! Совсем!!!
И я торжественно взял к двери.
Кто-то вдогонки в страхе прошептал мне:
– Ну по седой бородище вылитый Маркс!
И Сяглов подхватил:
– Похож! Похож! Лучше б не позорил всем нам дорогого товарища Маркса. Сбрил бы бороду!
Я обернулся и говорю:
– Бороду-то я сбрею. А умище куда дену?
– Родная партия в твоём умище не нуждается!
И Сяглов брезгливо чиркнул ладошкой по ладошке.
Стряхнул остатки моего праха на пол.
Где мы живём? Мы что, какая-то Шурунди-Бурунди или Муркина Фасоль, где засиделись разомлевшие от счастья гЫспода партайгеноссе на пальмах? Лень спуститься на землю… Всем прислуживай…
Оказывается, надо как ванька-встанька вскакивать при виде бугра в овраге.[221] А мы к такому не обучены. Ха! Сяглик-Зяблик – верхушка-макушка! Пупкарь! Квакозябр! Тоже мне начальство. Мы сами начальство! Эх, шпын голова, поезжай по дрова! Всё летит в щепы да в дрова. Не тужи, голова! Мы и там служить будем на бар. Они будут в котле кипеть, а мы станем дрова подкладывать!
Вот такой сегодня был концертик в нижнедевицком рейхстаге…
9 августа 1981
По грибы
Трудно входит мама с полной сумкой.
– Ну, хлопцы! Прибежала я снизу с раздобытком. – Крюковатым пальцем спихнула зернистый пот со лба. – Насилу уморилась… Пешеходного[222] сыру взяла, ситра взяла. И к ситру…
– И что ж Вы пристегнули к ситру? – интересуюсь я.
– Да двадцать семь пачек хлебной соды! Она бывает… Раз в сто лет выкинут… И ходить туда радости скупо. Продавцы до того вознаглели… Шо ни спроси, як рявкнут рявком! Всю взяла, шо приудобилась в магайзине на прилавочке. Вот так я!
– И зачем Вам столько?
– Чтобушки потом не бегать. Я буду или нет, а сода в доме будет!
– А мы, ма, – хвалюсь я, – уцелились с Галей по грибы.
– Детки! И я с вами! Я давно рисовала себя на это дело. Для памяти. Это сейчас так… Ничего… Черты потом останутся.
– Ну, разве что для памяти…
Мама кидается мыть яблоки.
Уже через минуту докладывает:
– Я накупала яблок цилу шайку! Пирожков щэ визьмэм, яець…
И навертелось снеди с половину соломенной кошёлки.
По обычаю, мы идём к Чуракову рву за шампиньонами-чемпионами. Вспоминаем, как много их было в прошлом году. Набрали тогда две корзины. Хотели оставить на ночь под навесом во дворе.
А мама:
– У нас двор прохожалый. Унесуть. Одно место останется.
Мама идёт, улыбкою цветёт.
– Иду с вами по грибы. Есть такая путёвка…
– Есть! Есть! – подтверждаю я.
– Галя! – улыбается мама. – А ты по курам тосковать не будешь, как уедешь? Ты их любишь. Заглядываешь к ним частенько в кабинет…
– На приём к ним прошусь. Хочу погладить. А они разбегаются от меня по всему сараю с насестами… Выпирают меня из своего кабинета ласково. С шёлком…
Побродили мы по рву, побродили…
Ни один грибок нам не усмехнулся.
Мама:
– В прошло лето Чураков ров був всплошной чемпион! А в этом году грибов… Нэма и знаку!
Мы сели на бугре и как-то нечаянно духом опорожнили кошёлку.
– Вот так мы! Вот так мы, стахановцы! – восклицает мама. – Это надо! Грибов нэма и званья! Ни одного чемпиона не отыскали. А кошёлку харчей ляпнули! Мы ж какого заквасу? Нам абы елось да пилось, да работа на ум не шла. На воздухе хороше всё идёт. Мы с Гришей часто и густо тоже вот так ходим по грибы. Найдём не найдём… Зато на бугру в охотку поедим. На воздухе!
Помолчала и продолжала уже с грустинкой:
– Грозами слился июль. Говорили, в августе зальют дожди. А засыпала жара. Сушь хватила. Всё поспекло… Лето, считай, уже пробежало… Опять формируемся к зиме. Вы уедете… Следы застынут… Все раскочились, разлетелись… Как дробью разбило… Зачнут купать дожди. Холодюга… Ночь-год… Я буду сидеть под окном и споминать, как мы ходили по грибы. Добро добром воспоминается…
13 августа 1981
Ни конь ни собака
– Хлопцы! Я паспорт не меняла. Шо мне будэ? Нэма у мэнэ пути… Не знаю, в какую жилетку и поплакаться… Гриша говорит, могут забрать. Только ты, Пелагия Михална, говорит, сильно не горюй. Я тебе, говорит, передачи буду вёдрами носить… Это ж надо фотографироваться… В чью сторону будешь похожа? Ни конь ни собака… Приходила из сельсовета Шурка. Я ей и говорю, Шурушка, я уже стара, скоро отойду в Божьи покои… Что мне менять? Ну что? Посадять?.. Шурушка поулыбалась и ушла. Гриша говорит, с пензии спихнут. Вчистую отхапають. Пускай… Останусь без копейки… Гриша говорит, если ты останешься без копейки и на кусок хлеба при нас, при трёх сынах-бугаях, нас надо сжечь живьяком! Ну, сжигать никого не треба…Житуха вас и так вчерняк попекла… Вы и так… Вас трое. Кажный по десятке кинет, и весёлая тридцаточка уже у меня в гостях улыбается.
– Зачем Вам гостевая тридцатка, когда уже бегают к Вам постоянные пятьдесят шесть? – недоумеваю я.
– Не хочу фотографироваться. На кого похожа? Если б ну пятьдесят… А то ну восьмой десяток! Молоди года промелькнули, як молонья. Убежали. Спокинули на старые… Крива… Такая жись кого хочешь нагнёт. Лицо страшнэ! Тилько волосы гарни. У мене смолоду волосу меньче було. Зараз в две косы плету. Прожито много… Восьмой десяток… Это уже путём.
– С нового года, – подливаю я страху, – старые паспорта теряют силу. По ним даже нельзя будет получить пенсию.
– Не дадуть пензию… Значит, мы того заслужили.
– Вам только сняться. А я б отнёс в сельсовет. Читал, две тыщи Вас таких в районе.
– Слава Богу! А я думала, я одна. Если таким дуракам пензию не дадуть, государство будет бога-ацкое. Шо будет, то будет… Два разы не помирать. А раз не миновать. От смерти не убежишь… Как ни мудруй, помирать всё одно ж когда-то надо. Тоже боевая задача… Перекинусь… Отнесут под Три Тополя… Ото и отыгралась бабка.
– Ну при чём тут Тополя!?
– Всю жизнь с паспортом прожила? Прожила. Чего им щэ надо? Если им дуже трэба моих денег, хай не дають…
Дед и баба
– Вспомнила, сынок… Одна баба кажэ свому деду:
«Дедо, борщ недобрый получился».
А дед:
«Ничё, бабо. Не такый будэ, поедим. Ото и всэ ему будэ!»
13 августа 1981
Воскресенье
Мама:
– Толька! Сёдни не пыляйте дрова. Сёдни воскресенье. Грех… Да и жара…
– И что? Сидеть, наотмашку распахнув рты?
– Шо, нечем закрыть?
16 августа 1981
На рынке
– Ойко! Ну кто забыл купить у меня яблочки? Берите ж яблочки! Это ж не яблочки. Конфеты! Пробуйте… Попробуете… Нипочём не расстанетесь! Рупь – кучка, в кучке – штучка!
– Сверху хорошие…
– Все такие! С одного корня. Ну руб – ведро! Сама ж глазастей трёх рентгенов! Сама видишь красоту такую!
– Ну ты оха и растратчица чужих капиталов. Хвалишь хороше!
– А как жа иначко? Вон курица несё яйцо. Всему миру про то смертным криком докладае! А как утка несётся? Не гремит чевокалка крышкой… Чинно, молча несётся. Никто и не знай. И чьи яйца всегдашно нараздрай?[223] Куриные…
– Не спохвалить – с рук не свалить. Ну ты цыганка! Не надо, а беру.
И мама вернулась домой с яблоками.
Хотя свои пропадают на погребе.
Странница
Я гнусь над дневником.
Галя печёт сырники.
Гриша ест и, млея, ухваливает:
– Как дух, как пух, как милое счастье!.. Мягкие! Вкуснотенища!.. Толька, ешь сырники. А то на горизонте скоро дно блеснёт!
Его рука с сырником застывает над тарелкой.
А взгляд прилип к окну – показалась мама:
– О! Наша странница вернулась! Под сырники!
Мама и через порог ещё не ступила, Гриша шумит:
– Ну!? Как поход? Удачный?
– Очень. Народу наявилось… Як на Паску! Там молодёжи у церкви!..
– Что интересно, молодёжи от семидесяти до девяноста? – подкалывает Гриша.
– Молодьше. От тридцати до сорока.
Я:
– Мы не подходим. Гале ещё нет тридцати. Мне уже за сорок.
Гриша:
– Где кочемарили?[224]
– В караулке.
– Во сколько легли?
– Там часив нэма.
– А что ели?
– Хлеб с помидорами… А ты, Толенька, всё пишешь?.. Галя! Да не давай ты ему денег на тетрадки!
Я зову Галинку на пруд.
Мама возражает:
– Не ходите, Галя. Проезжала мимо… Там ни одной ляльки.
– Мы сами ляльки! – хвастливо пальнул я.
– И всё равно не ходите. Не надо, на ночь глядя. Сёгодни праздник. Годовой! Яблоки святять… Второй Спас…
– Мам, – с горчинкой в голосе роняет Гриша, – два дня впроголодь… На одном хлебе… Садитесь поешьте Галиных сырничков. Во рту тают. Как конфеты!
– Меня тут долго не надо упрашивать.
– А я Вас срочно прошу… – тянет Гриша. – Ну что Вы так… Вам не семнадцать. В церковь с ночёвкой в караулке! За сорок километров от своего дупла! В Ваши-то годы…
– Будь тута церква, я б и не каталась в Девицу… А то тута властюра в церкви сгандобила то гараж, то клуб… Это дело? А шо ездю туда… Цэ судьба. А от судьбы не уйдёшь и не уедешь. А покорно поклонишься и пойдёшь…
Мама поела сырников. Похвалила.
Ест арбуз и говорит:
– Без Бога и до порога не дойдёшь. Кто даёт дождь? Пшеница стоит сухая. Пропадает.
– Чего ж он не даст дождя? – усмехнулась Галина.
– А того, что пятеро молятся, а пять тысяч хулят!
– Вы его видели?
– Его и ангелы не видели. А вы хотите видеть. Ты, Галя, женщина. А доказываешь хуже мужчины. Я думала, ты за мою руку. А ты против?
– В чём выражается помощь Вам Бога?
– В здоровье. Мне восьмой десяток. А я хожу. А есть в тридцать-сорок ходять-ковыряются.
– Мы помогаем друг другу… Помогаем конкретным людям. А Вы верите Богу. Его кто-нибудь видел?.. Что ж… Вы принесли ему свою веру, здоровье, себя. Приехали молиться прошлой зимой, только отшагнули от автобуса и упали перед церковью. Что ж он песку Вам под ножки не плеснул?
– Лёд как стекло був.
– Для всех! И для верующих, и для неверующих. Что ж ему не помочь, как человек человеку?
– А у тебя мать молится?
– Нет.
– Она шо, у тебя генерал?
– Ма, – сказал я как можно мягче, – любовь к Богу живёт в любви к ближнему. Зачем же Вы обижаете её мать?
– Извинить… Одна смерть праведна. В суде можно откупиться. А от смерти не откупишься. Не такие столбы валились…
19 августа 1981
Братья
Мама проговорила в грусти:
– Наш род пропадае…
– Да! – подхватывает Григорий. – Что ж мы делаем? Надо думать о будущем. Надо кидать кусок наперёдки. А кидать-то и нечего! Нас три брата. Три бегемота. Толик молчит о своих детках. Гриша засох на корню! А Митька… Копилку[225] откормил ого-го! А браконьер злостный. Мазила! Бракобес! Две девки и ни одного парубка! Фамилия пропадает… Да и кто вырастил тех девок? Вы, мам. А благодарность какая? К Вам, как к стенке, Лидка обращалась. За всю жизнь ни матерью, ни по имени – отчеству и разу не назвала.
Мама припечалилась:
– Чего восхотел… Эта девка с большими бзыками…
– Всю жизнь обиду таскает на Вас. Всё помнит, как Вы отговаривали Митяйку жениться на ней: «Митька! Сынок, иль ты не бачишь, шо у неи один глаз негожий? Соломой заткнутый». Оскорбили её… То не солома, мам… То бельмо было…
– А… Скажешь, сыно, правду – уронишь дружбу…
– Ма, – говорю я, – вот нас три братчика. Вы ко всем одинаково относитесь в душе?
– А невжель по-разности? Все из одной песочницы… Какой палец ни уколи, болит… Грише большь всех доставалось. Он и вырос выще ото всех вас.
Она помолчала и усмехнулась:
– Как-то Грише прибажилось… Загорелся подправить наши дела. Давай, сорочит, возьмём Алку! А она товста, як копна. А что с мужичьём шьётся… Четверых мужей ухоронила. По улице её дражнять: Алка-катафалка… Як-то хвалилась у винной лавки: «Да у меня этих женихов – раком всех не переставишь до самой до Москвы! Ещё и посадить в шпагат хватит на весь экватор!» Ну как такую распустёху вести под свою фамильность? Не-е… Не треба нам такого сору… С многоступенчатым[226] дитём она. У неё девочка-каличка… А там пье! Пьянь болотная… Старюча. Пять десятков, гляди, уже насбирала… В столовке возьме бутылку и меленькими стаканчиками содит с приговоркой: «После пятидесяти жизнь только начинается!» А там курэ!.. В своей хате своя правда. И правда та, шо пьянки да гулюшки – всё и занятие той Алки! Я и режу: «Гриша! Божий человече! Ну шо за чертевьё ты несёшь? Да куда ж мы её возьмём? Она ж, пустошонка, нас пропьёт!» И наш комиссар гордо примолк с женитьбой. А наискал бы путняшку… Чего б не жениться? Горе на двоих – полгоря. Радость на двоих – две радости!
30 июля 1982
Оправдание
Мама:
– Вот и август припостучал к нам… Август – податель дождя и вёдра, держатель гроз: дождь и грозы держит и низводит. Сёдни, на Илью, до обеда лето, а после обеда осень. До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит… Вспомнила… Один у нас беда как изнущался над жинкой.
Раз по пьяни кричит ей:
«Становсь к стенке!»
Стала.
«Голову вниз!.. Голову выше!»
Саданул у щёку.
Она не будь дура и шимани его ножом в пузо. Крутанула! Як буравцом, вытащила сердце.
Под последок он только и прошептал ей:
– Ах ты, сучонка крашеная… Я ж так… Для развития руки… Что ж… ты… утворила…
На суде её спрашують: «Вы ужили со своим благовериком сорок лет. И потом укокали. Как же так получилось?» – Пожала плечишком: «Да вот, ваша честь, всё как-то откладывала, откладывала…»
Ей кинули восемь лет. Даже согнали в тюрьму.
А тюрьмы забиты винными и невинными.
Был ещё суд и ей поднесли оправдательность.
А сама она маненька. Человеченко там… За крупное дитё примешь. В детском саду нянечка.
2 августа 1982
Примета
– У нас в доме – вспоминает мама, – главным был дед Кузьма. Он решал, когда начинать сеять.
Дед первым ехал в поле. Брал в жменю землю. Рассыпается – надо начинать сев. Остаётся мячом – рано сеять.
3 августа 1982
Бич
– В Нижнедевицке судили одного за бродяжку. Я его видела. Молодой, здоровый бугаяка. Годам к тридцати подскребается. Он всё бичом[227] себя называл.
Ну, судили.
Отсидел.
Вернулся и всё равно мать его в работицу нипочём не воткнёт.
Когда его спрашивали, где работает, он отвечал:
– В гортопе. По городу ножками топ-топ.
И стал он просить у матери на выпивку.
А мать старенька.
Пензии всего-то сорок пять рубленцов.
Она и укоряет его:
– Что ж ты в работу не впрягаешься?
А он:
– Что я, псих? Пусть трактор работает. Он железный!
22 августа 1983
Осторожный гриша
– Месяца три назад я как-то сказала Грише за тельвизором:
– Сынок! Вот мы покупили две красные мягкие стулки – он их креслами дражнит, – рядушком в культуре сидимо. Вдвох караулим[228] один тельвизор. А як бы ловко було, женись ты всё ж на какой путящой. Мы б тоди взяли третью стулку и уже утрёх караулили б один тельвизор. Надёжнишь було б… А то… Неважнуха из тебе караульщик. Тилько подсив к тельвизору – тут же засыпаешь!
– Оно и Вы не лучше караульщица. Едвашки пристроитесь покараулить – тут же отъезжаете в Сонино.
– Обое хороши… Бессовестно спимо перед тельвизором… Унесут и не побачим… Надо шо-то делать.
– Надо. Стулку б мы купили! Она б караулила! Да ты, что интересно, тогда где б сидела?
– Как и зараз. В красном углу.
– Да, в красном углу. Только снаружи! По ту сторону стенок. Во дворе!
23 августа 1983
Ужин после ужина
– Что ваши делают?
– Да повечеряли. Теперь хлеб жують.
– Ма! А Гриша часто пишет письма?
– Часто. Кажный год.
На конфеты
– Получила я пензию. Трохи оставила на магазин. А остальное отдала Грише.
– Пелагия Михална! – щурит он один глаз. – Чего не всю пенсию отдаём в общий котёл?
– Мне деньги нужны. На конфеты…
– Знаю Ваши конфеты. На магазинные путёвки!
Он все деньги отдаёт в семью.
Все знают, где лежат деньги. Надо – бери без докладу.
У нас всё открыто. Всё навыружку.
25 августа 1983
Столовка
– Леночка наша выходит в Воронеже замуж. Недели две назад Митька отвозил ей постелю. Хай сперва кусок в руки возьмёт. По разговорам, жених у моей внученьки схватчивый богатюшка. С ломтём… И я ездила с Митькой. Понасунуло туч. Холодняк. Морозяка прямушко в щёки. Зима не зима, а и летом не назовёшь. Завезли Ленушке постелю, и побежали мы с сынком в путёвку по магазинам. Отыскали мне кустюм. Покупили… А уже надвечер. В голоде бежим. Заскочили в столовку «Три карася». Набрал он полный стол. Как лопатой накидал! А я и не села. Хоть во весь день во рту нэ було ни росинки ни порошинки. Он говорит, ну выпейте хоть компоту, размочите желудок. Весь же день насухач! А я говорю, ты ешь, ешь. А я на улице пидожду. Вышла. Не стала йисты. Ну как ото его на людях йисты?.. Все смотрять… Ну, вот, Галенька… Всё я тебе обсказала… Батька гарно гуртом бить. Ты гладишь. Я цепляю подзоры. И дело у нас видней…
26 августа 1983
Вся жизнь на движениях!
Приехали мы с Галей в Нижнедевицк. В гости.
Только на порог – мама навстречу:
– Детки! Не обижайтесь. Я пойду. Мне в десять на антобус. Еду в церкву. Яблоки святить!.. Вы в дом. Я из дома… Вся живуха у нас на движениях!
Вернулась мама через день. Хвалится:
– Служба началась в семь. А покончилась в два. Оюшки ж и народу!
Гриша с подсмехом:
– Они б и сейчас служили, не разгони их… Эти все в рай рвутся попасть!.. Небостремительные… Ма! Вы ж не девчушечка. Совсем устарились. Не обязательно туда скакать молиться. Молиться можно и дома.
Мама засерчала:
– Молиться надо без смеха. Один дедушка говорил: и делай людям добро, чтоб в сутки два спасиба заработать. А когда злишься – сам себя грабишь. Делаешь людям зло и себе сделаешь зло.
– Верно… Не сердитесь. Лучше расскажите, как там всё было?
– Годовой праздник… Сначала молитву читали. А потомушко кругом церкви яблоки по траве все на полотенцах разложили… Несут три иконы… Певчие и батюшка… Дядько несёт воду. Батюшка макает кропило и брызгае по яблокам. И всё.
Григорий:
– И затем каждый хватает свои яблоки и убегает!
Мама укорно смотрит на него:
– И чего ж убегать со своим?.. Голодняком не сидели. За обед буханку хлеба разделали… Помидоряку разломишь – как сахарём посыпанный. Блестит!
– А добирались назад как?
– По-царски! Вышли из церкви – антобус с дымком к нам бежит. Старается! Стал возле нас. А большой! Служебный. Прямо под нас, под бабок, подогнали антобус! Сначала не хотел нас брать. Разбежался ехать в другой край. А мы… Денежки на карман… Куда хочешь заедешь! Никакой ревизёр не остановит! Нас пятьдесят душ. Кидаем по рублю и он…
Мама запнулась. Я подторопил её:
– А он что?
– Да ну тебя! Ты щэ в газету наляпаешь!
– Разве хоть раз я писал про Вас?
– И дядько сказав: залазьте, дорогие снегурушки! И наши шкабердюги полезли. Гарный дядько… Это под его распоряжением був антобус.
Гриша стукнул в ладоши:
– Во что интересно, как зарабатывают состояние! Автобус служебный! Вёз тех, кто был на службе. Идейно!
Мама просветлённо улыбнулась:
– А людей полно-вполно. Раньче жались по уголочкам. А тут… Как водой налито! И детей многие крестили.
– Ма! А я крещёный? – спросил я.
– Да.
– А кто мой крёстный отец?
– Да ну там… В Грузинии… Не пойдёшь искать. Я и не помню кто…
18 августа 1984
– Ур-ра! Наш папка задушился!
– Что это водку не прекратять продавать?! – гневится мама. – Или мир стоит на водке? Зинка Давыдова, соседка, ругала своего мужика. Этот Мишка по-страшнючему её отоваривал. Всем бита, и об печь бита, только печью не бита. С пьянюгою жить – синяки растить! Плечо ей разбандерил. Год болело! Однажды он пьяный упал, как петух, на порог. Как кто его положил. Голова хорошо лежит. Хорошо б её отрубить! Глянула слезокапая Зиночка – дочка Наташка делала уроки. Затряслась. «Жалко ребёнка. Калекою сделаю». И бросила топор… А через три дома мужик тоже издевался над жинкой. Раз лёг он пьяный спать. Подлетела к койке жена с топором на весу: «Закрывай глаза. Я тебе голову отрубаю!» – «Что ты! Что ты, божья моя радость! Я пить больше не буду! Не буду! Не буду!.. Только брось топор! Брось, роднушечка-золотушечка, топор!» Жена и отступись. Спал он, спутанный верёвками. Это она его упеленала, шоб среди ночи не кинулся умывать.[229] А утром входит к нему в комнатку – он мертвыш. Разрыв сердца! Четырёх лет хлопчишка ихний выскочил во двор и в полном счастье закричал:
«Ур-ра!.. Наш папка задушился!»
19 августа 1984







