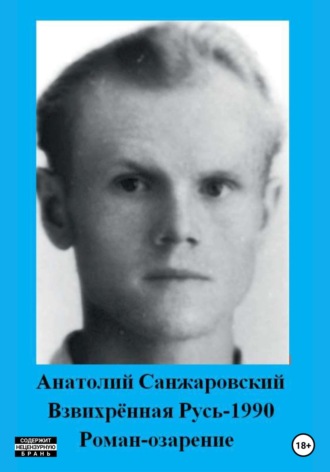
Анатолий Никифорович Санжаровский
Взвихрённая Русь – 1990
9
Сильнее печатного слова может быть только слово непечатное.
М.Дружинина
Завалились Колотилкин с Аллой в дачную берлогу, как в яму, рухнули до самой субботы.
Алла набрала отгулов за прогулы, удалилась в самовольный загул, на пока бросила школу. И осталось у них два дела на свете. Любовь да сон. Третьего не подано.
Между любовью и сном Колотилкин иногда горевал накоротке. Всё никак не мог нанизать себе на извилины первомайскую кашу.
– При нас же, – нудил Альке, – опустела табакерка. Все топтуны сбежали. А новые колонны лились на площадь, лились, в ужасе разевали рты. Нa трибуне же ни-ко-го! Кто их встречал? Кто им здравицы кричал? Кто ручкой махал? Пустота? Орущая из динамиков Пустота?
– Но не мы же с тобой. Как и семьдесят два года подряд – его Величество Пустота в шляпе. Забудь!
Никого не хотелось видеть, не звало в город. Но в субботу, пятого мая, в день печати, волей-неволей надо ехать. С давних давен Колотилкин пописывал в «Правду». Это ему так не сошло. Дописался – вызвали гостем на первый фестиваль газеты.
– Мы поедем на твой фестиваль. Только по пути сперва заскочим на мой вернисаж, – капризно заломила в потяге Алька грешные руки.
Колотилкин был от природы слаб, не выносил её потягиваний. Подсёк под мышки и Альке пришлось с пристоном, навыкладку отыграть ещё дополнительный тайм.
Однако вернисаж от этого не стал ближе.
– Да из-за твоего когда мы попадём на мой? – ныл Колотилкин.
Алла чуть было снова безотчётно не потянулась. Но вовремя сориентировалась. Удержала себя.
– Колотилкин, а ты бессовестный, – резнула строго. – Вернисаж мне вот так нужен!
И ребром приставила ладонь к горлу.
– Ну, раз так… – Колотилкин тоже приставил ладонь к горлу и надолго задумался.
– Да! Так! Как ты, голова, не понимаешь? Самодельные плакаты, значки – живой сколок времени!
Она опрокинула свою шкатулку. Кругляши значков пёстро расплеснулись по столешнице.
– Смотри! Это я была на вернисаже года три назад… По турпутёвке приезжала… Верили ещё Горбатому, верили ещё компартии. И значки какие? Вот… «Планы народа – планы партии. А не наоборот!». «Куй железо, пока Горбачёв!» «Не надо мешать Горбачёву!» А вот… «Мы за гласность!» «Вал на свалку!» «Нытикам и демагогам – бой!» «Бракодел – враг перестройки». Новейшая история в значках! Хоть диссертацию пиши!
– А ты и без хоть пиши, – буркнул Колотилкин лишь бы что сказать:
– Сначала надо видеть! Таких значков уже не встретишь. Отпели своё! Сегодня наверняка совсем другие. Разве неинтересно сравнить, проследить, как менялся дух жизни?
– Очень даже занятно.
– И близко. У метро «Шоссе энтузиастов» выскочим из автобуса. С километрик лесопёхом и мы у цели. Ну, идёт?
– Летит!
В Измайлове было светло от весенних берёз. Подогревало солнышко. Длинная, широкая аллея чёрно, тесно уставлена народом. Как водой налито. Одни головы короткими червями копошатся в долго вытянутой куче.
У входа на вольном пятачке четыре парня и девушка стоят дужкой, поют под гитары. Перед ними раскрытый рюкзак. Видны трёхи, рублёвки, мелочь белая.
Сверху записка:
«Образец руками не трогать».
Студенты-музыканты? Приварок к стипендии выпевают?
– Юморные кочумаи! – слышит Колотилкин сбоку. – Разбежались рюкзак злата зашибить!
– А то не наработают? – отвечает кто-то. – Цыганка одна, без песен, сколько за день выпрашивает в переходе метро? Без пяти сотняг на груди не уходит!
Людская коловерть властно загребает Аллу с Колотилкиным в свой праздничный омут, и ты уже больше себе не хозяин. Ты не можешь пойти ни быстрей, ни медленней. Пойдёшь, как идёт лавина.
Иди и смотри.
Картины расставлены по краям асфальта, в канавах по обеим сторонам и дальше, на взгорках под липами.
Успевай только головой вертеть.
Ты хочешь остановиться, побыть у обогревшего душу вида, но тебя несёт, наталкивает на раскидной столик с матрёшками. Ты упираешься, не даёшь столкнуть тобой вздрагивающий вместе с фигурками столик. Лавина тяжело трётся об тебя, как вешний бегущий лёд о торчащую из воды кикимору.
Поднимающейся лесенкой выстроились фигурки в три шеренги. Как на параде. Друг другу в затылок смотрят. Замыкает колонну Ильич. Он самый малявый, карликовый плюгаш. С «Искрой». Перед ним Сталин курит трубку. Из трубки торчат две белые, уже обглоданные косточки.
Хрущёв в расшитой рубахе с красным воротом и петухом на груди. В одной руке кукурузный кочан, в другой башмак. На лысине темнеет оттиск башмака.
Брежнев одной рукой держит бутылку с надписью «Водка», в другой стакан. В ухе серёжка в виде звезды Героя.
Горбачёв перепоясан широкой лентой с серпом и молотом. На серпе золотом выведено «1-й президент». В одной руке держит американский флажок, в другой советский со словами «Перестройка – мать родная». Родимое пятно на лбу – огромная красная звезда-клякса.
Народ беззлобно посмеивается, глядя на дрожащих и время от времени падающих под толчками толпы вождями, и никому не верится, что все эти шаткие вождята, купленные каким-то импортным черномазиком за пятьдесят долларов (шишкарь за червонец!), вдруг все будто скопом гавкнулисъ в чёрном горбачёвском чреве. Парень так ловко задвинул, покидал их друг в дружку, как слепых котят в тихий омут, – лысая девка не успела косу заплесть.
– Получай «матрёшку с человеческим лицом»!
– Но долого… – говорит чёрненький.
– Нашёл дорого! В Штатах жизнь всякого человека оценена в четверть миллиона. А я тебе за наш червонец! Да не абы кого! За полста – все завоевания танкового социализма! Весь советский колхоз! Элиту! А из этого полтинничка я должен двести отстегнуть ненаглядным дорогим рэкетирам за место. Спасибо, что ещё капустой[34] берут. Не брезгуют пока. А ну перейдут на валюту?
– Лэкетил плёхо, – соглашается чёрненький и приставляет к уху горбачёвский живот. – Ти-иха сижю, как мышки. Всеха Миха Селге кýсала…
– Прибарахлился и иди, миттельшнауцер. А то и тебя скушает.
Напор лавы чуть пообмяк.
Колотилкин с Аллой отошли от матрёшек, и неукротимая ходынка покружила их дальше.
Мимо тающих вышивок.
Мимо расписных балалаек, гармошек, самоваров, чайников.
Мимо нарядных шахмат.
Мимо бус.
Мимо колец.
Мимо старых книг – лежали на раскинутой по асфальту газете.
Мимо икры.
– Почём? – подбородком Колотилкин ткнул в бутерброд с чёрной икрой и двумя ломтиками лимона.
– Пятнашка!
– За пятнадцать рубелли жуй сам! – бурчит Колотилкин Алле. – А смотрится натюрель. На салфеточке. Салфеточка на тарелочке. Так и просится под зуб. Толковущий разбойник! Понимаешь, сувенир. Из дерева сконделяпал – слюнки текут!
– Особо не горюй. Он бы тебе с чёрной, может, и не дал. А на красной нету масла. На чёрную положил, а на красную нет. Почему?
– Или забыл, или сэкономил.
Сбоку, на пустырьке под липой, одиноко стоял Горбачёв. Розовенький, напомаженный. Улыбистый. Сытую ручку готовенько выставил на пожатие. Ну, кто смелый? Кто уже вышел на ответственное решение сняться со мной? Давай скорей сюда!
Но к нему никто не подходил. Людская тугая река широко колыхалась в трёх шагах, совсем не замечала его, если не считать редких недоумённых летучих взглядов. Даже фотограф будто совестился стоять рядом, поникло сутулился чуть в сторонке.
Колотилкин заглянул Горбачёву за спину и разочарованно присвистнул. Э-э, президент держится подпоркой! Цветная фотография в рост наклеена на фанеру. А фанера сзади на грязной подпорке. Убери загвазданную палку – навзничь рухнет наш прези!
– Желающих тучи? – Колотилкин свойски подмигнул фотографу. – Отбиваешься без милиции?
– Да вот хоть милицией становь сыматься, – тускло пожаловался фотограф. – Сегодня ни одного дорогого любителя…
– На милицию не надейся. Эта ментура может только забрать тебя.
– За что?
– Ха! Ты что, умнявка, в детстве с горшка упал? Не знаешь? Да за таковецкий политический ляп могут и срок приварить! Где его хозяйка? – Колотилкин гулко постучал по доске.
– Дома пельмени лепит.
– А по-моему, она тебе срок лепит. Ты по телевизору их видел когда-нибудь порознь? Семейный подряд всегда в действии! Даже за границей. А у тебя они вразнопляску! Политическая близорукость! «После подготовительного этапа, который мы прошли, реализуя политику перестройки, наступила фаза решающих перемен!» А ты, фазан кучерявый, что себе позволяешь? Разрушил президентский семейный подряд! Да поставь рядом и хозяйку, у тебя отбою не будет. Я бы первый снялся в семейном президентском кругу!
– Пожалуй, дело… Оно-то понятно, где кто нельзяин…[35] Но знаешь, от него и от одного толк бывает… В ту субботу один прибегал, всадил поцелуище колымский! Я тебе дам! Что оказалось… Я снял его с Михал Сергеичем. Здороваются за ручку. И он отправил карточку начальнику колымской тюрьмы, откуда только что сбежал, и припасал: «Я вась-вась с самим Горби! А ты, гад полосатый, червяк в скафандре, в холодном карцере хранил меня для светлого будущего. Боялся, что я протухну. Если ты соскучился по мне, рисуй прямо на Кремль. Мне отдадут. У нас почта не пропадает. Здравствуй, дерево! Посмотри, каменный мешок, на меня в последний раз и отбрасывай топанки сразу. Считай, что моё согласие у тебя в кармане. Не жди повторных рекомендаций сверху». Начальник так и сделал. Посмотрел, почитал, отдал концы в воду. Разрыв сердца. А будь на снимке и сама хозяйка, сердце разорвалось бы дважды. А может, и трижды?
Колотилкину было жаль очаровашку фотографа. За всё утро ни одного кадра! И они подставились с Аллой. Но отказалась от компании президента. Президент так и остался фоном далеко позади. Растерянный, сиротливый, маятный. С протянутой в пустой простор рукой. Почти по-ленински.
Стоило Алле с Колотилкиным вернуться в толчею, как теснота снова подхватила, потащила вперёд и скоро вынесла их вприжим к симпатичному пареньку с двумя круглыми значками на кепке: «Я агент КГБ» и «Миша, дай порулить». С кругляша на груди улыбался Ельцин. Сверху и снизу Ельцина сжимали дужки слов: «Борис, борись!»
Прямо на асфальте была газета с наколотыми значками.
От них радостно зарябило в глазах.
Щурясь, Колотилкин навалился читать вслух надписи.
Алла записывала.
Когда свободной была Русь,
То три копейки стоил гусь.
Перестройка как высшая и последняя стадия социализма.
КПСС – верный помощник партии.
Каку вижу, каку слышу.
Мафия бессмертна.
Всероссийское общество любителей портвейна.
Граждане! Обрадовались рано. Брежнева, Андропова, Черненко ещё вспомните.
Кооператив государственной безопасности.
Ты за большевиков али за коммунистов?
Ох, что ж я маленький не сдох?
Я тоже Миша.
Я от Михаила Сергеевича.
Союз нерушимый (На фото супруги Горбачёвы.)
Не люблю Раиcy.
А.Рыбаков. «Дети Горбатых».
Бог шельму метит.
Миша, дай водки.
СССР – Родина лауреатов Нобелевской премии.
Призрак коммунизма – наша цель.
Сказки тётушки КПСС.
Каждой твари – по харе.
Кафка Корчагин.
Береги природу, мать твою!
Пивка б для рывка.
Хрен-брюле.
Союз чесателей СССР.
Лучше гордая морда, чем странная рожа.
Чемпионат мира по классовой борьбе.
Дожить бы до кончины мига
Коммунистического ига.
Коммунизм – высшая стадия фашизма.
«А зоны здесь тихие» (на фоне колючей проволоки).
Союз нерушимый голодных и вшивых.
Догнуть и перегнуть, догнить и перегнить.
70 лет строгого режима.
72 года экспериментов.
73-й год советскому чайнику.
Мы – гондурасы.
Пролетарий над гнездом кукушки.
Вся сласть Советам!
Титаник К.Маркс – капитан дальнего плавания.
Идиотизм вечен.
Из КГБ с любовью.
Как вам спится, стукачи?
Чувство глубокого и полного удовлетворения (ГПУ)
Старик Дзержинский нас заметил
И в гроб сходя благословил.
Не хреном единым.
Головокрушение от успехов.
Дальше будет ещё лучше.
«Я дитя застоя» (Под фотографией Брежнева).
Гниём, но не сдаёмся.
Один значок нравился Колотилкину больше другого. Ликующе он спешил прочесть все сразу.
Алла то и дело осаживала его, еле успевала записывать.
Аморально устойчив.
Против СПИДа – спи один.
СПИД: я тобой переболею, ненаглядный мой.
Глубоко женатый человек.
Вся власть жене!
КАМЮ на Руси жить хорошо.
Лысый беззубому товарищ.
Беречь завоевания социализма!
Человек человеку волк, лиса и медведь.
Моя подружка – пивная кружка.
Рыба имени Анатолия Карпова.
Гамлет – принц Гадский.
Гласность – детская болезнь слова.
Вот купил себе значок.
Чего уставился?
Агент Кремля.
Не учи меня жить.
Отвали, чувак.
Вообще-то я замужем.
Хочу, но боюсь.
Я люблю свою жену.
А я маленькая бяка.
А я уже большая.
Поцелуй меня с разбега.
Не целуйся с кем попало!
Да пошли вы!..
Нe уверен, не приставай.
Улыбайся, шеф любит идиотов.
Я начальник, ты дурак.
Парень заметил, как Алла строчила под диктовку. Это его ошарашило. Воруют средь бела дня! Как будто так и надо!
Избоку он мёртво уставился на неё. Вид его говорил: стал, как бык, не знаю, как и быть. Парень не знал, что сказать, и не сводил сражённых глаз с карандаша, что на нервах сине скакал по белу полю блокнотного простора.
Возьму взятку.
Лауреат квартальной премии.
Кефир – водка будущего.
Виза на въезд во все страны света.
Я хочу у Париж.
А я хочу в Америку.
А я хочу в ссылку в Шушенское. Хоть поем мяска, как Ильич.
Вова, а ты не брал от германского генштаба?
Кто знает, что такое гуманный, демократический социализм?
Мы рождены, чтоб каку сделать былью!
Как увижу я забор,
Напишу на нём Егор.
Из-за леса, из-за гор
Строит пакости Егор.
Ельцин – Манделла. (Чёрный Ельцин под пальмой и синей звездой.)
За Егором – хором.
Егор, ты не брал?
Егор, ты не
Нас не объегорить,
нас не подкузьмить.
Россия, проснись!
Наконец парень набрался духу, хмуро бухнул Колотилкину с Аллой:
– А это что за кооператив «Сдираловка»? Чего записываете?
– Ндравится! – с вызовом сознался Колотилкин.
– За идеи надо платить.
– Полный абсолют! Клади все по одному.
Парень наклонился, отбирает из ящичка значки.
Тянет устало, заунывно, обмахиваясь веером из фотокопий статьи о Лигачёве в другой руке:
– Чи-тай-те… Тре-вож-ная мо-ло-дость и ша-лос-ти Е-го-ра Кузь-ми-ча!.. Тре-вож-ная мо-ло-дость и ша-лос-ти Е-го-ра Кузь-ми-ча!.. Три-вош-ная молодость и ша…
– И одну шалость! – подкрикнул Колотилкин.
Всю покупку он сунул в портфель и забыл о ней думать.
Вернисажная карусель бесшабашно выхвалялась всё новыми, неведомыми, занятными дивами.
Разбега́лась бедная душа.
Колотилкин с Аллой взяли к метро. Уходили без охоты, в смятении. Жалко, жалко было покидать эту нечаянную русскую радость.
Они оглянулись.
Торжественно копошился, плыл долгий людской простор между зелёными стенами леса. И в стороне, на пустом островке под липой, наодинку заброшенно кис фанерный президент. Зовуще тянул к толпам резиновую руку. За копеечкой? Или пожать хотел?
Но ему не подавали. Кремлёвской – загранной – одёжкой, трёхъярусным глянцевым мешком с салом на месте подбородка не вышел в нищие.
К нему и вовсе не подходили. Стоишь? Ну и стой. Кому от тебя польза?
10
Страшнее дурака с инициативой только дурак с перспективой.
И.Суровцев
Если будущее за нами – значит, ему ничего не достанется.
В.Колечицкий
Вход на выставку недостигнутых достижений, на эту фабрику большевистской лжи, обычно стоил тридцать копеюшек. А сегодня, братва, скачи задарма. Довольно твоих распрекрасных глаз. Это по случаю фестиваля «Правды». А запроси денежку, кто раскошелится?
Светило солнце, было зябко.
Узнав, что вход свободный, народушко как-то вздрагивал, будто кто в лицо нежданно плеснул холоду, и наддавал, боясь, что именно с твоим появлением начнут грести плату. И уже проскочив автомат, он не стихал в спешке, норовил для надёжности отлиться подальше, в глушь, и уже там, всё ещё не веря бесплатности, тихонько озирался, убеждался, да, дураком просквозил сегодня и рассвобождённо осматривался.
Куда податься? Чем заняться?
На площадке у фонтана дружбы народов плясали тюбетейки. На другой площадке боролись. На третьей пели.
Эко счастье! За тем ли сюда летели?
И как-то само собой ветристый ветер размётывал людей по очередям.
Советская очередь – это что-то родовое. Выскочил из лона матери – сразу в очередь.
За детским молоком.



За пелёнками.
За сосками.
За…
В ясли.
В сад.
В магазин…
Люд раскидывало кого за книгами, кого за чем съестным, а больше несло на ярмарку, и очереди жирными удавами выползали изо всех магазинчиков.
Алла приткнётся то к одному хвосту, то к другому, и пока отдежурит, дожмётся до какой своей безделицы, Колотилкин тоскливо топтался сбоку, уже изучив вдоль и поперёк специальный, праздничный, выпуск «Правды», слитый форматом на манер «Недели».
«Только правда, какой бы она ни была, может служить надёжной основой авторитета газеты», – надоедливой мухой толокся перед глазами, звенел в мозгу кусок горбачёвской фразы из приветствия участникам и гостям фестиваля, и Колотилкин никак не мог съехать с вопроса: если всё счастье в правде, то почему торжества на Красной площади перестал показывать телевизор, едва влился в кадр неугодный лозунг «Блокада Литвы – это и есть «новое мы́шление»? Почему эту нашу правду сначала узнали все за бугром, а потом, вечером, ночью, по-братски поделились с нами? Почему «Правда» не написала правду о Первомае второго мая?
Ни на какие встречи с правдистами Колотилкина не тянуло. Но писателей манило подслушать.
Писатели – в три.
Было уже за три, когда он еле выгреб Аллу из вороха героических тел, что смертно бились за колготки, и бегом.
Бух-бух, бух-бух…
Цок-цок, цок-цок…
Мелькают перед глазами всё не те павильоны. Где же та чёртова «Физика»?
Видят, открыта дверь. Вжикнули.
Зырк, зырк по сторонам. На «Физику» не похоже. Индюшки на плакатах по стенам. Коровы. Только что не мычат.
Алла осудительно поморщилась и назад.
Колотилкин тоже было шатнулся за ней, да почему-то остановился. Чем-то родным пахнуло из недр сельской радости. Будто в колхоз у себя в районе заскочил.
Из колхоза Колотилкин никогда не уезжал с пустом. Что похвалит, то ему тотчас в багажник вопхнут. Похвали даже живого кабана – насадят на нож, обжарят и уже не отобьёшься никакими пулемётами от сладких окороков.
Здесь окороками не грозило, так и выйти ни с чем он как-то не мог. Неприлично просто. Глянул, на тумбочке тоненькие книжицы веером лежат. Ближняя книжица под его руководящим взглядом дрогнула и сама отчаянно прыгнула ему в раскрытую руку. Сама! Сама!!
Колотилкин не стал противиться, смирился.
На улицу он уже выскочил напару.
– С уловом? – ехидно хохотнула Алла. – Покажь… Ба-а… «Использование хищного клопа подизуса против колорадского жука на баклажане». Зачем ты цапнул эту брошюрку, Подизус?
– Для полноты счастья!
Они проскакали ещё с десяток вавилонов, пока не набежали на свою «Физику». На двери болталась табличка «Извините. Павильон закрыт на оформление».
Колотилкин потянул за жёлтый шишак. Открыто!
Народу – сельдям в бочке просторней. В круглом вестибюле-кадке не повернуться.
Самые провористые лепились на трубах, на ворохах досок.
Кто-то сверзился с трубы, раздавил лист стекла – стоял вприслонку к стене.
Где-то посреди колодца кто-то что-то с глушинкой лалакал.
– Кто там так неуверенно распинается о наших дальнейших успехах? Кто там никак не может поступиться социалистическими принципами?
– То не мог Крупинкин-Щетинкин. Теперь не может то ли Стенопискин, то ли Поросёнков, то ли сам классик Благодушко.
Колотилкин зло выволок Аллу за руку на воздух. Это ж измывательство! Не пустить писателей дальше предбанника. Зачем было стягивать встречу в закрытом на ремонт павильоне? Это ли не предел потешной любви к интеллигенции?
– Вот что, пан Колотилио, – игриво пошатала тонким пальчиком Алла. – Я хоть раз путём попала на царскую распродажу. А ты… Грубо отлучил меня от колготок – увеселяй даму как хошь. От боёв местного значения в очередях я грандиозно устала. Баста! Ж-жалаю культуриш поразмяться!
Колотилкин воткнулся в газету.
– Разве это… В «Москве»… с трёх… «отдел партийной жизни предлагает принять участие в дискуссиях: «Какой быть КПСС в условиях многопартийности?». «Кто и почему оставляет ряды партии?», «Как вы оцениваете сегодняшние процессы перестройки в партии и обществе?» На встрече будут присутствовать работники ЦК КПСС».
– Дело, Подизус! Давай и мы поприсутствуем. Послушаем господ из ЧК… И не вздыхай. Именно: из ЧК КПСС!
Галопом они облетели полсвета.
Никак не могли найти павильон «Москва».

У кого ни спросят – не знаем, не знаем. А он оказался у самого у входа, чуть в стороне. За свинаркой и пастухом.[36] За серпом с молотком.
Домяка агромадный. Хоть на танке въезжай. Фешенебельный. Без вывески.
В партер их не пустили. Пошатались на балкон.
Места все забиты.
Приютились под самым потолком в проходе.
Отпыхиваясь, Колотилкин зашарил по сцене. Кто правит бал? Э-э! Егор Кузьмич! Неувядаемый Кузьмичик! Давненько мы не плакали, слушамши вас!
– … Мы не руководствовались марксизмом, – пискляво жаловалась трибуна. – Надо восстанавливать самодеятельность партии… Каждый коммунист должен быть хозяином на своём месте. И третье: независимый партийный контроль…
– Вы, – басил с трибуны мордатый командированный из Одессы, – даёте к секретарю обкома свою идейную мысль, а завтра вас нет. Так было при застое. А сейчас говори что хочешь. Раз дозволено, я скажу. В одной тюрьме я видел плакат «Явка с повинной – проявление сознательности». Почему же КПСС не проявит эту сознательность? Почему не покается за то, что наколбасила за семьдесят два года? Только знай кричим: партия взяла на себя смелость, партия взяла на себя смелость – сказонула правду. Где? Когда? А по-моему, партия ничего на себя не взяла кроме привилегий и чинов. Шо душеньке блище, то и хапонула, нас с вами не спросила. Но что-то четыре года скрывала реальный Чернобыль! С правдой партия к народу не бежит! В парламенте есть светлые умы. Но и полно шелухи от общественных организаций. За что хочешь проголосуют. Шо президенту взбредёт, то и отголосуют. Ну какие ж мы пентюхи, что на такой парламент тратим девяносто восемь миллионов в год! На шо его кормить? На шо его без путя содержать? Или вот ихний плюйрализм. Слово, товарищи, матерное. Но раз верхи его говорят и не краснеют, я тоже скажу. Про этот плюйрализм всю душу прожужжали. Но к телевизору хоть бы для смеха подпустили того же Ельцина. А Ельцину е шо сказать! Вот у чём горе! У нас по телевизору один штатный оратор. И засыпаешь, и просыпаешься, слышишь одно: Михаил Сергеёвич, Михаил Сергеёвич. А шо Михаил Сергеёвич? Или мы за пять лет не разглядели, шо такое Михаил Сергеёвич? Включишь эту бандуру, там уже наготове сидит дорогой Михаил Сергеёвич. Талдычит про очередной перестроечный перевал в истории человечества, про бесконечный переходный период. Идём, идём, идём…

Куда идём? От чего к чему переходимо уже шестой год? К светлому будущему?.. К чёрному! От застоя к развалу! Переходимо из бытия в небытиё! Мы уверенно, надёжно придём к полному развалу, не прислушайся партия к разуму народа. Народ мозгами фурычит! Не то шо горбачёво-рыжково-лукьяновский синдикат. Можете забирать. Я сказал всё, шо меня било.
Люди из-за красного стола на сцене ледяно, мстительно уставились в залётного правдоруба. Будто нам своих мало!
Партер хмуро сдвинул брови.
В аплодисментах затряслась галёрка.
От трибуны одессит отходил как-то понуро, ватно, еле переставлял ноги. Казалось, он ждал, вот-вот его всё равно уметут. Так есть ли смысл напрасно возвращаться в зал?
Но его не брали.
Долгий плеск сверху ободрил, пришпорил его, он резво дёрнул к своему месту.
– В Эстонии нет ни одной коммунистической газеты на эстонском языке, – трудно, с ласковым акцентом лилось снизу, из ямы. – Программу «Бремя»… бр-р… «Время» не показывают. Таллиннский горком закрыт на празднование 45-летия Победы…
… – Наше руководство партии не обращает внимания на людей. Вот звезда на плакате «Правда-90». Кто такое писал-рисовал? Одной стрелой куда так далеко звезда выехала? Где вы видали такие звёзды?.. Мы боимся малейшего разногласия. А! «Партийная борьба придаёт партии силу и жизненность». Из письма Лассаля к Марксу. Эпиграф Ленина к «Что делать?» А вы… Единство! Единство!! Единство!!!.. Накушались единства! Абалкин[37] ни куёт, ни мелет. Ни за что толковое не берётся. На каждом шагу у него один припев: это сложно, это сложно. А что сложно, то и ложно….
Ораторы конвейерно сменяли друг дружку.
Колотилкин вмельк слушал путляные выступления и читал по диагонали, что же там такое купил он на вернисаже про Егора Кузьмича.
«Недавно состоявшийся пленум Новосибирского обкома ВЛКСМ подверг резкой критике и осудил порочный стиль работы бюро, первого и второго секретарей обкома тт. Лигачёва и Васильева. За серьёзные ошибки в руководстве областной комсомольской организацией Лигачёв и Васильев освобождены от работы и выведены из состава бюро обкома…
Секретари нарушали основы большевистского стиля руководства…
… страсть к директиве. Бумажкой пытались подменить живую организаторскую работу на местах…
… бюрократическая система отчётности…
… письма-директивы – всем, всем, всем! – придуманная здесь бюрократическая форма руководства… Тон назидательный, менторский, содержание примитивное.
… Любовь к шумихе, к парадности…
Тт. Лигачёв и Васильев стали на путь администрирования, пренебрегали мнением актива. Они разговаривали с активистами языком приказов и окриков. Коллективное руководство здесь было подменено единоличным решением вопросов.
… О порочном стиле работы бюро обкома несколько раз писала «Комсомольская правда». Но руководители обкома не желали… Каждое критическое выступление по их адресу тт. Лигачёв и Васильев воспринимали как личное оскорбление, признавали критику чисто формально, не желая исправлять указанные ошибки. Члены обкома правильно расценили такое отношение как зажим критики…
Своим зазнайством, высокомерием, пристрастием к порочным методам руководства тт. Лигачёв и Васильев показали свою незрелость, неспособность возглавлять областную комсомольскую организацию.
(«Комсомольская правда», 2 сентября 1949 года»).
Чуть не выругавшись от досада многопартийным матом, Колотилкин зашвырнул в портфель вернисажную фотокопию статьи.
Боже! Боже!
В сорок девятом явил незрелость во всей красе, за что и погнали под фанфары из областного комсомола. А к серёдке восьмидесятых созрел для члена политбюро! Второе лицо в ЦК КПСС!!!.. Гo-осподи! Как тупарь первой гильдии – так подсаживай его в политбюро! Стал Лигачёв вторым человеком в партии! В державе! Главный идеолог! И в апреле девяностого с каким апломбом учил молодёжь уже всей страны перестраиваться на опыте его комсомольской работы. Соловушкой лился с трибуны двадцать первого съезда комсомола.
И ему стоя хлопали.
Перевернулась земля!
Уважаемый Егор Кузьмич!
Колотилкин подумал и зло перечеркнул слово уважаемый так сильно, что прорвал стержнем блокнотный плотный лист, заворотил последние буквы. Хватит имени-отчества!
Ответьте, пожалуйста, честно.
1. Считаете ли вы себя верным ленинцем?
2. В Новосибирском обкоме комсомола вы работали первым секретарём. Помогло ли это формированию вас как члена политбюро? И насколько успешно?
3.
Колотилкин нервно обвёл тройку и раз и два, порядочно утолщил. Но как сложить в один ясный вопрос целую копну колючих, ёжистых мыслей?
Он не понимал, почему «трудящиеся Кремля» в депутаты-делегаты проскакивают по медвежьим углам. Ну, жируешь ты в Москве. В поте лица трудишься в Кремле. Только что значок «Ударник коммунистического труда» лень тебе носить. Не носи, абы заработал. Живёшь, токуешь опять же в столице. Нy и пускай выбирают тебя столичане! Так нет. Начинает тоска сосать. Тоска по глухоманке. На наш век там чебуреков хватит. Без писка хоть в Боги выведут. А Москва может и дать с носка. За дела за хорошие. Ну, так чего налезать на риск?
Играючи въехали в российские депутаты «якут» Власов,[38] «адыгеец» Воротников.[39]
Вот примкнул к ним и «черкес» Горбачёв. А может, «карачаевец»? Кандидатом в делегаты двадцать восьмого съезда КПСС выдвинули в Черкесске. А Черкесск – это в Карачаево-Черкесии. Вот и гадай, кто он по национальности.
А как Кузьмичик отважится выкружить на съезд? В Москве не рискнул. А Подмосковье уже бортануло. Не то что с ветерком прокатило – ураганом прокинуло. Из какой, интересно, тьмутаракани вырулит теперь?
Из каши сами собой вывалились слова, легли в простой вопрос:
3. Почему вас, члена политбюро, секретаря ЦК КПСС, не избрали делегатом на 28 съезд в Рузском районе? Из 3144 человек только 48 за. Что это? Недоразумение? Где вы ещё баллотируетесь?
4. На девятнадцатой партконференции вы кричали на весь кремлёвский дворец, шла трансляция, следовательно, и на всю страну: «Борис, ты своей работой посадил на талоны всю Свердловскую область!» Тут же не забыли себя похвалить: «А я Томскую область накормил досыта!» Не знаю, как насчёт свердловской посадки, я там не был. Зато я был в Томске. Видел развратно голые полки. Люди зло отзываются о вас. Вам, председателю комиссии ЦК КПСС по аграрным вопросам, мало томичей, вы посадили на голод всю страну. Может, я чего-то не понимаю? Объясните. И подвопрос к месту. Довольны ли вы культурой общения в высших коридорах коммунистической власти?
5. В Томске вы 17 лет были Юрием Кузьмичом. А в Москве вынырнули Егором Кузьмичом. Сменив имя, что вы приобрели?
6. В Колпашеве Обь подмыла захоронение, стала уносить останки политзаключенных. Что вы, первый секретарь обкома, лично сделали, чтобы не осквернялась память безвинно убиенных?
7. Вы сказали: «Если коммунизм рухнет, то рухнет рабочий класс, крестьянство и интеллигенция, ибо коммунизм наиболее полно отражает их интересы». В самом ли деле вы так думаете?
Колотилкин осёкся. Стой, голуба! Куда лепишь романище? Да будет ли он всё это читать? Заштрихуй семерку и отправляй!
Тянуло спросить ещё, почему в политбюро одиннадцать членов. Каждому по членовозу бронированному. Тоже одиннадцать… Не пятнадцать. Не девять. А именно одиннадцатипалое бюро. Почему?
Пример футбольной команды?
По четвергам в одиннадцать Ленин начинал заседания политбюро. Это вошло в закон. Нерушим он и сейчас?
Видите, тоже одиннадцать. Может, в этом отгадка?
Колотилкин брезгливо вспомнил, что и во всех передовицах «Правды» тоже одиннадцать абзацев. Как закон.
Кто был первый?
«Правда»?
Так, может, в ознаменование каждого абзаца и набрали в политбюро футбольную команду? А может, всё же наоборот? Может, каждый, к а ж д ы й абзац в газете – это как румяненький ещё с пылу с жару орденок на к а ж д ы й день каждому члену?
Утро – орденок!
Утро – орденок!!
Утро – орденок!!!
Во-он почему «Правда» одна во всей державе ежеутренне выскакивает, как горячая семнадцатка с орденками на подносе. Без выходных! Как же оставить без новой, без свежей наградки члена только за то, что августейше соизволил открыть миру свои светлобудущие очи?








