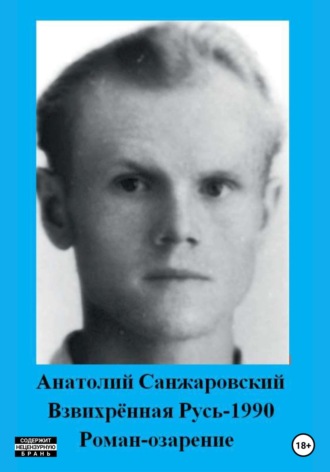
Анатолий Никифорович Санжаровский
Взвихрённая Русь – 1990
18
Если фарс долго не сходит со сцены – это трагедия!
Б. Десняк
– Вы меня глубоко извините, но в перестройку стало жить лучше, стало жить веселей! Именно. Ве-се-лей!
– Что это вас повело на вождистские цитаты?
– Юмора на душу населения значи-ительно прибавилось. Появился Жванецкий…
– Но умер Райкин.
– Кто вам сказал? Он просто надел другую маску… Самого… Как выступит по телевизору, кафедра неделю катается по полу. Придти в себя не может. Фразы на репризы растащит. И переговаривается только его фразами. Отчего всем и весело. Вот в чём прогресс перестройки!
– Факты?
– Пожалуйста. В Вильнюсе помните? «Ложите ваши доводы на стол». Литовцы так и легли сами трупиками. От изысканной русской речи. А непревзойдённый «Азебажан»? Улавливаете, какая икромётная… бр-р, искромётная брежнинка? Лукавые подчинённые колеблются в одной амплитуде с шефом. Похоже, он долго, усиленно подражал Брежневу. Тот не выговаривал, понять можно. Челюсть отстегивалась. А этот-то что? Горячо желалось угодить начальству? Угодил. Теперь сам завалился в эту канаву, никак не выедет. «Азебажан» и «Азебажан». Это оскорбило слух Каспарова. И Каспаров не только уехал из Баку, но уехал и из КПСС. Из-за одного «Азебажана». Молва так носит…
– Я ц-ц-ц-цве-ела-а и расцвета-ала
До семнадцати годов.
А с семнадцати годов
Ц-цалую крепко мужиков!
– Чего голосишь в советской очереди?
– С-своё пою. Я и моё ёбчество в лице горьсовета културненько отправили на пенсион пьяный Мишуткин указик. Нехай протерезевитца!
– Хватил гранёный беды, занюхал локтем и распелся!
– А те чё?.. Чё?.. Свой локоть нюхал. Не тво-ой! Понил?!.. Слушай, искажу што!.. 2.43, 2.87, 3.62, 5.70, 6.08, 10.20 – этапы б-боль-шого п-пути! П-подавитесь вы моей ливеркой! А я п-пшёл по своему по эт-тапу-с!..
Б-был-ло т-тихо в стране.
Это уснул народ.
Тронулся лёд. Но не плывет.
Зачем разбудили нар-род?
– Ит ты! Упомнил, что показывали. Бесплатный кавээнщик… Бродячий… шатучий тельвизор…
– Так на чём я тормознул? Ага… Молва… Или вот это. Бле-еск! Бле-еск!.. В парламенте Ми Сер с изыском кидает: «… брехня это. Извиняюсь, что позаимствовал у украинцев это слово, выступая на русском языке». На каком языке он выступает, учёные мужи ещё до-олго будут сушить головы. Ну зачем нам лезть в украинский, если своей «брехни» полные мешки? Открой ожеговский словарь на пятьдесят шестой странице, поздоровайся с русской «брехнёй».
– Дива! Спецмальчики что нарисуют, то и прочитает. Всего-то трудов! Читать может и детсадовец. Пока переливает мальчикову перестроечную спецводу из пустого в порожнее, ещё туда-сюда. Но как без шпаргалки откроет рот, начинается «Вокруг смеха».[59] Не вокруг! Сам смех! «Центр смеха»! «Господин смех»!
– Пять лет долдонит: «Мы создаём правовое государство. Мы создаём правовое государство». Пёстрые ворота из-под собак брешут! Полнейшая бессмыслица! С юридической кочки. Любое государство правовое. Любое! Нe грех бы знать. Юрист же. Московский кончал университет, юрфак. Да говорят как в народе? Ворона посидела, посидела на крыше Московского университета, вороной и полетела. Она-то птаха вольная, полетела. А ты как госпреступник сиди у телевизора, слушай. «Дискуссируется». «На́чать». «Прúнять». «Углýбить». «Этот шаг (повышение цен) делается по просьбе трудящихся». «Это позволит выйти нам на приемлемые условия». «Надо быстрей разворачивать аргументацию и выходить на какой-то баланс». «Сейчас мы на критическом этапе». «Моя речь на успокоение направлена». «Мне не надо здесь делать какие-то ударения, это и так ясно». «Перестройкой мы поставили задачу включения страны в мировую деятельность». «Что было проделано в последние годы – мы вышли на большое согласие». «На очереди дня новые шаги вперёд»… Слушай да красней. Даже дочка-третьеклашка пристаёт: пап, а па! А чего дядя президент говорит не по правилу? На то и президент, отвечаю. Ему можно. У боженьки выхлопотал себе такую привилегию. «А наша строгиня Галина Васильевна всё равно б ему колышки с подпорками в дневник ставила». А ты подскажи, смеюсь про себя. Пускай попробует…
– Одни колышки и уцелеют. Сразу по закону о защите чести президента загонят за Можай. Телят напару с Макаром пасти. А заодно перевыполнять продовольственную программу…
– Пап, а па! А дед Тихон и Карташов вчера шли с печёнки, упали в речку… Их Боженька уронил… Бабушка смотрит, сидят в воде, встать не могут. Вытащила, привела. Мыла в грязном ведре.
– Старей бабки! Bcё знашь. Все секретики вызвонишь… Подмолчи. Лучше на, доешь вчерашне яблочко.
– Я не мусорка. Не давай мне отгрызки.
– Слыхала? Лекарствия будуть на ихню валюту продавать!
– Хо-о… Этой колоброд спустил сверху указ. Подыхайте! Я при своей пенсюхе на валюту куплю? Ты купишь?
– Не надобны мы ему. Грёбаный Мешок! Гнили, гниём и будем гнить. Теперечки по-скорому…
– Вчера не то в кавээне, не то во «Времени» слыхал сообщение ТАССа?
– Какое асса?
– Делегация партократов с вертолёта обследовала пик Коммунизма и нашла там полный коммунизм. Там нет даже снега!
– Не. Я другое слыхал. В одном сельце подгороднем мозоли[60] совсем забросили работать на колхозной земле. Не пашут. Не сеют. Продуктики из городка тянут. И был в том сельце единственный работник. Пошёл в доле, набрал для парничка мешок доброй земли. Тащит на горбу. Откуда ни возьмись филин[61] под козырёк. Что и куда? А-а!.. Покушение на соцпринципы?! Покушение с расхищением соцсобственности? И мужика в кутузку. Спрашивают президента: а что с землёй его делать? А землю, велел президент, раздайте крестьянам! «Всю?» – спрашивают. Отвечает: всю! всю!! всю!!!
– Как славно! Наконец-то с семнадцатого года роздали всю землюшку крестьянам.
– Великое дело перестройка! Умным перестройка дала кооператив. Глупым – гласность. Остальным – «Аргументы и факты».
– Вперёд! К победе плюрализма!
– А знаешь, как Авось де Небось встречается с народом? Спекта-акли!.. Вчера узнал. Подставных ли, отборных ли трудяг свозят на автобусах к специальному месту. Бедолаг во сто кругов окружают кагэбэшники. Фон массовости готов! Приглядись по телеку, одни и те же кагэбэшные пасеки мелькают и в Мурманске и на Дальнем Востоке. Авось де Небосъ входит в кадр и бодро, как в «Пионерской зорьке», лупит от фонаря вроде: ну как идёт перестройка, товарищи? «Хорошо! Хорошо!! Хорошо!!! Хорошо, Михаил Сергейёвич!» – взахлёб кричат сопрелые от предвстречной муштры не то отборные труженики, не то дежурные выступалы, обливаясь со страху по́том. И больше Авось не беспокоит их расспросами. Запускает старую перестроечную долгоиграющую пластинку. На долю хозяев остаётся кивать-подкрикиватъ гладким хором: «Да! Да!! Да, Михаил Сергейёвич!!!» Или: «Верно! Верно! Верно!! Вер-рно, Михаил Сергейёвич!!!» Или: «Давно пора! Давно пора, Михаил Сергейёвич!» Пускай бы к нам пристроился в очередь за ливерпульской тоской, мы б потолкова-али. Оха и потолковали за жизнь-перестройку! А то в Питере скачет вот на свидануху с кагэбэшниками. Пардон, с народом. А проезжать мимо магазина. У магазина рукопашная за такой же, как у нас, собачьей радостью. Очередину – разгонять. «Не разойдётесь сами, бульдозер пустим. У кого-нибудь башку отдавим». У перестроечной демократёшки короткий поводок.
– И на что все эти показушные концертяры? Вон даже в «Известиях» писали. Приехал чин чинарём в Донбасс. Нечаянно стакнулся с шахтёрами, как сказали. Экспромтом. Но этот «экспромт» за полгода расписали, кто где чихнёт, кто где икнёт. Выступальщики попались говорливые. Вылитые стахановцы-стакановцы. Чуть ли не до смерти забили себя в грудки. Всё в клятве кричали: Михайло Сергеевич! Да не дадим сбросить перестройку с коня! Да не дадим! «Экспромт» вышел классический. Да не с шахтёрами, а с подставной бандой. Партийные плутократы так уж боялись, что услышит Авось де Небось честное народное слово, так боялись, что самих себя выдали за шахтёров.
– Жи-ирно кормит Авось номенклатурщиков! А они в ответ дурют его, вот дурют! И похохатывают…
– Гэнсэкша, небось, разгладила горячим утюгом морщины на пупке, сказала: «Побудем и мы ледя́ми!» и отбыла уже в турпоход за океан.
– Да-а?
– Не одна. С каким-то однофамильцем.
– Да-а?
– Он не только однофамилец, но по совместительству ещё и муж.
– Да-а?
– Он не только муж. Но и по совместительству верховный главнокомандующий вооруженными силами!
– Да-а?
– Он не только главнокомандующий. По совместительству ещё и председатель Совета обороны!
– Да-а?
– Не только председатель Совета обороны. По совместительству ещё и председатель российского бюро ЦК КПСС!
– Да-а?
– Нe только председатель бюро. По совместительству ещё и член политбюро!
– Да-а?
– Не только член политбюро. По совместительству ещё и генеральный секретарь!
– Да-а?
– Не только генеральный секретарь. По совместиловке ещё и президент!
– Да-а?
– И всё един во всех лицах!
– Да-а?
– Все эти совместиловские должностя раскидай по людях, безработки до двухтысячного не дождутся.
– Да-а? А сколько ж получает?
– А сколько хочет!
– Вот это да!
– Сначала нарисовал себе две пятьсот. Говорит: жалаю две пятьсот чистыми. Ему говорят: чтоб получать две пятьсот чистыми, надо дорисовать полторы грязными. Одной грязной кучкой угребает четыре тышши! В двадцать раз больше среднестатистического совтруженичка. Неужели у Авося желудок в двадцать раз больше? Больше, раз четырёх не хватает. Мало. Ой как мало. Мень чем у тех, что под воротьми с ручкой стоят. Милостынька-то у нас с горой! Вон Неврозов[62] поспрошал нищенков. Эсколь в день вымаливаете? Да полторы сотни! Чистыми! Безо всяких обложений! Матерных, подоходных.
– Он и с нищих пенсионериков генерально скребёт. Содержать супружницу – какие мильоны нужны? Страна-нищенка насбирает… Зато жёнка-пшёнка в босоножках с золотыми каблучками по заграницах цок-цок, цок-цок! По три меховые шубы меняет на дню! Завидела у Тэтчерихи брильянтовые серьги, позеленела. И побёгла зелёная по Лондо́ну. Тут же купила себе за 1780 долларов точнёхонько такие же. Там нетушки распределителей… И шмоняет манятка по заграницах. Напевает:
– Пока свободна,
Гуляй, девица!
Первую «ледю́» к важности клонят.
А её выносит то в магазин, то в ресторан, то в аптеку за жвачкой. В том же Лондо́не в программе колом стояла могила самого Маркса. А без программы нежданно наплыла английская корона. Чего делать? Ума не приставить. С мировой скорбью таращиться на могилу? До смерточки занятно! Или хоть на миг одним глазком взглянуть на драгоценности короны? И тогда со спокойной душой можно помирать! Конечно, Маркс не устоял перед коронными смотринами. Пал.
– А сколь же стоит эта туризьма нашей странушке?
– Словом не обозначить. Они ж не то что сели да поехали парочкой в простом, в пролетарском вагонишке. Люди кулюторные[63], любют ёбчество отборное. Каг… каг…эбэшное… Вон в Англии токовали. В свите металось две сотни кагэбэшных рыл. Тэтчериха ездит с двумя охранниками. А этим целую подай армию! А ну прокорми? А ну просодержи? Ну… Кормить их из чайной ложечки не надо. Сами лопают, как слоны. Только лопают-то наше с тобой! Посол говорит Тэтчерихе: дайте какую-нить хатушку, где содержать охрану. А Тэтчериха: у нас дармовых нету. Это только при социализьме такое в допустимости. Пожалуйста, сымайте этаж в гостинице. Живите и платите. Тогда всё посольство вытряхнули кого куда, поселили доблестную кагэбэшню. Каки расходы!
– В Америке президент улетает с военного аэродрома. А у нас для головки держать спецаэродром. Царская конюшня[64] называется. Даже на отдых оттелева увеиваются…
– У них что отдых, что работка… Как отличить? Присосались кровохлёбы… А ты всё это-то шоболо на своём горбу вези, вези… Вот… Чисто Мaланья с ящиком… Прискочут туда, отожрутся. Ить заходишь в магазин… В какой-то Бельгии – на карте меньшь залупки – тыща сортов пива! В обычном американском магазине – триста, триста! сортов сыра! Две-ести сортов колбасы! Я туда попань – сердце за один хлоп разорвётся!
– Той-то ж тебя туда и не пускають. Серцу твою берегуть!
– Не тем берегут. В наших в очередях лёпается каждый пятый инфаркт!
… Колотилкин бродил по Москве и слушал, слушал, слушал горевую столицу…
19
Сегодня кончается 72-летний эксперимент по внедрению советской власти в России. С завтрашнего дня живём по старому режиму!
(Из первомайских лозунгов на Красной площади.)
Очередь мёртво приплющила Колотилкина к прилавку.
– Взвесьте кило! – бухнул Колотилкин.
Продавщица глянула как на ненормального. Скучно возложила кулаки на раскисшие бока:
– Клади, прыгунец. Свесю.
– Та-ак… колбаса у вас…
– Сама знаю, что у нас. Показывай, что у тебя, копуша!
Колотилкин не понимал, то ли шутили с ним, то ли издевались над ним.
– Ну чё варежку растворил? Мне некогда с тобой болеро крутить. Гони паспорт!
– 3-зачем?
– Что он там дурака из себя ломает?! – заволновался хребет очереди.
И вся каша стала ему объяснять, что со вчера всё в московских магазинах только по паспортам.
Продавщица прижала метровым ножом вздрагивающий на колотилкинской руке паспортный листок, похмурилась на карточку, на самого Колотилкина.
– Фасадом вроде похож… Раскрой… Кажи прописку.

А прописка ей не понравилась.
– Гуляй, Федя! Следующий… Ну а ты чего не отходишь? Может, тебе отвесить кила два полок с запахом ливерпуля? Так это можно пока и без паспорта… Скоро колбасня кончится, и ты первый будешь за запахом…
Колотилкин очумело не двигался с места. Отгрохать два часа в этой парилке и выкруживай с пустом? Что я Алле скажу?
Он искательно заозирался.
Всё вокруг зло молчало.
– Бегляк! – усмехнулась продавщица. – Приходи в воскресенье. Отвалю триста грамм! Норма дневного потребления. А пропишешься, лаптяйка, в столице раньше, раньше и подкатывай.
Колотилкин растерянно уставился на женщину, стояла за ним.
– Да, – в печали кивнула женщина. – Всё по талонам да по паспортам… Охо-хо-хо… Времечко… Без квитка не достать и кипятка…. У кого немосковская прописка, всю неделю продукты не отпускать. Только в воскресенье норму.
Он понуро вытерся из гвалта, но уходить совсем не стал. Со стороны чумно таращился на бесовское стадо у прилавка. Он не понимал, почему ему не дали колбасы. Завтра у Аллы день рождения. Что положить на стол? И вообще. Разве люди без московской прописки уже не едят?
Глаза сами тянулись к центру, к продавщице.
Он всё думал, что позовут всё же, скажут, произошло недоразумение. Извините, вот вам ваш килограмм.
Но ни продавщица, ни толпа его не видели.
С верха витрины, с подставки для ценника, улыбался лишь кот с усами во все стороны и показывал лапoй на слова рядом с собой.
1 р. 70 к.
КОЛБАСА НЕСЪЕДОБНАЯ
Дипломированный Кот-дегустатор.
Шустряк-самоучка, безразлично подумал Колотилкин про оформителя ценника, какого-нибудь пропадающего со скуки в очереди Репина.
Уже на выходе его догнала женщина, что была за ним.
– Простите. А я взяла и на вашу долю. Я с внучкой. Дали два. Не побрезгуйте. Я напорознь и взвесила.
Уж чего Колотилкин не терпел, так это жалости. Ещё не хватало, чтоб его жалели!
– Нет! Нет! Спасибо. Я раздумал.
На углу в киоске он взял «Правду». Никаких других газет уже не было. Поискал свою статью – нету. И воткнул трубкой в урну.
Не успел Колотилкин отойти, как в урне закопошился старчик в отрепье. Осторожно достал его «Правду». Расправил. Локтем вытер грязное пятно и в бережи просунул в оконце киоскёрше. Та приняла. Шваркнула в высокую стопу газет.
– Вот видишь, Митя, и ты с завтраком-обедом, – подала старику пятак.
– Спасибушки, свет Марьюшка, – бормотнул старик и прижался некошеной щекой к руке с пятачком.
– Ну что ты, что ты… Мне всё равно эту «Кривду» в союзпечать сдавать. Номером туда, номером сюда… Спишут!
Колотилкина подстегнуло, на что это так понадобился его пятачок? На вино? На еду?
Вслед за стариком Колотилкин снова вошёл в магазин.
Старик свернул влево, к хлебу. Взял чёрную четвертушку.
Пока дотолкалась до кассы его очередь, хлеб сжевал.
Отдавал пятак уже с пустой руки.
– Божье благодарение Вам, – в поклоне шепнул старик, проходя мимо Колотилкина.
Колотилкин ничего не ответил.
Только его будто пришпорило. Он дёрнулся с места рывком и твёрдо прожёг к автобусу.
Не даёте? Маринуете? Вам же хуже! К чёрту всю эту писанину! Строгай, строгай, строгай всю жизнь! А они месяцами выдерживают. И ради чего? Чтоб потом спихнули в макулатуру? Сожгли на митинге? Или чтоб полоскали по очередям, как сегодня?
Против обычного он не стал в вестибюле причёсываться перед зеркалом. Лишь придирчиво оглядел себя, хмыкнул: «При виде такого дохлого женишка демографического взрыва можно не опасаться».
С минуту маятно потоптался у лифта и, не дождавшись, пеше подрал на десятый этаж.
Когда пролетал мимо шестого, брезгливо кольнула ленивая мыслиха завернуть к Лигачёву на огонёк. Здесь, на шестом, твёрдо носила молва, была секретная лаборатория. Гранили алмазы для царьтреста. Надо! В редакции «Кривды» – подпольная лаборатория! Сам Лигач курировал, набегал на экскурсию. Эхма-а… Да горите вы синим пламешком, мохнорылые папаньки соцвыбора!
В отдел он всунулся боком. Не вошёл, а втёрся. Боялся шире открыть себе дверь. Смято присох у стола.
– Ну что застыл, как просватанный? – серо спросил шапочный знакомец замзав. – Падай, – показал на кресло. – Хвались подвигами.
Колотилкин прилип к краешку кресла, как сорока на колу.
Краснел. Мялся. Не знал, с чего запустить разговор.
– На какую тему молчим? – нехотя поинтересовался зам. – Что, классический труд где твой тиснули? И не знаешь, как встретиться со своей родной гонореей?[65]
– Да труд пока трупиком у вас лежит…
– Не беда. Быстро едешь – тихо понесут… Уже в гранках. Подпиши.
Зам лениво-важно покопался в папке, выдернул два узких листочка. Отдал Колотилкину.
Свежая краска чёрно мазалась под боковой мякушкой ладони, подорожником ложилась на душу. Колотилкин вовсе обмяк, подписал гранки.
Затеять речи про то, чтоб забрать статью, он теперь уже совсем не мог. Дело дотянулось до гранок и – назад пятками?
Они прощались за руку под пиканье «Маяка».
Было два часа.
– Это будет, – взволнованно заговорил мужской голос из шкафа, – самый короткий репортаж с первого съезда народных депутатов России. Только что стали известны результаты голосования. Председателем Верховного Совета РСФСР избран Борис Николаевич Ельцин!
Дом как-то дрогнул. Откуда-то из недр вставного шкафа тонко, коротко звякнули стаканы, составленные, видимо, рядом.
Колотилкину показалось, что пол под ним качнуло.
Но всё было именно так, потому что в тот самый миг, когда прозвучало имя Русского Главы, Москву действительно тряхнуло. Волной пробежало землетрясение в два балла. Природа со всей Россией ликовала!
– Салют, Ельцин! Салют, Россия!
Землетряску, что шатнула полдержавы, Колотилкин путём не заметил. В нём в самом кипел вулкан. Его самого затрясло, полоумно ударила ветвистая радость.
– Е-е-ель-ц-цин!!! – лихоматом реванул Колотилкин. – Е-е-ель-ц-ц-цин!!!
Подскочив мячом, что было силы затряс потную рыхлую руку, которую ещё не выпустил, прощаясь.
Зам всё мрачней кривился, каменел на глазах.
– Е-е-ель-ц-ци-и-ин!.. – Е-е-ц-цин! – орал Колотилкин и дёргал, тряс зама за плечи. – Очнись! Возликуй, человече!
– Т-тише, малахольник, – прошипел зам.
– Ельцин же! Ельцин!
– Ну и что? Ещё услышат…
– Кто? Подслушивающие штучки-дрючки в стенах?
Зам затравленно заозирался по стенам и не то сел, не то пал в своё новёхонькое, дорогое креслице.
– Е-ель-ц-цин! – Колотилкин подпрыгнул, над головой хлопнул в ладоши. – 535 – за!.. 535 – за!!.. За! За!! За!!!..
– От прёт… гад… – оцепенело бубукнул зам. – Это там какие-то аппаратные игры… Не может быть…
– Не может быть? Уже есть!
– Ну! – с отважной надеждой вздохнул зам. – Теперь Михал Сергейч его!..
Зам широко, мстительно отвёл кулак в сторону, со всего горячего забегу подцепил невидимого вражину большим оттопыренным пальцем под ребро.
– А это, сказала бабушка, медленно надевая очки, ещё посмотрим. Не успел Горбачёв отбыть… Может, сейчас где-нибудь на краю Европы или уже над океаном… Ну нельзя хозяину отойти на минутку. Только отвернулся – они уже тут Ельцина, понимаете, подбросили. Выбрали, называется. Безобразие! Опасно уезжать! Хрущёв тоже уезжал в отпуск. Уезжал генсеком. А вернулся уже не под своей охраной.
– Да-а… И Жуков уезжал… Печальные схожести…
– В молодости, – полез Колотилкин в воспоминания, – я в ИМО поступал. Институт международных отношений. В аспирантуру. Урыли на немецком. Но не в этом суть. Там я нарвался на чудика. Заведовал кафедрой. В отпуск каждое утро раньше всех прибегал. До вечера высиживал день за своим столом. Боялся, что в его отсутствие погонят… захватят деструктивные силы его стулку.
– Что ни говорили про Бориску… – Зам шумно, разгромленно вздохнул. – И подшофе выступал в Америке на встречах, и купался зимой в реке… Всё на пользу ему! Всё отскакивает! От прёт! От гад прёт!..
Раз за разом стали звонить.
– Слышал?
– Да слы-ышал… – уныло мямлил зам.
– Да схожу-ка я на вопросец… – вслух подумал Колотилкин. – Шепни на ушко, чтоб в стенках не слыхали, кто у вас сляпал перепечатку из «Репубблики»?
– Какую перепечатку?
– А ту самую. Какого-то подонистого итальяхи. Грязь про Ельцина! Когда в Штатах был…
Зам побагровел. Надулся. Вот-вот лопнет. Пятна-нарывы ало засветились на лошадиной сытой ряшке. Похоже, буфет в «Кривде» не страдал пустотой.
– Ты к чему о верёвке в доме повешенного?
– А что, его уже повесили? – невинно ухватился Колотилкин.
– Ты чего добиваешься? Чтоб твоего больше ни строчки у нас не прорезалось? Чтоб в секунду вылетел из первых с волчьей характеристикой?
– М-мечтаю-с! – в язвенном поклоне бросил Колотилкин, вежливо взял свои гранки, лежали на папке, и не спеша, обстоятельно порвал в мелкие клочья.
– Извините за медвежество!
Он снова поклонился и с чувством хорошо исполненного долга вышел. Выходил рассвобождённо, ровно.
Он ещё никогда так ровно не держался в ходьбе.
Холёный коридор просторно лился в ту и в ту сторону.
Заполошные, перепуганные люди таракашками метались взад-вперёд. Кучковались, наспех шептались.
– Что будет? Что же будет?
– Горбачёв, Ельцин, Собчак – новый Бермудский треугольник!
Это копец!
Весь этот свежеиспечённый роскошный дворец походил на тонущий фешенебельный корабль. Как «Титаник».
Колотилкину казалось, корабль трясло, било, качало, кренило. Одним бортом он уже широко захватывал, зачерпывал буревую воду.
И вовсе не бедные тараканики, а раскормленные пухлозадые крысы летали мимо какая куда, натыкались, ссыпа́лись в стихийные кучки и в панике советовались, как будем помирать. Вcе вместях? Или кто как знает? Или, может, ещё уцелеем? Но как? Где ближний берег? И чей этот ближний берег? Наш? Чужой? К какому кидаться? Мда-а… «Капитан знает всё. Но крысы знают больше!»
«А разве крысы печатаются в «Кривде»? Разве получают кремлёвку в обмен на печатную брехню? Разве выходят на персональный партпенсион?.. Не-ет, о н и даже и не крысы. Зачем же оскорблять крыс сравнением с этими?.. Крыса открыта, чиста. Что взяла на прокорм – сверх ни зернинки не тронет. Эти же точат когти захапать весь мир, не дай только им по лапам!»
Запалённая трусца проносила мимо неопознанную особь. Не то мужчина. Не то женщина. В брюках. Короткая стрижка. Белые губы. В кулаке папироса.
«Раз с папиросиной – дама из Амстердама», – сказал себе Колотилкин.
Он спросил, как ему пройти в нужный отдел.
– Идите на Савёловский! – и махнула рукой вперёд.
– Отдел уже на вокзале? – подивился Колотилкин.
– А-а… Вы ж не наш… Здание длинное. Одним торцом ближе к Белорусскому вокзалу, другим к Савёловскому. И меж собой отделы мы поделили так: этот на Белорусском, этот на Савёловском. Сейчас вы на Белорусском. Идите туда… туда…
И Колотилкин пошёл, куда показывали.
Нужный кабинет был закрыт.
Что делать? Торчать солдатиком под дверью?
Как-то унизительно.
И он побрёл по коридору. От нечего делать изучал фамилии на дверях и пас свою дверь.
Нежданно он наткнулся на особенную, громкую фамилию. Улыбнулся. В памяти качнулась давняя история…
Впервые его провёл в редакцию – она была ещё в старом здании – дружок по бурсе (университету). Вошли в кабинет. Дверь на ключ, бутылку какой-то чернухи из-за окна – лежала между рамами, под прикрытием «Правды» с призывами к Октябрю.
Воровато расплескали по гранёным стаканам, стоя дернули без закуси. Занюхали кто щепоткой ногтей, кто рукавом.
Кабинетохозяин чинно шморгал сизо-фиолетовым носом, угощал друга за святой подвиг.
Ляпал хозяйко фельетонишки. С почтительными поклонами. И нельзя было порой понять, то ли ругал, то ли хвалил. Может, догадывался, что именно его персона первая требовала геркулесовой фельетонной оплеухи?
Однажды он выскочил в командировку на Волгу.
Выпить подперло – в кармане одна вошь на аркане.
Куда бежать спасаться? В молодёжную газету! К редактору! Сунул ему старый рассказишко, тот денежки на бочку. И в придачу прошеньице: помоги вклиниться на службу в твою высокую контореллу.
Какие разговоры!? Ты спас горького алюню от верной погибели! Беспримерный подвиг! А я или нехристь?
И по его заручке поехал волжский редактор корреспондентом в Сибирь.
Сидит год. Сидит два. Ни строчки не пишет. Боится. А ну забракуют, патрона-милостивца подведу.
А зарплата аккуратно идёт за переживания.
Всё же сибиряк раз насмелился, послал заметку и нагло так подписался: наш корреспондент.
В редакции прочитали. Онемели.
Так пишет наш корреспондент? Не может быть у нас таких корреспондентов!
Сверились по ведомости. Может! Есть!
Кого держали? Кому платили? Ув-волить! эт-ту! без-здарь! Благодетель еле умял страсти, но потребовал от сибиряка штукаря доблестной, искупительной работы.
И поехал теперь уже сибиряк в командировку.
В район.
Прилетает на обкомовской «Волжанке» в райком – кругом пусто. Спрашивает у секретарши, где начальство.
– Всё уехало встречать корреспондента из самой из Москвы!
Он секретаршу в машину. Поехали искать это всё!
На развилке всяк нашёл, кого искал.
И такая матёрая радость от этого всеми одолела, что тут же закатились в случайный соседний санаторий, где уже были случайно накрыты столы в совершенно случайном банкетном спецзале.
И так хорошо шла командировка, что сибиряк уже не держался на ногах, когда надо было ехать куда-то ещё. То ли по бабам, то ли на рыбалку, то ли охотиться на живого медведя. Он не знал куда, но знал – надо.
И всё пошло хинью.
Ротозиня шофёр на подогреве врюхался в лужу.
Все из трёх машин высыпались подтолкнуть.
Сибиряка принципиально не выпускали из машины. Почётный гостюшка! Отдыхай!
А он не мог смириться, чтоб на него работали. Он не эксплуататор какой заржавелый. В конце концов тоже вылез, тоже влился в сплочённый хор помогалыщиков.
– Раз-з-зойдись! Я один с разбегу толкану эту «Волгу» в спину!
Народ расступился. Зрителем стоит.
Сибиряк отсчитал ровно сто своих шагов от машины. Выставил руки, забрал в себя весь окружающий здоровый воздух. Невесть какой сатанинский дух его понёс. На полном скаку разминулся сибиряк с машиной, вляпался в дужу уже сам по маковку. Даже для надёжности через голову на спину вальнулся.
Во втором забеге он снова разминулся со спиной машины.
И на этот раз, поскольку дело было на берегу реки, живописно сорвался в водную стихию.
Баграми еле выловили. Но держаться за багор сибиряк брезговал. И не мог сам подняться по плывучему отвесному берегу.
Пришлось прыгать добровольцам. Как-то не сговариваясь, разом сиганули трое. Уж дорог всем был высокий гость московский. Хотели повязать наперекрест, но съехали на что попроще. Заплеснули веревкой под мышками, замкнули узлом.
– Майна плюс вир-ра! – победно рапортуют наверх.
Верхушка потянула верёвку за второй конец.
Тащат гостюшку, как мешок с овсом. А мешок ещё охлопывает себя по брюху, дерёт козлом:
– Прощай, скука, прощай, грусть,
Я на Фурцевой женюсь.
Буду тискать сиськи я
Самыя марксистския.
– Какая идейная выдержанность! – ахают на берегу. – Истинному коммунисту подавай только марксистския! По ведру!
А осень.
Сибирская река не гагрское море. Надо срочно спасать столичанскую прессу!
Где сушиться?
Не проблема. С утра случайно тут в сотне метров банька уже млеет с раскалённой каменкой. Кому вот доверить обслугу?
Начальство сбилось с панталыку, покуда гость плавал в реке. А как спел, всё пало на свои места.
Раз тебе милы самыя марксистския, так и распишись в получении!
Сошлись на секретарше. Пускай она первый год в партии, так зато у неё самыя марксистския. Повна пазуха марксизма-ленинизма! И молодая, и внешне огаристая. В обиде пресса не останется!
С а м отозвал секретаршу в сторонку. От имени райкома дал большевистское поручение. Гостя обстирать, обсушить, выгладить. Прочее по мере спроса. Не дай Бог в чём отказать! Схлопочешь и выговорешник с занесением кой-чего кой-куда, и месяц исправительных мозольных, колхозных, работ!
– Какое ж занесение? – смеётся согревушка. – Я преотлично осознаю остроту момента в родной партии на современном переломном этапе. Я ж не беспартянка[66] там какая безродная и луну крутить[67] не собираюсь…
– Правильно ориентируешься в решении неотложных задач нашей великой партии! Что значит одарённая молодая коммунистка. Правофланговая! Ты уже далеко ушла и от бэпэ, и от бэбэ,[68] когда проходила кандидатский стаж… И, – первый секретарь котовато пожмурился, – и огонька-с побольше там! И безо всяких там отдельных фикусов, которые выкидывала в начале кандидатского стажа, который проходила под моим чутким руководством. А то занесение мы можем поднести в аванец. Держи нашу марку! Ты далеко смотрящая вперёд умнявка… Ты уже далеко ушла от бэбэ и пойдёшь ещё дальше. Получи благословение партии… – Он сладко прихлопнул свою разъездную раскладушку[69] по весёлому «конференц-заду»: – Да убережёт тебя Бог! Ты на правильном пути. Иди!..
Вся подноготная очаровательной командировки доехала-таки до Москвы. Сибиряка усердно покатали по коврам и дали вольную.
Было душно. Воздух тяжёлый, ядовитый. Совсем нечем дышать и Колотилкин махнул рукой. А ну вас! По луже ударишь, тебя же первого обдаст. Купайтесь сами в своей грязи!
Из фойе выдернулся он на балкон.
Молодой, peзвый ветер туго обнял его. Стало свежо, приятно.
Колотилкин разжал кулак. Клочья его статьи бело взвились в ураганном, шаловатом танце.
Слава Ельцину!
В очумелой радости Колотилкин пялился на зелёные лысины домов, на людей, что сновали внизу замороченными столбиками.
Москва! Московушка! Выше нос! Теперь у тебя есть Ельцин!
– Э-э-э! – крикнул он вниз, сложив руки в рупор.
Но его не слышали.
Колотилкин сбежал по лестнице, ударил к автобусу.
– Ель-цин! Ель-цин! Ель-цин! – летел он с подскоками.
Встречные понимающе улыбались. Мрак на лицах выцветал, сквозь него просекались надежда, изумление, опасливое торжество.







