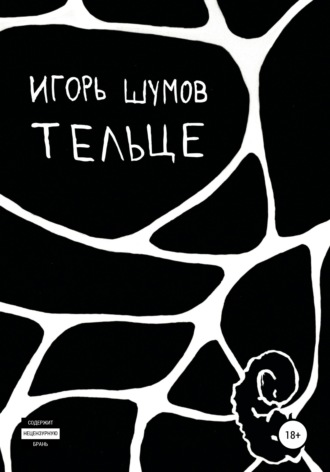
Игорь Шумов
Тельце
10.
Я не стал прощаться с Костей. Я не стал благодарить Сашу. Я решил оставить город позади, как ошибки молодости. Температура поднялась до сорока, голос окончательно исчез, чудом я держал себя на ногах. Все на чудо да на чудо списываю, в силы свои не верил и в ближайшее время не собираюсь начинать, а стоило бы, иначе чудо превратится судьбу, а судьба в роковую снесет. Во время перелета виделись непонятные кошмары, никак с жизнью не связанные. Двадцать минут отруб, десять минут с жаром, кашлем и неловкостью. Некомфортно должно было быть моему соседу, бедняга. Мой кашель весь самолет на уши поднял, слышно, как люди недовольно цыкали. Раздражал их шум чужой, живой, не машинный. Я давился, держал его в себе, терял дыхание. Если хочется кашлять – ничего не поделаешь. Дохаешься, держишься, а потом мокрота со слюной летит в затылок твоего соседа. Мне было неудобно, я не мог снять куртку. Потел, вонял, тело скользило в одежду. Как же было мерзко. В глазах мутнело, я терял сознание. Из соседнего иллюминатора просачивался свет, жестокий, грубый свет.
Сигареты резали горло. Как зажег, так и подушил, бросил на асфальт. Вот она, Москва. Аэропорт Внуково встретили ажиотажем, толпой, не по мою душу пришли. Люди стояли в очередях, бежали от чего-то, не пойму. Вышел на улицу, и все как и прежде. До этого же терпели, зачем сейчас-то рыпаться? За углом не прекращалась стройка. Еще в детстве моем она началась, и итогом ее должна была стать парковка, а теперь – новый терминал. Таксист ободрал меня, воспользовался моей слабостью, так еще и телефон разрядился. Несколько тысяч незаслуженных в карман. Пока мы ползли через пробки, я отвлекся от болезни, задумался о работе. Вот таксист, в чем он есть? Зачем он продолжает заниматься этим? Сегодня та эпоха, когда потребитель становится массовым, ему насрать на то, как производится объект его потребления. Потому никто не защищает водителей, например, Яндекс такси. Никто не бушует, что их работа – это капиталистическое рабство. Да, они зарабатывают деньги, но они уходят на бензин, аренду машины и сигареты. Конкуренция и усердный труд? Бросьте, машинный код ставит цену, среднюю между довольным клиентом и голодающем, но не до конца, таксистом. Шмыгание носом – как хлопки по щекам, болею, но не больно. Больше нет. Смерть осталась там, в Екатеринбурге, играться с местными жителями. Представляю картинку, как я в черных очках и костюме, за штурвалом истребителя, лечу в объятия ее с косой, но разворот-поворот-прикол, и она пытается догнать меня, но не может. Я судорога в горле смерти, блеск в глазах человека перед выстрелом. Большого мнения о себе все-таки.
Таксист говорил много, он обладал самым неприятным голосом, что я слышал за свою не очень короткую жизнь. Был ли он таким на самом деле, или это от болезни не в радость окружение и любое чувство – уверенно сказать не мог. Сложно было представить, как я в таком состоянии выйду на работу. Я достал из кармана ручку и поставил себе крест на руке – на память – написать Семену Юрьевичу о болезни. Вряд ли он бы мне помог, и просить помощи я на самом деле бы не стал – но отгул был необходим. Работа постепенно подкрадывалась обратно к моей жизни, я о ней успел забыть. Как приятно чувствовать дни, не делить их на выходные и будни. Закончить вечер пьянкой, а не компьютером; утро с солнца на глазах, а не экрана с надписью «будильник». Или не видеть неприятные лица; те, что вызывают отвращение. Вот то самое лицо, для которого нет злобы, нет обиды. Для него есть прекрасный подарок – нервы. Оно сжирает их. Дареному коню в зубы не смотрят, но черт, зачем же выбивать-то их? Может, именно это и бесит? Нет, я понял иное. Спустя месяца я понял. Я работаю не покладая рук, горбачусь, беру на себя большое, в то время как другие не могут. Это меня злит, это заставляет меня плохо думать о них. Но почему? Опять же, здесь главный я – мой эгоизм, моя усталость. Раз я тружусь и я горбачусь, почему другие отдыхают? Если устал, почему другие нет? Я воспринимаю это как необходимость – уставать, как показатель качественной работы. Только сейчас я понимаю, что никто не обязан страдать от своего труда, срываться и ненавидеть все вокруг, если кто-то другой не находит в нем радости. Не говорю счастья – оно не подходит для описания. Часть себя уходит в дело, потому оно и кажется ценным, и когда кто-то не разделяет твоей любви – любви частично к себе – это вызывает агрессию.
Что еще хуже, это самомнение. Работа становится способом самореализации, и слишком крупное значение придается ей. Так люди выгорают, ибо труд переходит с физического на умственный, роботы сходят с конвейеров и готовятся оторвать нам руки. Постоянные связи. общение, креатив, наиотвратнейшее выражение «умственный труд» – все это изматывает и сжигает. Выгорание. И вот ты придаешь чему-то значение, и в команде с тобой человек, который, ну, не разделяет энтузиазма, живет от зарплаты до зарплаты, от выходного к выходному. Кратко – выживает. Вместо работы над собой начинаешь его во всех бедах винить, недостаточно вовлечении, а виноват ли он? Свою жизнь он пусть девает куда хочет, необязательно же с тобой ее кончать. Говорю на ты, а все о себе, да. Чувствую, что то, к чему я обращался на ты, ушло. Последние крупицы догорают внутри.
Дома жена рыдала. Сначала она не признала меня, так плохо я выглядел. Меня начало рвать, то ли кровью то ли слюной с яблоками. Жена предложила раздеть меня, но я чуть ли не с криками отказался. Не хотел, чтобы она увидела мой шрам. Я заперся в ванной, разделся и офигел – пореза будто и вовсе не было! Кожа, как она есть, только выбрита. Красивый был порез, скучать по нему не собирался. Закутавшись в одеяла, я уснул. Жена говорила, что я бредил, бубнил имена и пытался кричать, но голоса не хватало. Ее сильно напугала моя шея и на следующий день она записала меня в частную клинику недалеко от дома. Врач отличился черным юмором и чрезмерной вспыльчивостью. Стоило мне зайти он спросил почему я вообще стою на ногах. Дыхнул – а вы точно внутри не сдохли? Его цинизм провоцировал меня держаться, бороться с самим собой. Сделали ренген шеи – ничего не нашли. Пустота. Врач предложил зайти к онкологам на всякий случай, но потом передумал: его смущали белые пятна, блики лампы на его столе. Наверное, у Лизы был подобный врач. Я помню, как ходил вместе с ней к онкологу. Мы шли по улице, и она попросила купить ей сигарет. Меня это возмутило: «Как ты смеешь курить в своем состоянии?». Она засмеялась и холодно ответила:
– Либо это правда рак, и я умру так и так, почему бы не покурить? Если нет – буду курить дальше, чего бояться?
Такие молодые слова, безрассудные, детские если быть точным. Правда в них была. Детская, радикальная, но правда. Чего уж терять? Жизнь? Ее так и так заберут. Деньги? Если по-настоящему хочется – возьмет свое в любом случае. Удивительно, что я смог увидеть это иначе. Критически. поставив себя на ее место. Смерть нас сблизила, конечно. В ней оставалась вера в выздоровление, непризнание болезни. Иначе она бы уже давно улетела куда подальше, наслаждаться последними роковыми деньками.
Несколько дней я лежал дома и жалел себя. Плевался и дохал. На работе меня не искали – я сообщил коллегам о болезни. Жена сидела надо мной и все пыталась понять, как со мной могла сотворить обыкновенная простуда такое. Голос постепенно начал возвращаться, температура спала, рвота прошла. Время спустя я был как огурчик. Хорошо, что я не умер. Нет, не так.
Я не умер. Или даже так:
Не умер.
11.
На работе все изменилось и одновременно все осталось прежним. Столы завалены, люди напряженные, кипит и бурлит. Бычки тлеют, кондиционеры шумят. Ничего нового. Люди вокруг только, кажется, стали иными. Будто призраки, они парили вокруг на цепях своих дел. И неделю бы назад я цепях этих запутался бы, подавился бы. Я легко перешагивал через них, не обращал внимания. Волнение пропало, с ним и вовлеченность. Стол потерял значение рабочего места, он обрел себя обратно – стал ебучим столом. Коллеги перестали казаться командой, они преобразились в людей. Такие резкие изменений не прошли незамеченными, и первым это заметил Кирилл.
– Игорь, – обратился он ко мне, – ты как съездил? У тебя все хорошо?
– Все ок. А ты?
– В порядке, тут много чего произошло пока тебя не было. У Руслана, вот, лучший друг умер, коллега наш. И никто не говорит, почему. Семен Юрьевич сердечный пережил, лежит дома отходит. Даша ушла, Аня вот тоже шепчется.
– Ладно.
– Что у тебя с голосом, братан, – Кирилл положил руку на мое плечо, и я резко вскочил, – ты чего?
– Это болезнь, кхм, – я прокашлялся; действительно, мой голос стал несколько ниже. – Еще горло не прошло. Аня так и сказала, что уходит? Мне стоит с ней поговорить?
– Наверное нет, но…
Дослушивать не стал. Аня сидела на своем рабочем месте и листала документы. Моя тень упала на нее, миниатюрную. Она была последним человеком, из списка тех, кто мог уйти из компании. Деньги получала неплохие, работа была простая, ненапряжная. Аня посмотрела на меня. Я забыл ее лицо, покрылся краской, будто впервые увидел эти маленькие губы, скулы и рыжие кудри. Мне нравилось на нее смотреть, нравилось, когда он пробегала мимо с пачкой бумаг, и, сказать по правде, я всегда был рад ей помочь. Уронит она папку, бумаги разлетятся, и я, рыцарь в белом воротнике, появляюсь из-за угла и помогу ей собрать все.
– Аня, здравствуй.
– Привет, Игорь, – поздоровалась она, не отрывая от бумаг. – Как отдохнул?
– Я не отдыхал. Скажи мне, пожалуйста, это правда, что ты собралась уходить?
– Кирилл уже всем успел рассказать? Да, я давно думаю над этим.
– Почему?
– Потому что я устала, потому что никто не прислушивается ко мне. Потому что я делаю так много всего, а это игнорируется, будто меня одну волнует состояние этой компании. Я могу и дальше сидеть на попе ровно, не двигаться, как мужчинам нравится, мило улыбаться и ждать, пока огонь разгорится.
– Ты считаешь, что тебя не ценят здесь?
– Естественно. Если ты пришел меня держать, то ты оставь эту идею.
– Я хотел поддержать тебя
Она оторвала глаза от стола и удивленно рассмотрела меня.
– Ты плохо выглядишь. Что стряслось? Погоди, я не поняла, ты серьезно не собираешься меня отговаривать? Ты тоже уходишь?
– Нет.
– Вы же с Кириллом вместе планировали, и я вот тоже наконец решилась. Игорь, это работа сжирает меня. Я никак не реализовываюсь тут. Мне искусство нужно, а не пять-два, где всем на меня насрать. Мне стали безразличны люди вокруг и, что самое страшное, такое отношение переносится на других людей. Будто работа неразрывно связана с остальной жизнью. Но это не так, быт превращается в говно, крики, шум, ор. На кота собственного срываюсь, никогда такого не было. Стресс сильнее удовлетворения. Я понимаю, я вижу – я не работаю. Прокрастинирую, сижу на месте, занимаясь чем угодно, лишь бы обратно в текучку не вернуться. От этого отдельно погано. На мелочах косячу, как так можно?
– Тогда почему ты еще здесь?
– Потому что…
– Ты давно об этом думаешь? – перебил я. – Конечно, давно. А ты еще здесь. Может, тебе нужна помощь?
– Нет, я…
Я выхватил из-под стола коробку с документами – Аня сдавала все в переработку – и стал собирать ее вещи со стола. Котов, фотографии, памятки, журналы, книги. Все туда. Она подняла голос, просила остановиться. Прибежали коллеги и смотрели, как я тащу на плечах и коробку по коридору. Из своего офиса выбежал разгневанный заместитель, Петр Кнопка.
– Что происходит?!
Я всучил ему коробку и сказал:
– Она уходит. Аня, – я повернулся к ней и обнял, – ты молодец. Беги, пока можешь. Иначе дальше будет хуже.
13.
С тех пор Аню я не видел, оно и к лучшему. Я был рад, что она оторвалась от нас, как паразит от пищи. В нас был только яд, и мне не хотелось бы, чтобы она мучилась, страдала. Кто-то говорил, вроде Даша, что она начала употреблять, стала работать в республике и учиться на искусствоведа. Значения этому придавать не стоило. У нее был шок, такого резкого изменения обстоятельств не ждал никто. Если бы я не вмешался она бы дальше сидела за этим столом, карала бы себя за то, что взять и отрезать не может. В ней была благодарность. Я же, в свою очередь, почувствовал ничего. Как необходимость увидел это – надо значит надо. Помощь? Боже упаси, какая к черту помощь? Зачем мне было помогать ей? Она бы потом спасла? От разгневанной бумаги и агрессивного принтера? Отсосала по пьяни, когда брак переживал кризис? Нужды в ней было, частью своей жизни делиться с ней не стану. И ни с кем больше, – решил я. Тогда мне это показалось единственным правильным выходом. Из чего только, оставалось непонятным.
Исчезли причины вставать по утрам, я не видел в этом смысла. Как бы я не хотел, но я думал об Ане. Что она будет делать дальше? Что если в мире таких людей сотни тысяч, и сейчас они страдают, привязанные к рабочим местам. Ладно она, человек, что за успехом не гонится, но есть же еще случаи аж клиника, кто хотят и реализоваться, и добиться успеха, и признания, и богатства. Целого мира им попросту мало! Подъем в гору, не имеющую вершины, поиск дна в замкнутой на себе трубе. Кто еще бы смог помочь ей? Нет, мне не хочется думать, что я один, уникальный и особенный, только потому, что что-то внутри заставило меня сделать это. Кто бы это еще сделал? Ее друзья давно должны были заметить в ней изменения. А иначе зачем нужны друзья? Нужен человек, что всегда поддержит; если это, конечно, не героин. Тот поддержит только ложку.
А любила ли она свою работу? Вот Лиза ненавидела, это я точно помню. По лестнице лезть отказывалась, как бы ни уговаривали. С деньгами всегда было туго. Ей не нравилась ее работа, а еще глубже лезть в нее, все выше и глубже, нижнее и жестче, какой тогда в этом смысл? Разница между официантом и менеджером в ответственности, а отвечать за то, с чем себя не ассоциируешь, что тебе не дорого и загоняет в тоску – к черту это. Но жить на что-то надо. Самый избитый и растиражированный аргумент. Но, погодите, неужели нельзя жить делом? За свое дело – за себя – нужно быть готовым разбиться головой о стену, вскрыть вены, встать под пулю – иначе это вовсе не вы, а навязанное тысячелетиями извне желание. Таких вещей много, большинство заметно нерефлексирующим глазом. И все, внимание, все, и я в первую очередь, пытаемся этого не замечать, потому, что если уж увидел проблему – разберись, очень легкий жизненный принцип. Он же и самый сильный. Увы, самые простые принципы всегда усложняют, ведь в сложном много переменных, нужно много думать. Много думаешь – дашь сбой, забываешь ранее сказанное, и вот ты уже позорно обманут.
Потому в бреду я вывел для себя аксиому: «никому не говори и никогда не обещай». Мое правило, мое кредо. Моя икона – это две простые истины без лица, ведь каждый на них способен, но не у каждого есть силы. Я верил и лелеял, виду не подавал, где-то глубоко. Как семейную драгоценность, как последние сбережения правящего режима.
Держа в кармане аксиомы на бумаге я приходил на работу. Это подарило мне равновесие, это подарило мне спокойствие. Мелкие проблемы перестали существовать, большие заставляли улыбаться. В душе я наводил на них палец и смеялся. Униженные и оскорбленные палки в моих колесах со слезами разбегались. Коллеги поражались моему спокойствию. Клялись, что, если упадет бомба и взорвет все вокруг, я лишь стряхну пыль и вернусь к работе. В чем-то они были правы, не стану же я их трупы убирать?
Неделю спустя я выглядел здоровым. Опухоль спала, кашель прошел. Курил, себе не отказывая. Одно только горло смущало. Голос не восстановился, списал это на слишком поздний прием лекарств. Глотая пищу, я чувствую, как она задевает пищевод, оседает на в нем. Это не приносило мне никакого дискомфорта. Так, смущало, не более. Я даже игрался с этим: ел, проглатывал и, как сказать, вслушивался в себя? Чувствовал себя? Как еда задевает стенки. Вечерами я иногда просил жену посмотреть, что происходит с моим горлом. Она закатывала мне скандалы, требовала обратиться к врачу, но я дурак что ли? Буду платить деньги за прием, чтобы утолить свое любопытство? Сам справлялся, ничего примечательного не замечал. Однажды только как-то встал в позу, свет удачно упал, звезды сошлись, не знаю, и сделал фотографию черно-белую. В горле были еле-еле заметные порезы.
В общем и целом, жизнь вернулась к стандартному ритму. Только стала здоровее. Желчь, скопившаяся с давних времен, исчезла. Она была причиной всех моих недугов. Признаваться в этом себе не хотелось от слова вообще. Жизнь же показала, что имеет не только разные цвета (меня это ввело в шок), но еще и таит в себе запахи, чувства, различные детали, требующие отдельного взгляда. Я выходил на улицу и слушал птиц сквозь гул машин, смотрел на эмоции в уставших лицах, притрагивался к снегу, чтобы отнять его редкое тепло. Я преобразился, и мир вместе со мной. Саша не брал телефон, а мне так хотелось сказать ему «спасибо». И пусть моя благодарность выразилась бы в неловком молчании – как подумали бы другие – нет ведь ничего прекраснее молчания. Автобусы ездили быстрее, людей в метро стало меньше, жена целовала так, будто бы в последний раз вместе.
Как радовало меня невидимое, так же сильно царапало взгляд знакомое до. Прямоугольные старухи завлекали взгляд, крик детей стал ярче, женщины вдруг похорошели, все до одной. Нельзя было представить время лучше для того, чтобы жить. Посреди улицы ругались пьяницы, я смотрел и слушал. Заметят меня – уйду, не заметят – вслушаюсь. Столько гениального впустую вылетает из них. Если это не истина, то опасное приближение. Полицейские будто бы стали милее и приветливее, страх перед ними пропал. А что их бояться? Бояться их почему? За последствия, за то, что они могут со мной сделать: избить, ограбить, подбросить, пытать? Ничего это более не страшно, ничего это более не имеет значения. Если нечего ждать, то и нечего бояться, – думал я, потому каждому из них я махнул рукой и говорил «прощай». Никогда раньше у меня не было такого душевного подъема.
В суматохе метро исчезаешь, как и миллионы других местных жителей. На переходе между синей и зеленой ветками я попал в поток людей. Бегут себе мышата, думают, что знают куда бежать. Об меня они спотыкались, я выбивался из общего ритма. Раньше я мог хоть секунду гордиться этим, а теперь – чем же тут гордиться? Что я не такой, другой, только потому, что меня на другой стороне прямой не ждут, что я никуда не опаздываю? Бред, мальчишеский бред. Многие вокруг одинаково одеты, цвета одного диапазона. Никакой роли это замечание не играло, само собой. Просто я не так часто обращал внимание на других. Мне хотелось, чтобы все исчезли, все вокруг взяли и повесились, пропали и исчезли, только близкие остались. Пусть живут, – решил я, – не мне решать, не мне они принадлежат. Музыка звучала, женщина пела о неразделенной любви. Сбоку от нее на коленях стояла еще одна. Беременная, с пузом больше тела. Всегда казалось, что это обман, что под растянутой майкой ей подобные держат подушку или огромный воздушный шарик. Вот было бы смешно – а может и нет – с разбега вмазать ей ногой по животу, чтобы шарик лопнул, она закричала и все вокруг засмеялись. Кто из нас тогда был бы клоуном?
Мысль остановилась. Конфуз. Я о таком и думать не мог раньше. Бедная женщина с нерожденным ребенком, заранее обреченным на ужасы жизни, принижается и выпрашивает милости, а я планирую как ей правильно въехать: одной ногой или с разбегу двумя. Двумя было бы круче, как в рестлинге на американском телевидение. Если я мог представить это, и не в общих чертах, а детально, до выдоха перед прыжком, до улыбки на своем лице – означает ли это, что у меня есть возможность это осуществить? Нет, возможность есть всегда. Решимости обычно не хватает. Я подходил все ближе. Руки сочились потом, мышцы на ногах напряглись. Черт, разбежался бы сразу, как эффектно бы смотрелось, а теперь. Я встал перед ней. Она протянула руки ко мне. Во мне, как будто вовсе не было и незнакомо, пропала жалость, пропало сострадание. Хотелось смеяться, хотелось сделать ей больно. Лишить ее возможности хоть на что-то надеяться. Вдруг меня оттолкнула в сторону толпа, и я вместе с ней пошел дальше. Грань чувствовалась перед собой. Тонкая грань.
Случай вышел не из приятных, ранее мне не знакомый. Выйдя на улицу, я выкурил пять сигарет, анализируя, почему я хотел это сделать, что бы я получил с этого, зачем мне хотелось сделать, и смог бы я на это решиться. Дорога была утомительной, аргумент за аргументом проецировались в голове, к единому мнению прийти невозможно. Зачем бить женщину? Чтобы получить удовольствие. Причин для удовольствия может быть бесконечно много: желание насилия, мести, желание само по себе, новый опыт, боль, возможность ударить сама по себе… Перечислять бессмысленно, любой человек, и женщины в первую очередь, добавят от своей душенки несколько причин. Что хотел я? Ударить, это точно. Зачем? Уже говорил, причин для удовольствия может быть бесконечно много: желание насилия, мести, желание само по себе, новый опыт, боль, возможность ударить сама по себе… Зачем мне получать удовольствие? А почему нет? А почему да? Потому что без удовольствия нет смысла жить. Смысл жизни заключается в удовольствие? Нет, ведь без не-удовольствия удовольствия быть не может, необходимо и то, и то. Хотел ли я ей доставить не-удовольствие? Определенно. В чем оно заключается? В боли, в мучениях. А зачем? Чтобы получить удовольствие. Зачем? Потому что без этого не жить. А зачем жить? Так надо. Кому? Мне. Зачем? Так надо. Зачем? Мне оно надо. Мне надо. Надо что? Сделать ей больно. Почему? Потому что я получу от этого удовольствие. Ей боли не хватает? Хватает, только ее не хватает мне. В каком смысле? В смысле у меня ее достаточно, хочется увидеть чужую. Но разве она и так не страдает? Это я уже видел, необходимо еще. Зачем? Чтобы жить и не зря. А можно без этого прожить? Да, но зачем, если я так жил годы до? Я чуть ли не умер в поисках спокойствия. Я выжил, получил новую жизнь, разве я не могу ей порадоваться? Радоваться страданию других? Радоваться тому, что я смог себя победить; радоваться тому, что я себя пересилил; радоваться тому, что я смог это испытать. Я могу, я могу, я могу. Но перспективы туманные, они меня пугают.




