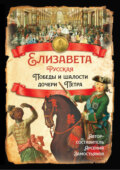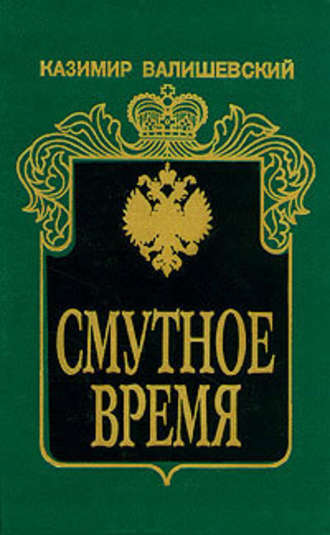
Казимир Валишевский
Смутное время
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Вмешательство Польши
I. План Сигизмунда
Добрый и полный героизма Ян Собеский никогда не считался последователем Макиавелли, но и он как-то раз, в минуту откровенности, сказал, что в войне надо прежде всего иметь в виду последствия, а не поводы. Я советую это вспомнить тем русским историкам, которые все еще оспаривают законность поводов, побудивших в 1609 г. Сигизмунда взяться за оружие против своих соседей. Если бы он вовремя не упредил их, вступив в московские пределы, москвитяне напали бы на него в Польше вместе со своими союзниками – шведами. Но не один этот casus belli (повод к войне) оправдывал его решения. Не следует забывать предложений, сделанных королю Безобразовым еще в конце 1605 г. Эта интрига не была оставлена, несмотря на воцарение Шуйского, и, если верить сообщениям Симонетты, преемника Рангони, новый царский посол, Волконский, сам усиленно поддерживал эту интригу. Бояре, уверял он, не потерпят долго у себя ровню себе, Шуйского: им нужен государь царского рода; стоит только Сигизмунду двинуть свои войска к границе, и сын его будет единогласно провозглашен царем в Москве. Разведчик, отправленный в Краков боярами, подтвердил королю эти уверения. Дмитрия II придумали-де бояре только для того, чтобы погубить «шубника» и проторить дорогу для польского вмешательства. Наконец, в том же смысле подробно писал и пленный польский посол, Олесницкий, в своих посланиях к королю, дошедших до него каким-то путем. Московское государство, терзаемое междоусобной войной, обезлюдевшее и разоренное, представлялось такой легкой добычей. Противники Шуйского брали верх, а их самым заветным желанием было иметь польского царя.
Как мог устоять до сих пор Сигизмунд перед такими уговариваниями? Дело в том, что со смерти Дмитрия I он был всецело поглощен заботами о порядках внутри своего государства. До июля 1607 г. руки его были связаны мятежом (rokosz) Зебржидовского. Позднее к этим заботам присоединились еще затруднения в вопросе о финансах и войске, а Польша, только что истощенная братоубийственной борьбой, была плохо подготовлена к завоевательной войне. Впрочем, король сам имел мало охоты увлечь поляков за собою в поход. С него было довольно поляков в Кракове! Он мечтал достигнуть Москвы без поляков. Поэтому, несмотря на благоприятное голосование большинства сеймиков (поветовых сеймов), он склонялся к мысли сделать из этого предприятия дело личное и избегал предлагать участие в нем на сейме. Конечно, он не мог выступить в поход один без войска, но, благодаря несуразности польской конституции, ему представлялся другой выход; в числе многих других странностей она допускала в действительности раздвоение личности государя и даже самого государства: с одной стороны была личность короля, с другой – страна, судьбою которой он номинально управлял. Чудовище о двух головах, государство, представляемое сеймом, соединялось в двоякой ипостаси с государством, представляемым королем; часто эти две головы смотрели в разные стороны, вследствие чего было две политики в Польше. Чтобы проводить свою политику, королю вовсе не нужно было непременно прибегать к сейму, так как армия была в его распоряжении; вопрос о ней озабочивал народных представителей лишь постольку, поскольку он касался бюджета. Если от плательщиков податей – т. е. от избирателей – не требовалось расходов на войско, депутатам было все равно, пошлют ли это войско в Московское государство или в другое место: ведь солдаты только и существуют для того, чтобы воевать. Итак, задача в своем окончательном решении сводилась к денежному вопросу. Сигизмунд надеялся ее разрешить, обратившись в Рим.
Переговоры, завязавшиеся по этому поводу между Вавелем и Ватиканом, тотчас же после переворота 17-го мая, крайне любопытны для изучающего эволюцию в римской политике. Так как догматическая непогрешимость тут, без сомнения, не затронута, то я совершенно свободно могу коснуться этой главы истории; но ввиду того, что подробное описание ее уже было дано весьма компетентным лицом, я ограничусь только кратким сообщением перипетий и последствий этого достаточно известного дипломатического эпизода.[329] С точки зрения практической, результат был безусловно отрицательный, несмотря на то, что Рим, вопреки своему традиционному принципу, постепенно сделал королю ряд незначительных и запоздалых уступок. В течение вековой вражды между Москвою и Польшей, причем блестящим представителем последней недавно был Поссевин, видно, что Риму искони было противно всякое вмешательство, не направленное к примирению враждующих сторон. С давних пор Польша считалась в Риме в деле приведения в лоно католической церкви своих заблудших славянских братьев на северо-востоке единственным сулившим успех орудием Провидения. Но московские великие князья и цари заблаговременно и весьма искусно сумели дать преобладание совсем иному плану в папских советах, подавая надежды на прямое воздействие путем дипломатии и пропаганды, исходивших прямо из Рима. Даже самому Баторию удалось отклонить от него папу Сикста V, только уверив его в том, что завоевание Москвы служит необходимым этапом на пути к завоеванию Константинополя. Сигизмунду не по плечу было заявлять притязания на такое наследство, а потому на свои первые просьбы он получил уклончивый ответ, отнимавший у него всякую надежду.
– Да, мы давали, но на войну с турками! Сигизмунд настаивал, прибегая к протекции, какая имелась у него в Ватикане, к влиянию польского нунция, к честолюбию Симонетты, который, в свою очередь, поджидал кардинальской шапки, к кокетству королевы Констанции, достойной дочери пронырливой Марии Баварской. Но если Сигизмунд имел мало общего с Баторием, то и Павел V не больше походил на Сикста V. Ни минуты не соблазняясь и не воодушевляясь идеей обширного политического и религиозного плана, не пытаясь развить в этом направлении мысль своего назойливого просителя, но в то же время будучи не в силах отказать ему сразу наотрез, папа прибегал к волоките, придумывал всякие отговорки и кончил тем, что уступил просьбе, но наполовину и слишком поздно.
В 1610 г. Павел V, вовсе не одобрявший войны с Москвою, послал, тем не менее, Сигизмунду шпагу, освященную в праздник Рождества Христова. В 1611 г., уже согласный с замыслами короля, он ему предлагает свои молитвы, а за неимением денег – содействие своих дипломатов к получению их в Венеции, во Флоренции и в Нанси. В 1613 г., все еще продолжая торговаться и сдаваться, он разрешает послу государя, Павлу Волюцкому, приостановить на время посылку аннатов и сделать сбор с духовенства. Наконец, в течение того же года он пожертвовал 40 000 талеров. Но тогда дело было уже проиграно.
Итак, в 1609 г. Сигизмунд принужден был довольствоваться своими личными средствами. Он воображал, что их будет достаточно, полагаясь на вести, шедшие к нему из московских областей; судя по ним, этот поход не должен был ему стоить большого усилия. Было решено не мобилизовать польских ополчений, а ограничиться имевшимися в распоряжении немногими постоянными войсками, силы которых усугублялись благодаря человеку, который примет главное начальствование над ними.
Со времени осуществления своих стремлений к анархической свободе, то есть с середины XVI в., вся республиканская Речь Посполитая в Польше, вопреки своим благородным замыслам и великодушным порывам в область идеального, была в практической жизни безумным существом; продолжая упорно держаться выбранного ею пути, она неминуемо шла к роковой трагической развязке, печальный исход которой она вызвала. Путь ее лежал среди ужасов борьбы со смертью и возврата к жизни, когда несколько мощных личностей успевали оказать сопротивление. Чаще всего это были не люди, а дьяволы, как Стадницкий, справедливо носивший эту кличку, уже знакомый нам. Но среди них являлись и ангелы; не будь их, развязка не затянулась бы на столь долгое время. На пороге той эпохи, когда Польша, скользя в бездну, готовилась погрузиться во мрак кровавых, скорбных дней, Станислав Жолкевский, преемник Замойского, был из таких светоносных существ, которые своим лучезарным сиянием до сих пор освещают мрак скорбного прошлого, оставляя в нем залог лучшего будущего. Он сделал много великого как государственный деятель и как полководец, всякий раз оставляя впечатление, что он был выше порученной ему роли. Славой своих подвигов он наполнил две великие страны. Но для сил его и такое обширное поприще казалось все еще недостаточно просторным. В его слабом теле жила душа, высеченная из самого чистого алмаза, почти без порока, без пятнышка. Иногда он кажется человеком другой страны, другого века: в нем, преисполненном античного величия, мог бы узнать себя Рим героических времен. После того, как он властвовал над Москвою, управляя городом с высот Кремля; после того, как он привез в Польшу царя, прикованного к своей победной колеснице, – ему суждено было погибнуть в далеких равнинах Молдавии. Но и будучи окружен турками, покинутый своими солдатами, в ответ на уговоры нескольких товарищей по оружию искать спасения бегством, он застрелил своего коня!
А все-таки он был поляком и человеком своего времени до мозга костей. Когда Сигизмунд обратился к нему, он не отказал ему в помощи, хотя и возражал против предлагаемых мероприятий, критикуя принятый план, и предал гласности свой ответ королю.[330] Таковы были нравы его родины.
План короля состоял в том, чтобы овладеть прежде всего Смоленском, крепостью, господствующею над бассейном Днепра, предметом давнего спора между Москвой и Польшей. Завоевание этого города казалось Сигизмунду, с одной стороны, пробным камнем благорасположения к нему москвитян, а с другой – подготовкой благорасположения Польши, на случай если к нему придется прибегнуть. С одной стороны, взятие Смоленска служило залогом, с другой – приманкой, на которую не могли не попасться люди вроде Сапеги и их многочисленных последователей. К тому же слухи ходили о плохом укреплении Смоленска, об отсутствии в нем войска, выведенного будто бы Скопиным, о желании жителей передаться полякам. Жолкевский ничему этому не верил и высказывался, наоборот, за поход в сердце государства, если, разумеется, будут к тому нужные средства. Исход дела доказал, что он был прав. Но по смерти Замойского влияние литовского канцлера Льва Сапеги всегда брало верх над его польскими коллегами. Хотя Жолкевский на деле командовал над армией, иные из его соперников оспаривали у него жезл главнокомандующего. Мнение Жолкевского не было принято, и в сентябре 1609 г. с несколькими отрядами, собранными наскоро, король осадил Смоленск.
Эта попытка не отличалась от всех других подобных ей, в которых сталкивались уже с последнего столетии польская горячность и московская стойкость. Построенный на возвышенностях, разделенных глубокими оврагами, Смоленск обладал целой системой укреплений, незадолго до того восстановленных заново и расширенных Годуновым; гарнизон его был еще достаточно силен и увеличился более чем вдвое притоком из окрестностей всех способных носить оружие жителей, которые вовсе не собирались сдаваться полякам. Вместо мощей преп. Сергия и преп. Никона у осажденных были не менее чудотворные иконы, которые они вешали в наказание вниз головой, если счастие покидало их знамена, а о сдаче и речи не заводили. У короля не было достаточно ни пехоты, ни артиллерии, и под стенами Смоленска повторилось то же, что было с Сапегой под стенами Троице-Сергиевой лавры.[331]
Но появлению Сигизмунда на московской территории самому по себе уже суждено было оказывать на ход событий огромное влияние. Хотя польские пушки не могли произвести пролома в укреплениях Смоленска, зато от одного грохота их залпов должно было рухнуть Тушино.
II. Падение Тушина
Известие об осаде Смоленска неизбежно вызвало у поляков, действовавших заодно с тушинским вором, сильное чувство досады. Как так, значит, король затевает вырвать у них плоды их кровавых трудов! Рожинский и его единомышленники составили немедленно против Сигизмунда конфедерацию. Нечто вроде политического синдиката, конфедерация была другой несуразностью польской конституции, позволяя первой попавшейся кучке панов становиться выше закона. Третья ипостась самодержавного государства, конфедерация относилась, как равная к равному, к сейму и к королю. Смоленск и Тушино обменялись посольствами, и таким образом завязались переговоры, в которых более сговорчивыми оказались не конфедераты. Они требовали от короля, чтобы он убирался вон, предоставив им одним продолжать дело, которое они одни начали и надеялись довести его благополучно до конца. Королевские комиссары, наоборот, предлагали конфедератам в помощь королевскую армию, в случае, если правда, что Дмитрий жив.
– Тот же ли это самый? – спрашивали они у Рожинского.
Главнокомандующий самозванца в своем ответе был откровенен, но продолжал, тем не менее, упорно настаивать на своих притязаниях. Вскоре обнаружилось, однако, что ему приходится поделиться властью. Ян Сапега, все еще занятый в то время осадою Троице-Сергиевой лавры, отправил своего представителя в лагерь под стенами Смоленска, причем обнаружил менее заносчивости. В план его личной игры, несомненно, не входило действовать прямо наперекор королю. А его поведение повлияло на поведение его соратников. Завязались переговоры. Сигизмунд соглашался на то, чтобы в предполагаемом договоре дело Марины было отделено от дела второго Дмитрия. Насколько это позволять обстоятельства, бывшая царица может сохранить свою вдовью часть, назначенную ей первым ее супругом. Но конфедераты не особенно заботились об участи Марины. В виде возмещения расходов они стали требовать от короля жалованья, будто бы заслуженного ими на службе у Его Величества со времени своего вступления в московские владения; по их расчету, это составляло сумму в двадцать миллионов злотых![332] Сигизмунд предпочел вступать в соглашение с отдельными начальниками, предлагая им должности или доходы. Сам Рожинский соблазнился этим.
Впрочем, королевские чиновники вели переговоры не с одними только поляками. В инструкциях, данных им Сигизмундом, предусматривались всевозможные случаи. В них повелевалось повидаться и с московскими приверженцами самозванца и переговорить об этом деле с самим Шуйским. Сигизмунд написал Шуйскому вкрадчивое письмо, в котором оправдывал свое вступление на московскую территорию обязательствами, которые царь принял на себя по договору со шведами, и выказывал готовность вновь заключить с ним перемирие. В случае согласия царя, королевские уполномоченные должны были объяснить тушинцам, что король намерен таким образом добиться и для них выгодного улажения дела. На случай отказа им были даны иные грамоты, в которых король обращался с воззванием к патриарху Гермогену, к боярам и ко всем жителям древней столицы, заявляя, что он имеет в виду лишь замирение государства, торжественно обещаясь им чтить «истинную веру православную», духовный чин и все обычаи страны; сохранить прежние льготы и даже дать новые «вольности»; наконец, ничего не предпринимать такого, что могло бы послужить во вред царским подданным, если они согласятся «стать под высокую руку короля». Не был забыт даже и самозванец. Правда, Сигизмунд не удостоил его своим письмом, но позволил это сделать некоторым из сенаторов. Величая «вора» Высочеством, они просили его не препятствовать королевским чиновникам войти в соглашение с теми из его подданных, которые находились в Тушине.
Эти замысловатые приемы в самой Москве не оказали никакого действия, но москвитяне, бывшие в Тушине, оказали комиссарам такой же благосклонный прием, как и поляки; но ни те, ни другие не подумали испросить на то разрешения у самозванца. Он очутился в ужасном положении. Даже королевские послы делали вид, будто не замечают его. Он сделал попытку властно напомнить Рожинскому о своем значении.
– Я – царь!
Но главнокомандующий, со своей обычной грубостью, быстро вернул его к чувству действительности.
– Черт тебя знает, кто ты таков! Мы довольно долго служили тебе, а все еще ждем от тебя награды за свою службу. Если мы хотим получить ее в другом месте, тебе нет до этого никакого дела, да и королевские послы вовсе не к тебе пришли!
Лжедмитрий увидел, что все покидают его. Одни только донские казаки были еще преданы ему по-прежнему. Собрав несколько «сотен», он покинул лагерь, но был пойман и силой приведен обратно неумолимым Рожинским, который пригрозил ему побоями в случае попытки к новому бегству. Между тем, самозванцу только и оставалось искать спасения бегством. Тушинский стан распадался. На обширной Руси человеку, носившему имя Дмитрия, счастье могло опять улыбнуться и доставить ему еще раз новых более верных сторонников. 6 января 1610 г., переодевшись крестьянином, зарывшись в навоз, которым были наполнены дровни, «царь» искал спасения бегством в Калугу, увозя с собой только своего шута Кошелева. Этот значительный и хорошо укрепленный город, связанный непосредственно с поселениями южных казаков, сулил ему стать надежным убежищем.[333]
Бегство самозванца произвело сперва различное впечатление в Тушине. Поляки, всегда готовые к волнениям, накинулись на Рожинского с упреками, что он укрывает царя – драгоценный залог в их переговорах с Сигизмундом. Рожинский, с присущим ему хладнокровием и повелительным тоном, делавшими его удивительным военачальником, успокоил их волнение. Но кучка конфедератов все-таки решила отправить депутацию в Калугу. Януш Тышкевич согласился исполнить это поручение. Теперь Сигизмунду приходилось опасаться пагубного поворота в эту сторону. Но тушинские москвитяне, по-видимому, не были расположены поддержать этих конфедератов. Они процессией отправились в часть города, где находились королевские чиновники, и объявили им, что рады избавлению от «вора». Таким образом, дело короля было больше чем наполовину выиграно.
Несколько дней спустя «патриарх» Филарет с духовенством, Михаил Салтыков с тушинской «Думой», Заруцкий с ратными людьми и хан касимовский Ураз-Махмет с татарами, состоявшими на службе у самозванца, отправились на сходку, по предложению послов. Хотя на этом первом собрании не было принято окончательного решения, тем не менее, стало ясно, что Сигизмунд одержит верх, и что решение московских людей окажет влияние на решение поляков.
Непредвиденное обстоятельство вскоре помешало такой развязке. Покинутая своим супругом или любовником, забытая всеми, Марина до сих пор держалась в стороне, питая, по-видимому, надежду, что крушение предприятия, в котором она столь опрометчиво согласилась участвовать, может быть, откроет простор ее личному счастью. Не было более царя Дмитрия, зато она оставалась царицей. Надежду эту, несомненно, поддерживал в ней в Тушине подбор королевских чиновников, среди которых у нее были родственники и друзья. Вероятно, Сигизмунд именно таким образом приберегал себе на всякий случай добавочную возможность для улажения дела. Марина ждала, что ей лично будет сделано какое-либо предложение. Но ничего такого не случилось, она не получила ни слова, ни указания. Тогда она задумала предотвратить грозившую ей беду, обратившись с воззванием к своим «подданным». Бледная, в слезах, с распущенными волосами, она пробегала по улицам, где жили московские люди, отстаивая дело человека, который довел ее до такого унижения. Это произвело некоторое впечатление. Во время переговоров с уполномоченными короля Филарет и его соучастники ясно поняли, что, ведь, в сущности дело идет о том, чтобы отдать во власть короля и родину и свои особы. Голос прекрасной полячки заставил их почувствовать тревогу и угрызения совести. Но поляки уже опомнились. Большинство конфедератов заявило, что пора этому положить конец. Нельзя уже начинать опять похождения с Мариной и калужским беглецом. Тут же Рожинский предложил постановить отправить депутацию под Смоленск для заключения договора с королем на возможно лучших условиях. Марина мигом оказалась почти одинокой в своем дворце. Она, в свою очередь, приняла окончательное решение, которое должно было навсегда разлучить ее с ее близкими.
III. Бегство Марины
Отец Марины покинул ее в январе 1609 года и, неизвестно нам, почему, расстался с нею довольно дурно настроенный против нее. Может быть, уже в то время у воеводы не осталось никаких иллюзий; так, по-видимому, можно заключить из его последующих заявлений. Он распростился с дочерью очень сухо, возвращаясь в Польшу. С тех пор, несмотря на блеск окружающей обстановки, на показное выражение преданности и даже рабской покорности, и поляки, и даже москвитяне обращались с «царицей», в сущности, не лучше, чем Рожинский с царем во время своих ссор. Ян Сапега, всегда вежливый и любезный, охранял свою соотечественницу от частых грубых выходок одних и постоянного презрения других, но любезность самого старосты Усвятского была довольно плохого свойства. Раз как-то он явился к государыне в таком пьяном виде, что, возвращаясь от нее, упал с лошади и довольно сильно расшибся.[334]
Марина жаловалась не только на окружающую ее тяжелую обстановку. В своих письмах к отцу, прося у него «прощения» и благословения, в котором он ей «отказал», уезжая, она умоляла его защитить ее от человека, с которым она согласилась делить ложе и обман. Она писала, что он не оказывает ей «ни уважения, ни любви». А вместе с тем слышались в ее письмах и желания другого рода. В головке этой женщины, честолюбивой до безумия, к самым тяжелым и важным заботам постоянно примешивались пошлые мысли и хлопоты о пустяках. Например, жалуясь в том же письме к отцу на нищету и подробно рассказывая о том, какую нужду приходится ей терпеть, что, если послушать ее, у нее нет даже ящичка, чтобы спрятать туалетные принадлежности, она тут же просила послать ей двадцать аршин черного бархата с цветами на платье. В другой раз она с грустью вспоминает о добром старом времени, когда отец мог у нее поесть великолепной семги и выпивал изрядное число бутылок старого венгерского вина, какого не найти уж в Тушине!
Ее материальная нужда не могла быть такой большой, как она это хотела представить. При своих постоянных жалобах на бедность она нашла возможность послать своим дорогим бернардинцам в Самбор серебряные подсвечники для главного алтаря их церкви. Да и душевное угнетение ее ничуть не мешало ей по всякому поводу отстаивать свои неотъемлемые права и давать отпор в защиту их. Она не умела сознательно отнестись к действительному положению дел, составить себе разумный план и сообразоваться с ним – на это у нее не хватало ума. Загнанная в трагический тупик своим глупым ослеплением, она сумела лишь яростно и неистово биться в нем, неспособная найти из него выход. В своих письмах к отцу она ни разу не забыла прибавить к подписи своей титул. Она писала беспрестанно и ко всем: к папе и к нунцию, к королю и к его сенаторам, представляя им разные доводы, один другого глупее и смехотворнее. Не в состоянии дать кому-либо что-нибудь, а также ожидать от других чего-либо, она, тем не менее, хлопотала невозмутимо, обращаясь ко всем за содействием, делая вид, будто сама придает значение этому. На одном ее письме к папе, сохранившемся в Ватикане, наполненном необычайными обещаниями заботиться о будущности католической религии в Московском государстве, стоит на полях пометка римской курии: «Не требует ответа». Обыкновенно ей не отвечали, но она не смущалась этим и не теряла надежды вплоть до времени полного крушения ее дела.[335]
После бегства «вора» двоюродный брат Марины, Стадницкий, глава королевской миссии, в своем письме предлагал ей, положим, выход из ее положения. Но как было далеко то, что он предложил ей, от того, чего она чаяла! Он полагал, что ей всего лучше взять пример со своих соотечественников, положившись всецело на великодушие короля. Ведь прошлое уже изжито, его нельзя воскресить. Письмо было адресовано «дочери сандомирского воеводы», по польскому обычаю давать детям титул отца, если не было другого. «Царица», должно быть, привскочила от такого оскорбления, однако у нее хватило ума настолько, что она подавила свой гнев и ничем не подала вида. В ответе, делающем честь ее таланту писать письма, но не обнаруживающем в ней политического ума, она благодарила своего весьма услужливого родственника за его дружеские советы, но высказывала убеждение, что ей следует предпринять что-нибудь получше того, что он советует. «Бог, заступник невинных, не допустит узурпатора воспользоваться плодами своей измены». Итак, она не понимала даже, что дело было уже не в Шуйском! Продиктовав этот ответ, она в конце прибавила собственноручно следующие строки: «Получившие свой свет от блеска высокого положения, по воле Господа, не могут без его попущения впасть опять во мрак, подобно тому, как солнце не теряет своего света от тучи, заслоняющей его на мгновение». И опять она подписалась: «Московская царица».[336]
В то же время она обратилась к самому Сигизмунду с новым письмом, текст которого передавался различно, но смысл его верен.[337] Далекая от мысли покориться и отказаться от своих прав, Марина желает наилучшего успеха «своему доброму брату», королю Польши, и взывает к чувству справедливости государя; но, если у него нет этого чувства для нее, тогда она умоляет Божеское правосудие заступиться за нее и защитить ее права, от которых она не думает отрекаться. Верила ли она действительно в возможность сохранить свои права? Сомнительно это; ведь в письме к отцу, посланном с тем же гонцом и того же числа, 13 января 1610 года, она говорила совсем другим языком, близким к отчаянию. Письмо начиналось объяснением недавних событий в Тушине, как она сама понимала их. Она оправдывала бегство царя: государь-де не имел права подвергать опасности свою священную особу. Ведь отказались сообщить ему, о чем велись переговоры с королем. После его отъезда войско сначала высказалось за короля, но при известии о пребывании царя в Калуге, где многие москвитяне примкнули к нему, в лагере образовались две партии; одна из них стояла за Дмитрия. При таком положении дела Марина не знает, на что ей решиться, и не ожидает ничего хорошего для себя в будущем. Никто не хочет вступиться за нее и указать ей достойный путь к отступлению. Божий гнев видимо тяготеет над нею, ей неоткуда получить ни доброго совета, ни спасительной помощи, и все-таки она предает себя на волю небесного покровителя и ждет себе Его приговора. Но, без сомнения, страдания сведут ее скоро в могилу; она предпочитает быть там, чем видеть торжество своих врагов. Письмо кончалось просьбой к воеводе начать энергичные хлопоты в ее пользу «для того чтобы она не причинила семье еще большого горя». По-прежнему в конце письма стояла казенная подпись.[338]
До 2-го марта (нов. стиля) она ждала ответов на свои письма, а также, без сомнения, результата от попыток самозванца в Калуге вернуть свое положение. Город оказал ему благоприятный прием, несмотря на жалкий экипаж, в котором он туда явился. У него уже образовался новый главный штаб благодаря притоку казаков и неожиданному прибытию князя Шаховского, который рад был опять выступить в первых рядах. С приходом Януша Тышкевича у «вора» появилась надежда вернуть к себе опять поляков. Между Калугой и Тушином завязались сношения по этому поводу; но Рожинский положил им скоро конец, вызвав жестокую отместку самозванца. В городе опять царил ужас. Казалось, что этот террор снова вернул силу той партии, которая с давних пор главную силу свою видела в жестокости и насилиях. Тушинские казаки покинули лагерь и разбрелись, много их пристало опять к прежнему хозяину.
Марина решила тогда сделать то же, но и по другой еще причине: в Калуге ей предстояло разрешиться от бремени сыном.[339] Переодетая московским солдатом, с бараньей шапкой на голове, с колчаном стрел за плечами, она покинула Тушино ночью в сопровождении только своей старой горничной, Варвары Казановской, и пажа, который, быть может, были подослан самозванцем, Ивана Плещеева-Глазуна, о котором упоминает летописец.[340] Перед отъездом Марина оставила «своей армии» прощальное послание. Вследствие потери подлинника, а также разногласия имеющихся налицо нескольких польских и латинских переводов, некоторую вероятность представляет лишь общий смысл.[341] Письмо это состоит из вопля отчаяния и упорных притязаний. Уезжая из Тушина, Марина покончила с долговременными мучениями. С ней дурно обращались, оскорбляли ее честь, унижали ее достоинство царицы, которое даровано ей Богом, и отрекаться от которого она не намерена. Она знает, что подлые клеветники, ставя ее наравне с развратными женщинами, забывали за стаканом вина, чем они ей были обязаны; она знает, что, уходя после ее пиров, они замышляли против нее самую черную измену. Несмотря на гонения и угрозы со всех сторон, она заявляет перед лицом Всевышнего Судии, что будет защищать до смерти свою честь, свою добродетель и свой высокий сан; что, став государыней над столькими народами, она, московская царица, никогда не согласится стать снова польской дворянкой и подданной.
Очевидно, в этом заключалась суть ее мысли, здесь таилась причина ее упорства и отчаяния. Одна мысль, что ей придется вернуться в свое отечество и снова зажить на положении простой шляхтянки, возмущала ее и заставила впоследствии пренебречь всеми опасностями и всеми страхами перед гораздо худшим исходом.
Итак, она возвращается к царю и его казакам, а в то же время поручает защиту своей чести войску Рожинского и его польским товарищам, заявляя им, что вполне убеждена в их верности. Это войско не позабудет ни своей клятвы, данной при присяге, ни награды, которой оно может ожидать от великой государыни! Это письмо, без сомнения, предназначенное к обнародованию и получившее весьма большую гласность, любопытно со всех точек зрения. Психологи могут найти в нем характерный образчик женской логики: «Я знаю, что я могу рассчитывать на вас, итак я покидаю вас!»
Она избрала себе путь через Дмитров, потому ли что еще держался здесь в то время Сапега, или, может быть, этой сумасбродной беглянке пришло на ум попытать здесь счастья. Несомненно, что она заигрывала со старостой Усвятским, не забывавшим, даже в пьяном виде, величать государыней свою прекрасную подругу. Товарищи польского искателя приключений, по-видимому, оказали своей соотечественнице восторженный прием. Она своим присутствием воодушевляла сражающихся в происходивших тогда битвах с войсками Скопина. Появившись на укреплениях Дмитрова, Марина помогла отражению приступа. Но Сапега не изъявил желания идти за Мариной в Калугу и искать в ее обществе других приключений. При всем уважении и рыцарской вежливости, с которыми он уговаривал «царицу» не покидать его, Марина почуяла, что он предлагает ей это лишь для того, чтобы предать ее королю, и она решилась продолжать свой путь. Сапега пытался удержать ее, она ему пригрозила; ведь ей только стоит дать знак, и несколько казацких сотен, бывших с ним, бросятся на его же поляков. Он больше не настаивал, и Марина рассталась с ним, продолжая уверять его, что «на него одного она возлагает надежду».[342]