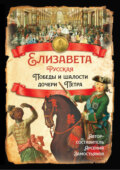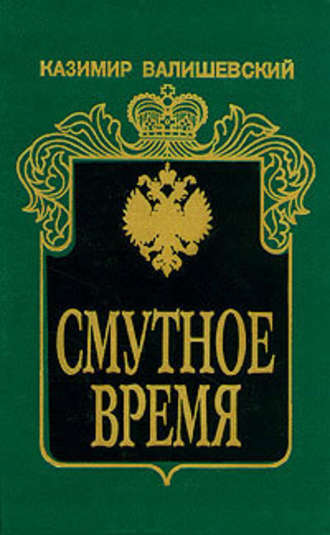
Казимир Валишевский
Смутное время
Через несколько дней Делагарди сам решил вступить в переговоры с гетманом. Отступление было ему обеспечено на условии, чтобы он не помогал более москвитянам. Крепость Царево-Займище при возвращении Жолкевского сдалась ему сразу, когда стало известно о его победе; но воеводы Елецкий и Валуев соглашались признать царем Владислава и присягнуть ему лишь под условием, чтобы польский генерал дал обязательство от имени будущего царя чтить веру православную, действовать заодно с поляками против «вора» и очистить Смоленскую область.[356] Они тоже заявляли притязания получить, в свою очередь, конституционную хартию, они тоже мнили себя представителями всей страны! Можайск, Борисов, Боровск, монастырь св. Иосифа Волоколамского, Погорелое-Городище (здесь лежал больной де Лавиль) и другие крепости сдались одна за другою, доставив армии гетмана подкрепление в 10 000 москвитян. Он любил хвалиться их верностью и услугами. Прежде всего они ему послужили в качестве посредников во время тотчас же начавшихся переговоров с Москвою. Жолкевский еще не рассчитывал, что принудит силою открыть себе ворота столицы. Он побаивался осад. Но его победы и постыдное бегство Дмитрия Шуйского уже непоправимо испортили положение Василия Ивановича. Дни его правления были сочтены. Жолкевский со своими отрядами, усиленными, закаленными и воодушевленными успехом, ведя переговоры с Москвою, все ближе подвигался к ней, чтобы отпраздновать в ней свою полную победу, не потребовавши от своего войска нового усилия.
VII. Низложение Шуйского
Мечом или убеждением Жолкевскому предстояло все-таки решить очень сложную задачу. При известии о новом несчастии, постигшем его, Василия Иванович первый обратился к победителю с нерешительными предложениями через посредство одного польского пленника, Слонского, бывшего секретаря Лжедмитрия I. Не отклоняя их, Жолкевский гораздо деятельнее приступил к распространению в столице списков договора, заключенного в Цареве-Займище. На возражения московских людей, что в договор не включено условие об обращении королевича в православие, гетман отвечал, что этот вопрос подлежит обсуждению патриарха и духовенства. Но большинство было того мнения, что обсуждение представляет общий интерес для всех, и некоторые начали посматривать в сторону «вора». Предупрежденный об этом, самозванец не замедлил явиться поблизости столицы. С помощью Яна Сапеги он овладел монастырем преп. Пафнутия Боровского. При защите храма был убит воевода, князь Михаил Волконский, между тем как два другие его товарища, воеводы Яков Змеев и Афанасий Челищев, передались «вору». Предание рассказывает, будто на камне церковного порога выступает кровь героя во время каждой панихиды по нему. Затем самозванец беспрепятственно занял Серпухов, Коломну и Каширу, прорвав таким образом последнюю линию крепостей поблизости Москвы. В Зарайске верный присяге и отважный князь Дмитрий Михайлович Пожарский, несмотря на подговаривания Ляпунова и настойчивые требования жителей сдаться, мужественно и успешно отбился. Судьбой ему было предназначено впоследствии пойти по следам Скопина, но с б(льшим успехом. Пройдя по Рязанской области, три четверти которой покорились ему, Лжедмитрий II остановился в пятнадцати верстах от столицы, заняв позицию сначала на Угреше, у Никольского монастыря, где он оставил Марину, а затем в с. Коломенском.
В Кремле и его окрестностях в то время царила во всем крайняя неурядица. У Шуйского имелось еще под рукой 30 000 войска, но никто уже не думал сражаться за него. Филарет что-то замышлял, окружая себя непроницаемой таинственностью. Иван Никитич Салтыков, племянник сочинителя тушинской конституции, вел переговоры с Жолкевским по поводу избрания Владислава; В. В. Голицын, хлопоча о своих интересах, пытался войти в соглашение с Ляпуновыми, а другие бояре, вступив в сношения с самозванцем, но не добившись от него достаточно существенных обещаний, пришли к следующему заключению: «ни Василия Ивановича, ни Дмитрия». Но кому же тогда быть царем»? Из лагеря в Коломенском несколько голосов ответило: Ивану Павловичу! Это было имя Яна Петра Сапеги, на русский лад переделанное. Староста усвятский мечтал, кажется, теперь, а может быть, и раньше того, выставить свою кандидатуру.[357] Но у Дмитрия были сторонники в самой Москве.
Исследуя почву около Жолкевского, затем выжидая, какие предложения могут быть с его стороны, Василий Иванович делал то шаг вперед, то опять отступал, и не приходил ни к какому решению. Братья Ляпуновы решили круто повести к развязке, потому что она была отныне неизбежна. Действуя заодно с Иваном Салтыковым, они набрали шайку мятежников, которых в те годы в любое время можно было найти на каждом перекрестке в городе, и вместе с ними, 17 июля, двинулись к Кремлю, где один из братьев знаменитого Прокопия, Захар Ляпунов, потребовал у царя, чтобы он сложил с себя венец. Шуйский, привыкший к таким зрелищам, видя перед собою людей лишь низкого происхождения, выказал большую твердость. Он обратился к ним даже с грозными словами и хотел было выхватить свой кинжал, но смелый и сильный Захар, казавшийся великаном перед тщедушным стариком, закричал ему: «Не тронь меня, не то своими руками разорву тебя на куски!» И этим было все кончено. На шум этого спора, из которого победителем вышел не Шуйский, сбежался народ на Красную площадь. Мятеж все увеличивался. Вместе с несколькими боярами, верными царю, явился на Лобное место патриарх Гермоген и пытался говорить, но ему не дали слово сказать. Толпа все увеличивалась и заполнила всю площадь. Уже не было на ней больше места. Тогда Ляпуновы увели патриарха за Серпуховские ворота, и там, по словам летописца, «князь Ф. И. Мстиславский и все бояре, высшие чиновные люди, боярская дума и все окольничие, всякого чина люди, дворяне и гости приговорили, вопреки противоречию патриарха и нескольких бояр, низложить Василия Ивановича».[358] Постановили отдать низложенному царю в удел Нижний Новгород, а верховную власть в государстве передать князю Ф. И. Мстиславскому с боярами «до тех пор, пока будет угодно Богу дать стране государя», то есть до избрания нового царя. «Вор» был исключен из числа избираемых.[359]
Таким образом, этот якобы собор, по выражению одного историка, обращаясь к избирательному собранию, не предрешал его решений.[360] В грамотах, разосланных по областям, виновники государственного переворота не упустили заявить прежде всего, что «выборные всех частей государства и всех сословий», подробно в точности перечисленные в обычном порядке, просили бывшего государя сойти с престола.[361] В парламентарной и революционной комедии Россия уже с давних пор могла померяться с любым европейским государством.
Свояку Шуйского, князю Ив. Мих. Воротынскому было поручено объявить царю о его низложении. «Шубник» поклонился и, покинув немедленно дворец, вернулся в свой прежний дом, а братья его были заключены под стражу. Шуйский не совсем, однако, потерял надежду. Так как патриарх твердо продолжал противодействовать, то сам Жолкевский ходатайствовал у Мстиславского в пользу низложенного государя, напоминал ему о знатном происхождении Шуйского, к которому нужно относиться с уважением.[362] Волнения, приведшие к низложению Василия Ивановича, в самом деле беспокоили гетмана и ничуть не соответствовали его собственным желаниям. Грамоты временного правительства высказывались не только против самозванца, но и против поляков и настойчиво внушали Жолкевскому убеждение в том, что ему гораздо было бы легче сговориться с самим Шуйским. Ловкий дипломат стал действовать согласно такому убеждению, и через несколько дней настроение умов так изменилось в пользу бывшего царя, что Гермоген счел возможным настоятельно требовать его восстановления на престол. Но Ляпуновы поспешили вмешаться еще раз. 19 июля вместе с тремя князьями – Засекиным, Тюфякиным, Волконским-Мерином – и несколькими монахами Захар напал на «шубника» в его доме и принудил его постричься в монахи. На этот раз Василий Иванович отчаянно сопротивлялся: иноческая ряса решала его судьбу бесповоротно! Ляпунов принужден был крепко держать его за руки, а Тюфякин, – другие говорят, Иван Салтыков, – произносил за него обеты; затем его заключили в Чудов монастырь, а жену его постригли в монахини. Скоро должен был подняться занавес над новым актом великой драмы, столь обильной переменами декораций и действующих лиц.[363]
Глава 11
Поляки в Москве
I. Опыт олигархического правления
После окончательного низложения Шуйского в Москве нашла себе применение на деле легендарная формула революционного устава, состоявшего будто бы из двух статей: «Ничего не осталось. – Никто не уполномочен приводить сие постановление в действие». Подобие народного собрания учредило, правда, также подобие правительства. Но бояре, входившие в состав его, были сами по себе только телом без головы, безжизненным организмом, а так как патриарх продолжал оставаться в рядах оппозиции, нельзя было прибегнуть к той временной мере, которую применили во время недавнего междуцарствия. Члены правительственного организма оказались не только неподвижными, но и в раздоре между собою. В. В. Голицын, поддерживаемый Ляпуновыми, выставил свою кандидатуру. В партии, в которой действовал Филарет со своими приверженцами, стала намечаться кандидатура одного из Романовых. Более осведомленная о положении дел избранная часть старейшей родовой знати вместе с Ф. И. Мстиславским и И. С. Куракиным, со своей стороны, полагала, что выбор ограничен: избранными могут быть только или Владислав, или Дмитрий. При такой альтернативе на худой конец можно было считать приемлемым, под условием кое-каких поправок, договор, на который согласились тушинские конфедераты. На этом дело и кончилось. На общем собрании, которое последовало в самый день свержения с престола Шуйского за собранием, порешившим это низложение, согласно постановили исключить из числа кандидатов всех москвитян, а это было почти равносильно признанию польского королевича. Впрочем, тут же было постановлено вести переговоры с Сигизмундом, чтобы добиться от него дополнительных гарантий.[364]
А ведь необходимо было, чтобы кто-нибудь правил в ожидании избрания царя. Нам неизвестно, каким образом пришли к мысли учредить «семибоярщину», в которой заседали четыре представителя старейших княжеских родов: Ф. И. Мстиславский, И. М. Воротынский, А. В. Трубецкой и А. В. Голицын вместе с одним из Романовых, Иваном Никитичем, и двумя его родственниками, Ф. И. Шереметевым и князем Бор. Мих. Лыковым. Надо полагать, что сначала в этом списке был также и В. В. Голицын, но, без сомнения, товарищи его предпочли от него избавиться, отправив его под Смоленск для переговоров с Сигизмундом. Каким бы то ни было образом, во главе власти стала высшая знать страны: представители родовой знати тут смешались с выслужившимися при дворе боярами. В состав правительства не вошли несколько отсутствовавших в то время и И. С. Куракин: он был отстранен за свои чересчур явные симпатии к полякам. Впрочем, и возникновение и состав этой корпорации представляют много неизвестного.[365]
Как все правительства того времени, Семибоярская Дума заявляла притязания, будто она была исполнительницей воли Земского собора, облекшего ее полномочиями. Очень возможно, что при ее учреждении существовало некое иное подобие представительного собрания, но оно не могло взаправду собирать мнения областей. Южные области были отрезаны от всяких сообщений со столицею; центральные находились во власти Жолкевского, а посоветоваться с остальными не хватило времени. На это потребовались бы месяцы, а Москва, очутившись между двух огней, должна была усчитывать каждый день.
10 июля (20 июля нов. стиля) Жолкевский выступил из Можайска, отправив вперед в Москву послания, в которых ссылался на свои заботы, как бы охранить столицу от «вора». Временное правительство с гордостью заявило ему, что оно не нуждается в его помощи. Но четыре дня спустя гетман был уже под Хорошевым, в семи верстах от города. Одновременно с ним двинулись на приступ города отряды самозванца, между тем как Захар Ляпунов возмущал чернь в пользу его. С обеих сторон начались переговоры. Семибоярщина первая начала сноситься с Жолкевским, а с другой стороны, через посредство Сапеги, пытался войти в сношения с ним Лжедмитрий II. Он предлагал Речи Посполитой три миллиона злотых, сто тысяч королевичу и пятнадцатитысячный корпус королю для войны со Швецией и обещание завоевать у нее Ливонию для Польши.[366] Несмотря на искушение, когда «вор» ему лично делал великолепные обещания, Жолкевский отказался выслушать эти предложения. Нелегко было ему придти к соглашению с Мстиславским и остальными шестью боярами. Они требовали от королевича Владислава обращения в православие и обещания не ставить польских гарнизонов в пограничных крепостях Московии. Этим в особенности они желали заявить, чтобы в этой пограничной области не давались полякам поместья и вотчины. А ведь Жолкевский знал, как Сигизмунд собирается воспользоваться ими, и, будучи сам ревностным католиком, он не имел желания идти в религиозной области против явной воли своего государя. Впрочем, с самой Клушинской битвы он ожидал со дня на день инструкций из Смоленска, но Сигизмунд, все еще весьма медлительный, не спешил прислать их.
В тщетных переговорах прошло три недели; ждать дольше было невозможно: у самой столицы стоял самозванец, это во-первых, а во-вторых Клушинские победители, не получая жалованья, стали делать вид, что они не прочь последовать примеру наемников в войске Делагарди. При таком стеснительном положении Жолкевский решился вступить в сделку. Условившись относительно вопросов, связанных с материальными интересами, он сумел обойти молчанием вопрос о вере, и Владислав был избран на московский престол.
II. Избрание Владислава
17-го августа на Девичьем Поле три боярина, князья Ф. И. Мстиславский, В. В. Голицын и Д. И. Мезецкий, в сопровождении двух думских дьяков, Василия Телепнева и Томилы Луговского, взяли на себя решение судьбы отечества, объявив себя уполномоченными «всей земли».[367] В основу был принят Тушинский договор; новые посредники ввели только некоторые поправки, главным образом, относительно некоторых привилегий, не принятых конфедератами в соображение: за представителями главных княжеских родов было признано право старшинства, и им было обеспечено преимущество в милостях. С другой стороны, ограничение самодержавия, принятое тушинцами, было сохранено. Самодержавие только что утратило всякое доверие при Шуйском. Мстиславский и ему подобные, кроме того, питали личную злобу к самодержавию и готовы были дать ей исход перед государем иноземного происхождения. Жертвы Грозного и Годунова, представители древних великокняжеских родов, пройдя через воспоминания, оставленные им этим двойственным прошлым, благодаря более развитой в среде их культуре легче других соотечественников своих поддавались очарованию польских вольностей. В чисто политической части нового договора была исключена только статья, касающаяся права свободного выезда за границу с торговыми и научными целями. Она явно шла слишком вразрез со взглядами москвитян и их склонностью к строгому обособлению от других народов. Была включена статья, ставящая условием, чтобы Тушинский вор был покорен общими силами, а Марина возвращена в Польшу. Наконец, Жолкевский, от имени короля, обязался, вывести польские войска из всех занятых ими территорий. Не могли придти к соглашению в особенности относительно обращения в православие будущего царя, его «крещения», как говорили в Москве; решение этого вопроса было отложено до непосредственных переговоров с Сигизмундом.
На другой день москвитяне присягали новому государю сначала в открытом поле, на полпути между польским лагерем и столицей, а затем в Успенском соборе в присутствии патриарха. Гермоген довольно покорно согласился на совершение этого обряда: в указе, разосланном по областям, сказано было, что Владислав обязался принять венец из рук верховного святителя, что могло сойти за обещание отречься от католичества.[368] В договоре об этом ни слова не было сказано, но ему приписывали все, чего хотели.
Следующие дни были посвящены пиршествам. Сначала Жолкевский с большой пышностью принимал главных бояр, которым он роздал в виде подарка: лошадей, седла, сабли, ценные кружки. Затем он со своими полковниками был приглашен на не менее роскошный пир у кн. Мстиславского. За столом московского вельможи спутники гетмана, как некогда спутники Марины, едва прикасались к. московской стряпне; они угощались только французским пирожным и жаловались, что им нечем напиться в виду разнообразия напитков, подававшихся, впрочем, в изобилии. Им нужно было, по-видимому, пить один какой-либо напиток, чтобы у них закружилась голова! Подарками они тоже остались недовольны. Однако им понравился бой с медведями, устроенный для них после обеда; по достоинству оценили они белого сокола и охотничью собаку, предложенных хозяином Жолкевскому.[369]
Гетман, однако, имел более серьезные причины не слишком предаваться веселью во время этого пиршества. Он узнал сначала от Федьки Андронова, посланного в качестве гонца, а затем от Гонсевского, привезшего инструкции от Сигизмунда, что король заявляет притязания на царский титул для себя лично. Жолкевский, хотя и хвастался всегда откровенностью, очевидно, все-таки преувеличил в своих мемуарах[370] изумление свое по поводу этого решения короля. Он не мог не знать возражений, которые делались на берегах Вислы против вступления Владислава на московский престол. Шляхта вовсе не могла желать, чтобы Владислав, которому рано или поздно придется принять польскую корону, учился делу управления в Московии. С другой стороны, замена сына отцом не казалась неприемлемой для тех москвитян, которые искренно признавали принцип польской кандидатуры: бояре, готовые отдаться в руки Польши из страха перед «вором» и смутой, или бывшие приверженцы Дмитрия, надеявшиеся таким образом избежать крутой реакции, не придавали большой важности личности государя. Кроме этих малочисленных убежденных полонофилов, различались еще две группы: покорные, готовые признать польского царя, если он примет православие, и для них отец или сын – помеха была одинаковая, потому что Сигизмунд не соглашался, чтобы Владислав переменил религию; и затем непримиримые, убежденные националисты, которые в религиозном вопросе видели лишь надежное средство устранить вовсе польскую кандидатуру. На деле личная кандидатура короля не встречала никаких серьезных препятствий, пока бояре и тушинские конфедераты оставались господами положения; впоследствии, когда восторжествовала национальная партия, Сигизмунд и Владислав оба были одинаково устранены.
Как ни велика была проницательность Жолкевского, он, кажется, недостаточно распознал все эти элементы бесспорно весьма сложного положения. Подписав от имени короля договор в пользу Владислава, он как будто считал также вопросом чести хитроумно отстаивать даже букву этого договора. Наконец, другие заботы отвлекали все его внимание и все его силы. Надо было избавиться от Дмитрия. Пользуясь своим авторитетом, гетман старался привлечь Сапегу, который продолжал играть при «воре» двусмысленную роль. Приглашенный в качестве посредника для устройства какого-нибудь соглашения, староста усвятский охотно пошел на это. Но Дмитрий на сделанное ему предложение поселиться в Польше ответил, что он «предпочел бы рабство у крестьянина позору есть хлеб короля». Вмешавшаяся в переговоры Марина прибавила к этому высокомерному ответу тонкую насмешку: «Пусть король уступит царю Краков, тогда царь подарит ему взамен Варшаву».[371]
Надо было прибегнуть к оружию. Мстиславский присоединил московские войска к войскам Жолкевского, и первый боярин Москвы подчинился польскому полководцу. Жолкевский ночью подступил к лагерю Сапеги. Испуганные люди старосты усвятского послали парламентеров, и их начальник сам явился к Жолкевскому: «Пусть захватят „вора“, он не станет мешать этому!»[372] Москва отделяла союзные войска от монастыря св. Николая, где тогда находились вместе Дмитрий и Марина. С разрешения Мстиславского поляки прошли через столицу, но Дмитрий и Марина были во время предупреждены, и их не удалось захватить. Быстрое отступление укрыло их. Но отпадение Сапеги лишило их возможности стоять лагерем под Москвой, и «вор» с Мариной отступил к Калуге. За ними последовали казаки. Что касается москвитян, сохранивших преданность Дмитрию, то они готовы были по большей части признать Владислава под условием сохранения за ними чинов, полученных ими на службе претендента. Это условие помешало соглашению, так как Жолкевский не мог заставить бояр подписать его. Со своей стороны, Жолкевский сделал крупную ошибку, отказав передать Заруцкому, который мужественно сражался под его начальством при Клушине, предводительствование над присоединившимися к нему или готовыми пристать к нему москвитянами. Пользовавшиеся очень большой славой в народе атаман живо подговорил большую часть своих людей и направился с ними к Калуге, где его ждала романтическая и печальная участь. Поляки Сапеги, напротив, все перешли на службу к королю, который обещал платить им жалованье.
Жолкевский, сообразивши теперь лучше положение дел, стал торопить, чтобы отправили послов под Смоленск для заключения окончательного соглашения с Сигизмундом. По его мнению, это было прекрасным средством удалить из столицы некоторых подозрительных лиц. С этой целью, льстя В. В. Голицыну, он уговорил его принять на себя председательствование в этом посольстве; удалось ему включить в посольство и Филарета. Вошли в него также Авраамий Палицын с Захаром Ляпуновым и представители всех сословий, избранные в таком количестве, что посольство состояло из 1 246 лиц, сопровождаемых 4 000 писарей и слуг: еще одно собрание, маленький собор, эманация большего собора, которому приписывали избрание Владислава![373]
Наказ, подробно выработанный для этих выборных, занимает 85 страниц убористого шрифта; он настаивает главным образом на следующих пунктах: Владислав должен перейти в православие в самом лагере под Смоленском, еще раньше, чем отправится в путь к Москве; по восшествии на престол он должен отказаться от всяких сношений с папой в религиозных вопросах; жениться он должен в Московии на православной; король, со своей стороны, должен снять осаду со Смоленска и возвратиться в Польшу. В крайнем случае переход царя в православие выборные могут отложить до приезда его в Москву, лишь бы он прибыл туда по возможности скорее. Чтобы дать королю залог своей искренности, бояре согласились в то же время на то, чтобы бывший царь Шуйский и его два брата были отправлены в Польшу. Так как Гермоген не признавал действительным насильного пострижения бывшего государя, то эта предосторожность казалась полезной. Однако из опасения, что москвитяне сочтут это оскорблением, Василий Иванович и его родные были предварительно удалены из столицы и помещены вблизи границы.
Эти меры временно облегчили политическое положение; но военное положение оставалось внушающим опасения. Дмитрий укрепился в Калуге и набирал новых приверженцев из соседних областей. Чтобы обуздать его, Жолкевский не нашел другого средства, кроме того, что послал в Северщину загадочного старосту усвятского с несколькими людьми и десятью тысячами рублей московских денег, чтобы на них нанять других. Расхищение московских сокровищ начиналось! Но, прибывши к месту назначения, двоюродный брат великого канцлера Литовского, очевидно, получил от последнего другие инструкции. Немедленное замирение страны вовсе не согласовалось с планами короля, которого в этом случае можно упрекнуть в нечестности, но нельзя отрицать, что он проявил много деловитости и проницательности. Сигизмунд ясно понимал, что лишь страх перед «вором» дал Польше наиболее решительных сторонников в Московии. Уничтожить сейчас же это пугало было бы большой неосторожностью, и вот Ян Сапега получил секретное предписание не только щадить Дмитрия, но в случае нужды оказать ему и поддержку. Со своей стороны, страну опустошали остатки тушинской армии, казаки и поляки под предводительством Лисовского и Прозовецкого, другого очень предприимчивого начальника, и неизвестно было даже доподлинно, кому служили они. Наконец, шведы, со времени избрания Владислава обратившиеся из союзников во врагов, завладели Ладогой и пытались захватить врасплох Ивангород, сохранивший преданность Дмитрию.
Расположившись под Москвою лагерем со своей маленькой армией, Жолкевский чувствовал себя в очень большой опасности; однако, он не дерзал ввести поляков в громадный город, где можно было ожидать возмущения фанатичных элементов, как только станет известно, что Сигизмунд думает воссесть на престол вместо своего сына. Но именно это опасение и побудило бояр признать милостью то, что раньше они считали оскорблением. Они предались полякам; на поляков они возлагали задачу защищать их от общей опасности. Гетман уступил с большой неохотой. Он надеялся, что король присоединит к нему малочисленное, но превосходное войско, которое ничего путного не делало под Смоленском. К несчастью, Сигизмунд, со своей стороны, ждал присоединения всей Польши. Но Польша теперь, несмотря на все просьбы, ходатайства и мольбы, не двигалась. Она не хотела ничего ни видеть, ни соображать. В последний раз перед роковым часом, когда она должна была покорно подчиниться завоеванию, ей был предоставлен случай проявить свое просветительное и завоевательное могущество и даже со всеми данными на успех, как признает один из самых выдающихся русских историков.[374] Она не захотела. У нее не хватало уже ни духа, ни рассудка. Она предоставила своему королю по следам нескольких отважных авантюристов искать приключений и одному добиваться недостижимой цели. В феврале 1610 года Сигизмунд принужден был продать или заложить свои драгоценности;[375] обескураженный, несмотря на события под Клушиным; неуверенный в возможности воспользоваться плодами этой победы, он все более и более упорно цеплялся за мысль, что снять осаду со Смоленска значит выпустить добычу, погнавшись за тенью. Во всяком случае, если ему удастся взять эту крепость, ему неопасно будет возвратиться в Краков с пустыми руками и подвергнуться там гневу своих грозных подданных. И как его подданные покинули своего короля, так он покинул своего гетмана.
И Жолкевскому опять пришлось взять смелостью. Это был страшный опыт. При первом известии о вступлении поляков в Москву все колокола зазвонили. Мятеж снова готов был вспыхнуть. Испуганные бояре просили подождать, и Жолкевский предложил расположить свои войска в предместьях. Но это было еще хуже. В пригородах Москвы находилось множество монастырей; предназначенный для самого Жолкевского и его главного штаба Новодевичий монастырь был женский; монахини всполошились; Гермоген вознегодовал. Кроме того, поляки, особенно тушинские, тоже не были довольны таким распоряжением. Все еще в ожидании обещанного жалования, они терпеливо ждали лишь в надежде добраться скоро до Кремля и его сокровищ. Надо было ладить со всеми этими мятежными элементами. Бояре старались умиротворить толпу и внушить патриарху более правильное понимание положения дел. «Если Жолкевский уйдет, нам останется только последовать за ним, чтобы спасти наши головы», кричал ему Иван Романов, и, так как старый патриарх упорно стоял на своем, Мстиславский сказал ему, наконец, грубо: «Нечего попам мешаться в государственные дела!»[376] В ночь с 20 на 21 сентября 1610 года поляки тихо проникли в сердце столицы, заняли Кремль и два центральных квартала, Китай-город и Белый Город; расположились они также и в Новодевичьем монастыре, несмотря на возмущение монахинь.
III. Занятие Москвы
Жолкевский все еще был в большом затруднении. Он обратил внимание своих полковников на то, что в Кремле очень трудно будет защищаться. Кремль представлял центр всех административных дел; хотя он и был укреплен, однако, обширная ограда его была обыкновенно всегда открыта для всех, и в нем зачастую собиралась значительная толпа народа. К тому же у поляков не было пехоты, которая могла бы нести службу на оградах. «Нужды нет, – возражал на это пылкий Мархоцкий. – Мы хорошо деремся промеж собою и пешком!» Он, вероятно, и не подозревал, как хорошо сказал.
Укрепления города были внушительны для того времени: толстые стены, по краям четыреугольные башни; отверстая в стенах для пушек; бойницы для стрелков из лука и пищалей; подземные ходы, соединяющее все укрепления; тяжелой артиллерии в изобилии. Но ограда имела в окружности более двух километров.[377] Эта часть города не носила еще тогда названия, под которым потом прославилась. Кремль, вероятно, представляет искажение слова Крым, и в начале семнадцатого столетия говорили еще Крым-город, или татарский город. Китай-город, наоборот, отнюдь не обозначает: китайский город, хотя впоследствии графу Шувалову и удалось убедить в этом Вольтера. Москвитяне в семнадцатом столетии не имели еще сношений с столь отдаленной частью Азии. Китай-город назван был так во время правления Елены Глинской, матери Ивана IV, несомненно, в память места рождения этой княгини, польского города Китайгрод, в нынешней Подольской губернии. Вместе с Белым Городом, названным так потому, что все дома его были выбелены известью, Китай-город, находящейся в непосредственном соседстве с Кремлем, представлял собою самую населенную и самую оживленную часть города, торговую часть его, которую пересекали все главные улицы. Немногочисленные поляки точно – потонули в этом море людей. Однако, благодаря искусству Жолкевского, занятие Москвы наладилось и сначала шло без всяких препятствий.
Рассмотрение распрей и ссор, возникавших между поляками и москвитянами, возложено было на смешанное судилище, в котором обе национальности представлены были в одинаковом количестве, и беспристрастность суда обеспечивала некоторое время поддержание строгой дисциплины. Один поляк, арианский сектант, выстрелил из пистолета в образ Богоматери. Его арестовали и присудили: отрубить ему руки и затем живьем сжечь. Другого за похищение молодой москвитянки наказали кнутом. Гонсевскому, который к своему польскому титулу старосты велижского прибавил пожалованное ему указом Сигизмунда и никем не оспариваемое звание московского боярина, Жолкевский поручил командование над стрельцами, что отдавало в его руки всю полицию города. Прежний посол был лучшим солдатом, чем дипломатом; но вежливость и великодушие гетмана много помогали ему при исполнении его опасных обязанностей, так что его новые подчиненные свою ненарушимую преданность ему проявляли тем, что сами доносили на недоброжелателей и брались ловить их. Продовольствие польского гарнизона организовано было по системе, испытанной уже при Тушине, которая, указав каждой роте определенную область, ставила центры снабжения продовольствием в прямую зависимость от частей войска, которые они продовольствовали. Сношение с королевской армией было в то же время обеспечено занятием Можайска, Борисова и Вереи, и таким образом военная проблема казалась частью разрешенной.